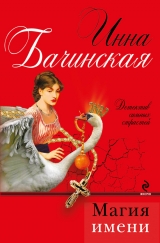
Текст книги "Магия имени"
Автор книги: Инна Бачинская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Она навестила пана Станислава и его мать через неделю. Гальчевский очень волновался, ожидая гостью. Он достал из буфета семейную реликвию – кофейный сервиз тонкого полупрозрачного фарфора, настоящий севр, и серебряные ложечки. В обеденный перерыв забежал в кондитерскую лавку и купил миндального печенья, а из-под прилавка – свежемолотого австрийского кофе. Товары из-под прилавка становились знамением времени.
Пани Изабеллу сын строго проинструктировал, что можно говорить, а чего нельзя. Нельзя о политике, арестах, «лесных братьях», нельзя ругать новую власть, жаловаться, что забрали аптеку. Пани Изабелла с нарумяненными щеками, с прической, которую сделала приглашенная на дом парикмахерша пани Ядзя, нетерпеливо ожидала «советку». Развлечений в жизни парализованной дамы было немного.
– Стасюню! – поминутно звала она сына. – Не забудь салфеточки! Возьми те, что я вышивала, с фиалочками! А ликер? Ты купил ликер? – кричала она через минуту. – У Богдановича!
Какой Богданович? Где он, тот Богданович, бывший владелец пивного погребка? Нету! Был, да сплыл. Ушел с немцами, говорят. Старая дама слегка заговаривалась и путалась в событиях.
– Стасюню, а чи ма мы хербатке? Вдруг «советка» не пьет кофе? Они ж больше чай пьют! Есть у нас чай?
– Есть! Нех мама не пшеймуе се, вшистко бендзе добже, в пожондку [3]3
Пусть мама не волнуется, все будет хорошо, в порядке ( польск.).
[Закрыть], – отвечал пан Станислав, волнуясь и поглядывая на часы.
Они очень мило посидели тогда. Дом Гальчевских был уютным и старым, с солидной мебелью, оставшейся от родителей отца, с фамильными фотографиями и вышитыми готическими буквами прописными истинами на стенах – под стеклом и в рамочках. Букетики сухих цветов стояли в фарфоровых причудливых вазочках, кружевные, слегка пожелтевшие салфеточки украшали комод, диванную спинку и буфетные полочки. Картины в массивных золотых рамах темнели на стенах. Алла Михайловна даже подошла ближе, чтобы рассмотреть одну из них: дети, бегущие от грозы, а над ними простирает белые крылья ангел-хранитель. Пахло ванилью, мастикой для пола, духами пани Изабеллы, кофе и чуть-чуть нафталином. Всюду царил идеальный порядок, всякая вещь знала свое место.
Старая дама, правда, забывалась иногда и принималась сетовать на «новую власть, ктура забрала аптеке», или порывалась рассказать о соседе Влодеке, которого «заарештовали за ниц», то есть «ни за что», но бдительный пан Станислав тут же переводил разговор на безопасные темы, от души надеясь, что пани Алла не слишком хорошо понимает по-польски.
Он проводил Аллу Михайловну домой и поцеловал ей на прощание руку, которую она, смущенная, лишь усилием воли не отдернула, испытывая при этом чувство умиленной радости, ощущая себя женщиной, молодой и красивой. Уже попрощавшись, пан Станислав вдруг вспомнил, что не отдал пани Алле подарок от мамы.
– Пожалуйста, – сказал он, протягивая маленький, перевязанный сентиментальной голубой ленточкой, пакетик, – на доброе знакомство!
В пакетике оказался хрустальный флакон французских духов, еще довоенных, с запахом, таким сладким и нежным, что у Аллы Михайловны закружилась голова. На другой день она спросила свою квартирную хозяйку, не знает ли она хорошую портниху.
– Ну как же! – всплеснула руками пани Элена. – Пани Халина! Она и материал достанет… – Тут она прикусила язык, вспомнив, с кем говорит.
В ту же ночь пришел «лесной брат» и потребовал у Гальчевского не только лекарства, но и продукты. Увидев его, пан Станислав едва не умер на месте от ужаса – ему показалось, что они уже пронюхали про пани докторку и пришли убить их с мамой.
– Знаешь, Стасюню, по-моему, ты ей нравишься, – сказала как-то пани Изабелла, в который раз поражая сына своей проницательностью. – Неудивительно, такий файный млоды чловек, кажда кобьета мяла бы за щенсьце… [4]4
Неудивительно, такой прекрасный молодой человек, каждая женщина считала бы за счастье… ( польск.)
[Закрыть]
– Да ладно вам, мама… – перебил ее смущенный пан Станислав.
* * *
Пани Изабелла умерла через два месяца после знакомства с «советкой». Ушла тихо и деликатно, как умирают божьи избранники – просто однажды утром не проснулась. Осиротевший пан Станислав, несколько соседей и ксендз собрались на старом кладбище проводить пани Изабеллу в последний путь. День был мрачный и ненастный. С утра не прекращался мокрый снег с дождем и дул пронизывающий ветер. Типичная погода для западноевропейской зимы. Они стояли, укрываясь зонтиками от ненастья, среди города мертвых с его домиками-усыпальницами, с печальными позеленевшими ангелочками когда-то белого мрамора, решетками ажурного литья и урнами с осыпавшимися каменными цветами.
Вернувшись домой, пан Станислав налил себе стопку самогона – сизо-голубого вонючего бимбера, подпер щеку рукой и задумался о том, как жить дальше. Горе его было неподдельным – он любил пани Изабеллу и был примерным сыном, но где-то глубоко внутри тем не менее зрела крамольная мысль о том, что смерть матери освободила его от тяжкой повинности ухаживать за властной и капризной больной и что смерть эта стала в большей степени знаком новых времен, чем красный флаг на ратуше и солдаты в чужих мундирах, марширующие по городским улицам. Былое ушло безвозвратно. И, значит, надо жить дальше и приспосабливаться к новым условиям.
Такие вот философские мысли теснились в нетрезвой голове пана Станислава, когда раздался стук в дверь. Он решил, что пришли от «лесных братьев», но ошибся. Это была Алла Михайловна в новом элегантном темно-синем пальто с высокими подложенными плечами и синей же велюровой шляпе с широкими полями, чужая, красивая, непохожая на себя. С накрашенными губами. Пан Станислав даже не узнал ее сначала. На лице его проступило восхищение. Он отступил в сторону, пропуская Аллу Михайловну. «Это для пани Изабеллы», – сказала она, протягивая коробку с печеньем. Пан Станислав закрыл лицо руками…
В тот же вечер они стали любовниками. Влечение вспыхнуло в них как пожар. Пан Станислав, привыкший подчиняться матери, с готовностью принял лидерство новой подруги, испытывая глубокое уважение представителя буржуазного общества к ее неженской профессии, для которой нужно много и долго учиться.
Через некоторое время начмед пригласил Аллу Михайловну на беседу и по-мужски прямо сказал ей все, что он думает о ее романе с местным жителем. Алла Михайловна так же прямо и по-мужски ответила, что она думает о нем самом и таких мужиках, как он. Слава богу, она уже знала разницу. И подала рапорт об увольнении.
Они уехали с Западной Украины спустя полтора месяца, посетив перед отъездом могилку пани Изабеллы. Положили цветы и задумались о бренности жизни. Алла Михайловна деликатно отошла. Спустя некоторое время пан Станислав, с покрасневшими глазами, присоединился к ней, и они неторопливо пошли по мощеной кладбищенской аллее к выходу. В душе пана Станислава звучала сладко-горькая скрипичная мелодия полонеза Огинского, который на самом деле называется «Прощание с родиной».
Судьба посторонилась и пропустила их вперед…
Они поселились в родном городе Аллы Михайловны, который стоял на спокойной, плавно текущей реке, еще недавно судоходной, а теперь обмелевшей. Алла Михайловна поступила в городскую больницу хирургом, а пан Станислав, перекрестившись в Станислава Семеновича, за что мысленно не раз просил прощения у покойного отца, устроился провизором в пятую районную аптеку, что находилась недалеко от их дома. И стали жить они поживать, тихо и безмятежно, и добра наживать.
Кто-то мог бы подумать, что пан Станислав был обыкновенным подкаблучником, но это не совсем так. Конечно, Алла Михайловна, будучи женщиной решительной, громогласной и рубящей сплеча, являлась лидером в семейном коллективе. Рядом с ней пан Станислав действительно выглядел подкаблучником. Знакомые называли его «военным трофеем» Аллы Михайловны.
Но… Всегда существует «но», не правда ли? Алла обожала мужа и дико ревновала и в то же время прекрасно понимала, что, несмотря на мягкость и деликатность, пан Станислав обладает характером, убеждениями и моралью, переступать через которые он не станет ни за какие блага. Выслушав, например, рассказ жены об очередном конфликте в отделении, где Алла Михайловна пыталась насадить военный порядок и дисциплину, и ее сетования на бардак, царящий на гражданке, он мягко и доходчиво раскладывал конфликт на составные части, а составные части по полочкам – кто прав, кто виноват и кому вообще следовало бы промолчать, а если не промолчать, то какими именно словами выразить свой упрек.
– Подумаешь, – говорила Алла Михайловна, внутренне соглашаясь с доводами мужа, но не желая быстро сдаваться, – нежные какие – не так сказала! Переживут! Мы и не такое переживали на фронте…
Через несколько лет Аллу Михайловну назначили заведующей хирургическим отделением, а затем и главврачом больницы. Ушло несколько недовольных и нерадивых, рассыпая проклятия в адрес бой-бабы и стервы, но ядро коллектива осталось. Областная больница стала образцом для подражания: специалисты прекрасные, взяток не берут, блата не признают, словом, демократия в действии. Но и Алла Михайловна, как львица, отстаивала свой коллектив, выбивая квартиры молодым специалистам, и даже переманила уролога и хирурга из районной больницы, а потом отбивалась от жалоб, аргументируя содеянное тем, что «это вам не крепостное право» и «людям надо создавать условия». И никто не догадывался, что была в том заслуга пана Станислава, которому удавалось без особых усилий смягчать норов супруги.
Алла Михайловна ревновала мужа к посетительницам аптеки, к соседкам, которые забегали к милейшему Станиславу Семеновичу за советом косметического толка, ибо вскоре он стал известным в городе травником и косметологом, делал питательные и увлажняющие кремы с календулой, ромашкой, чередой и китайским лимонником, а его препараты от псориаза и себореи были чуть ли не единственными, которые действительно помогали, обладая вдобавок приятным запахом в отличие от патентованых средств. Начиная с мая и до поздней осени ранним утром в субботу и воскресенье уходил пан Станислав на охоту за растениями. Если кто-то думает, что собирать травы легче легкого – сорвал и запихнул в мешок, то он глубоко ошибается. Для всякого растения есть свой срок – период, когда оно накапливает наибольшее количество полезных веществ. Даже время дня для сбора имеет значение. Для одного это утро, для другого – закат, даже почвы, даже соседи и близость воды. Травоведение – это тонкая наука и религия одновременно, которая дается в руки людям спокойным, терпеливым и доброжелательным.
Алла Михайловна сопровождала мужа в лес сначала из-за подозрения его в тайных встречах с какой-нибудь молодой беспутной бабенкой, которая спит и видит, как отбить его у законной супруги. Потом втянулась и даже полюбила это дело. Ей открылся мир леса и луга с его голосами, запахами, мелким зверьем, птицами и насекомыми. Приятно было смотреть на эту пару немолодых уже людей в спортивных шароварах, ковбойках и кедах, в крымских белых войлочных шляпах с бахромой, с сумками через плечо, где лежал нехитрый завтрак. Пан Станислав знал лес наизусть, мог найти дорогу с закрытыми глазами и по шуму ветра в кроне дерева точно определить место, где они находились. Утомясь, они устраивались у ручья, быстрого болтливого торопыги со светлым песчаным дном и холодной родниковой водой. Лес стоял вокруг, живущий чистой правильной жизнью, без грязи, жадности и подлости мира людей. Оба молчали, и в их молчании были гармония взаимопонимания.
Хозяйством Алла Михайловна заниматься не любила, и они держали домработницу. Так к ним в дом попала семнадцатилетняя девушка Люда, казалось, навечно перепуганная городом, как сельская лошадь, нерасторопная и застенчивая. Люда варила несъедобную еду, била посуду и жгла утюгом постельное белье, гардины, комбинации и платья хозяйки. «Аллочка, она же совсем ребенок, – утешал жену пан Станислав, – научится!» И невдомек было Алле Михайловне, что ее муж испытывает к разгильдяйке и неумехе особые чувства, в которых соединились его тоска по нерожденному ребенку и благодарность престарелого любовника к молодой любовнице.
Да-да! Они стали любовниками. Как это случилось? Да как это обычно случается? Люся плакала после очередной хозяйской выволочки, всхлипывала и подвывала, а у пана Станислава сердце разрывалось от жалости. Он не придумал ничего лучше, как подарить ей на другой день золотое колечко с красным камешком в красной бархатной коробочке. Люська только и сказала: «Это мне? Насовсем?» – и слез как не бывало, и глазки засияли. Алла Михайловна искала любовниц мужа на стороне, а коварные любовники расположились прямо у нее под боком. Как многие подозрительные и недоверчивые люди, она питала собственные подозрительность и недоверчивость исключительно воображением, проходя мимо бросающихся в глаза вопиющих фактов. Застав как-то мужа гладящим ее крепдешиновое платье, она, в отличие от какой-нибудь сметливой бабенки, сразу догадавшейся бы, что дело тут нечисто, ровным счетом ничего не заподозрила. Ее возмутило, что пан Станислав делает работу за человека, которому за это платят. Это был непорядок.
Пан Станислав молча слушал раскаты грома, не переставая осторожно водить утюгом по особенно сложному рукавчику-фонарику, и только потом сказал:
– Аллочка, открою тебе один маленький секрет. Так есть, что этот род деятельности меня очень успокаивает. А так как на работе у меня возникли непредвиденные сложности… Нет, нет, не пугайся, ничего страшного! Просто одна вздорная клиентка подала на меня жалобу, и мне пришлось понервничать и написать объяснительную. Но сейчас благодаря твоему платью я успокоился!
Не раз, пытаясь развлечь девушку, пан Станислав напевал ей куплеты, которые слышал в довоенном львовском кабаре «Мулен руж», разухабистые, двусмысленные и веселые, и танцевал канкан, так высоко вскидывая ноги, что начинала дребезжать посуда в буфете. Все это, разумеется, в отсутствие жены. Люська, глядя на него, переставала плакать, запрокидывала голову и громко смеялась, мгновенно, как дети, переходя от горя к радости. Пан Станислав помолодел и ходил гоголем. Люська попросила продиктовать ей слова смешных непонятных песенок, старательно записала их, как смогла, и выучила наизусть. И теперь оба «преступника» «пускались во все тяжкие», распевая песни о легкомысленной панне Касе и ее кавалерах. Люська задирала юбчонку выше головы и прыгала, как коза. Они поднимли при этом страшный шум. «Панной Людмилой» называл Люську Гальчевский.
– Как панна Людмила сегодня спала? – спрашивал он по утрам, выходя на кухню.
– Дзенькую, бардзо добже, – отвечала она, сияя глазами. – А пан?
Это был ритуал, урок хороших манер и эмоциональная зарядка на весь день.
– А чи можна попросить панне о филижанечке кавы? – церемонно спрашивал пан Станислав, имея в виду чашечку кофе.
– Натуральне! – радовалась Люська. – З млечкем?
Потом на кухне появлялась заспанная Алла Михайловна, и игра тут же прекращалась. Заговорщики не выдавали себя ни взглядом, ни жестом. Закрой дверь перед человеческой натурой – она влезет в окно. Родина, любимая родина, возвратилась к пану Станиславу в образе белобрысой деревенской девахи, живо подхватившей его родной язык и рыдающей о смерти бедной панны Дануты. Они стали близки, им было легко вдвоем, они безоговорочно доверяли друг другу и могли пойти друг за другом в огонь и воду.
В один прекрасный день Людмила попросила у хозяйки расчет – она поступила в торгово-кооперативный техникум и собиралась работать по ночам вахтером в каком-то учреждении, а днем учиться. Убедил ее учиться, разумеется, пан Станислав.
Глава 5
Трембач, Люська и другие
– Эта дура непроходимая дуется из-за каких-то мифических баб! Какие бабы, я вас спрашиваю? Где они, эти бабы? Витек ей как-то сказал: мы, Зой, не бабники, мы пьяницы! Правильно сказал, между прочим. Вполне аргументированно. Но разве им докажешь?
Петр Петрович Трембач замолчал и задумался, держа вилку зубчиками вверх, отчего напоминал какое-то древнее божество – не то Нептуна, не то Бахуса. Перед ним на столе стоял скромный ужин – две тощие котлеты, купленные в магазине полуфабрикатов, черный хлеб, зеленый лук и бутылка дешевой водки из киоска.
– И теперь не приходит уже две недели. Обиделась. Нерациональный пол! Вот так-то, Пушок… тьфу! Какое-то бабское имя… Разве это имя для нормального мужика? Ты у нас будешь… Рюмчиком! Рюмчик! Совсем другое дело. Да, так о чем я? А! Я говорю, что с бабами одни неприятности, но без них тоже нельзя. Или можно?
Петр Петрович снова задумался. Серый скромный котик, которого Трембач звал то Пушком, то Рюмчиком, дремал в центре стола. Он съел уже одну котлету без особого удовольствия и, если бы умел говорить, спросил бы, почему еда пахнет не мясом, а какой-то дрянью.
– Твое здоровье! – Трембач поднес рюмку с водкой к носу кота. Тот дернул ушами, но глаз не открыл. Трембач выпил и сморщился: – Ну и дрянь! Тараканов морить. Ты, Рюмчик, главное, закусывай. – Он откусил от котлеты и снова сморщился. – Человек должен держать ситуацию под контролем! – Он посмотрел на кота и уточнил: – Животное, например, как ты, Пушок… то есть Рюмчик! Так вот, животное, кот например, тоже должно… должен держать ситуацию под контролем! – Он потянулся к бутылке, долго рассматривал этикетку. – Водка «Казачья»… Из чего же они ее делают? Из керосина, что ли? Или из пищевых отходов? Никакого контроля со стороны государственных органов… Качество – гаже не придумаешь! Так лапти сплетешь и не заметишь.
Кот Пушок-Рюмчик обладал особенностью спать в центре стола, если ему позволяли, разумеется, не обращая внимания на разговоры, звон стаканов, шум отодвигаемых стульев. Только при слишком громком звуке он слегка прижимал уши. Даже когда друг Трембача Витек хлопал его картами по ушам и ржал при этом, как табун лошадей, кот оставался невозмутимым.
Петр Петрович был в свое время интересным мужчиной. Даже сейчас, прокуренный и проспиртованный насквозь, он держался с известным шармом, возможно, за счет добродушия, правильного, несколько книжного языка и готовности рассмеяться чужой шутке или пошутить самому. Он был начитан, вежлив с окружающими и уступчив, правда, на трезвую голову. Хмель забирал его своеобразно. Стоило ему выпить, как он начинал говорить и уже не мог остановиться. «Понос слов, запор мыслей», – называл это состояние друг Трембача, грубый Витек. Петр любил поговорить на политические темы, пересказывая прочитанное накануне в газетах, подробно останавливался на обстановке в родном радиомеханическом техникуме, где преподавал физику, причем пользовался при этом ненормативной лексикой, чего никогда не позволял себе в трезвом состоянии.
Когда-то у него была жена, потом постоянная подруга, а теперь осталась лишь приходящая, которую звали Зоя. Сначала Зоя хотела выйти за Трембача замуж, но он все не звал, и теперь она уже и сама не знала, пошла бы за него или нет, если бы он попросил. Она работала бухгалтером в том же техникуме, была вдовой и воспитывала сына Игоря, которому исполнилось восемнадцать, и воспитывать его уже стало поздно. Игорь был неплохим парнем, только очень ленивым и расслабленным, как многие из его поколения. Но зато не наркоманил, не пил, не ходил по казино, а оттягивался, лежа в наушниках на диване в своей комнате и слушая «хеви метал».
Зоя приходила к Трембачу, готовила еду, прибирала, стирала и гладила его рубашки. Она была спокойной женщиой, но очень обидчивой. Иногда Трембач замечал, что Зоя с ним не разговаривает. Он, понимая, что обидел ее неосторожным словом, пытался и так загладить свою вину, и эдак, но Зоя молчала, стиснув зубы. Трембачу было неуютно, когда на него сердились. У него начиналась депрессия. «Ну, скажи хоть что-нибудь! Не молчи! – убеждал он Зою. – Ну, виноват я, ну сволочь, согласен, а ты королева. Пьяный был, не помню ни черта, что я такого сказал? Прости, если можешь!» И он ронял голову на грудь. Зоя, поджав губы, молча вытирала посуду. Даже в позе ее угадывался упрек.
– Она убивает меня своим молчанием, – жаловался Трембач другу Витьку. – Она молчит, а мне выть хочется!
– Пусть лучше молчит, чем пасть разевает, – отвечал грубый Витек. – Моя как разинет хлеборезку, как завизжит, так убил бы, чесслово, и рука бы не дрогнула! Стервида! Скажи спасибо, что твоя молчит.
Зоя обижается и уже две недели не приходит. Витек лежит в больнице с приступом язвы желудка, во власти врачей и стервиды. Трембач вчера зашел проведать его, так стервида, поверите, с места не сдвинулась, сидела, как бельмо на глазу, пасла его, чтоб они, не дай бог, не это самое… Так и унес непочатую в портфеле, провожаемый взглядами обоих – раненым Витька и торжествующе-подозрительным стервиды. Настроение было препоганое. Хоть Рюмчик, живая душа, поддерживает компанию. Трембач протянул руку и погладил кота по спине.
Люська, стоя на коленях на кафельном полу общей уборной, яростно терла мочалкой унитаз, резко вскидывая голову, чтобы отбросить с потного лба обесцвеченные перекисью пряди волос, и вытирала разгоряченное лицо о собственное плечо. Ярко-красная мочалка, синие резиновые перчатки, белый сияющий унитаз в мыльной пене – зрелище по накалу красок вполне импрессионистское.
– Убью, – бормотала Люська, споро двигая руками, – убью паскуду, которая не спускает воду и ссыт мимо! Поймаю и пообрываю яйца на…! Своими руками, и пусть тогда не жалуется! Закрыть и выдавать ключ по графику. Или вообще не давать. Лето на улице, иди сри на пустыре за огородами, нечего тут гадить и не спускать! И говорила же, предупреждала, пьянь подзаборная, алкаш хренов, химик гребаный! П-ф-ф-ф! – оттопырив губу, она пыталась сдуть упавшую на лоб непослушную прядь. – П-ф-ф-ф! Жара чертова, когда же это пекло кончится, сил никаких не осталось! А ведь лето еще впереди! – Люська переключилась на погоду, жалуясь на жару и отсутствие дождей.
В дверь деликатно постучали. Она оторвалась от своего занятия, выпрямилась и рявкнула:
– А ну, кому это так приспичило?
За дверью было тихо, никто не отозвался, потом прошаркали осторожные шаги – кто-то удалялся на цыпочках, видимо, решив отправиться за огороды. Люська рассмеялась.
У Людмилы Ивановны Кочетковой была нелегкая жизнь и взрывной характер. Выходить из трудных жизненных ситуаций ей приходилось самой, не рассчитывая на чью-либо поддержку, и главным ее жизненным правилом стало выкричать громко и визгливо все свои проблемы, причем чем громче, тем лучше, и не один раз. В определенный момент наступало просветление, и она представляла, что нужно делать дальше. Крик прекращался, и Люська начинала действовать.
Она всю жизнь была Люськой – и в семнадцать лет, когда перепуганным насмерть деревенским заморышем-сиротой приехала в город наниматься в санитарки в больницу, где работала ее тетка, сестра покойной матери. Постой, когда же это было? Е-мое! Тридцатник натикало! А кажется, только вчера. Ну, жизнь! Чего только не было! И неудачное замужество, и несчастье с Васенькой, и вечная нехватка денег на лекарства… Спасибо, Станислав Сигизмундович помогал, единственный друг, ближе отца родного. Официанткой вкалывала в ресторане, с ног падала от усталости, от заведующего, кобеля паршивого, отбивалась, а мысли все о Васеньке – как он там? Не плачет ли? Вдруг Андреиха уснула, а сын из кроватки вывалился да лежит голенький на полу, кричит-надрывается? Люська, помня свое бесприютное детство в семье старшего брата, безумно любила сына. И стоило ей уйти из дома на работу и оставить Васеньку на попечение старой глухой Андреихи, как ей сразу же мерещилось, что с ним приключилась беда. Ожиданием несчастья были заняты все ее мысли, и накликала в конце концов!
Она работала во вторую смену, возвращалась домой около часу ночи. Андреиха, накормив и уложив мальчика спать, уходила к себе. Васенька спал крепко и просыпался только утром. А в тот раз все случилось иначе. Как было, толком никто не знал, а Васенька не умел рассказать. Видимо, он проснулся, испугался и заплакал. Ему было пять тогда, маленький еще. Звал мать, наверное, а никто не откликнулся. Он кричал и плакал, сполз с кровати и уже на полу потерял сознание. Люська притащилась с работы, отперла дверь, прислушалась. Тихо, как всегда. «Спит, – подумала она, – ненаглядный мой!» И на кухню, сумки разгружать.
И только потом пошла взглянуть на сына. А он лежит на полу и не дышит! Как она испугалась тогда! Ноги подломились, и она опустилась рядом с Васенькой. Схватила его, а он холодный, застыл весь, как лед! Она давай его трясти и кричать. И что делать, не сообразит. Потом кинулась на улицу к телефону-автомату «Скорую» вызывать. Слава богу, хоть исправный был!
Врач сказал, у сына истерический припадок. У детей с повышенной возбудимостью бывает. Перерастет. Но нужно создать условия. Питание, витамины, никаких стрессов, терпение и ласка. И лучше оставить ночную работу.
– А отец где? – спросил врач.
– Нет отца, – ответила Люська, испытывая такую боль оттого, что у мальчика ее нет папы, такую жалость к нему, обделенному отцовской лаской, что не выдержала и разрыдалась.
– Вы, мамаша, не убивайтесь, – сказал доктор, – ничего страшного не произошло. Мальчик хороший, маленький только для своего возраста. Вы к какой детской поликлинике относитесь? К пятой? Зайдите к заведующей, скажите, от Здоровенко, пусть ребенка обследуют, если надо – поставят на учет. Там и путевку в санаторий получите бесплатную, и лекарства. Все будет хорошо!
И действительно, все так и было, как сказал врач «Скорой помощи». Выправился Васенька. Люська бросила денежную работу в ресторане, перешла завстоловой на завод – тоже место доходное, хотя с прежним не сравнить. Станислав Сигизмундович постарался, устроил ее. И с мальчиком сидел, когда нужно было. Казалось, все ничего, а только через два года припадок повторился и с тех пор нет-нет да и случается опять. Не так чтобы часто, а раз-два в год. Теряет Васенька сознание, часами лежит, как неживой. Люська куда только его не возила! И Станислав Сигизмундович травами отпаивал. Вроде помогало, припадков по полгода не было, а то и целый год, а потом все начиналось снова. И за что, за какие грехи к мальчику подлая хворь привязалась? За ее, Люськины, грехи! А в пятнадцать у Васеньки ноги отнялись. Почему – не знают. Говорят разное. И ничего не помогает. Уж как Люська убивалась, не передать! И массажистку нанимала, и по знахаркам, и по курортам моталась! Да так ничего и не помогло. Васенька умный, ласковый вырос. Учился неплохо, школу закончил, техникой интересуется, компьютерами. Станислав Сигизмундович ему на семнадцатилетие подарил компьютер, вдвоем сидели, осваивали, в игры играли. Да и сейчас – что старый, что малый, оба кричат, смеются громко. А на экране человечки бегают, кричат, стреляют! Цирк! Васенька и курсы компьютерные закончил. Зарабатывает, программы пишет. Музыкой интересуется, друзей много, по компьютеру разговаривают, общаются. В шахматы со Станиславом Сигизмундовичем или с Ростиком, дружком своим школьным, играет. Ростик – умный, серьезный мальчик, брата воспитывает, и бизнес у него. Ездит Васенька по дому на своей американской коляске из гуманитарной помощи, тоже Станислав Сигизмундович устроил. Когда он привез коляску, Васенька нарадоваться не мог – автоматика, сама ездит, да не ездит, а летает! А пять лет назад машину купили с ручным управлением. Все бы ничего, а нет-нет да и подумает Люська иногда, что взрослый Васенька уже, двадцать восемь исполнилось, жену бы ему подыскать…
Люська даром что немолодая, берется за любую работу. Убирает у людей, с детьми сидит, газетами торгует. «Мама, – говорит Васенька, – отдохни! Я заработаю!» Золотой мальчик! Эх, ноги бы ему! Красивый, умный, добрый, за что такое наказание?
Люська и Люська. И в шестнадцать, и в сорок с гаком. Людмилой Ивановной называет ее соседка из второй квартиры, Марина Юрьевна, Мара, пианистка из филармонии, очень культурная женщина. Муж ее, Артур Алексеевич, мужчина видный, осанистый, но говнистый, правда, с подковыркой, тоже «Людмила Ивановна» да «Людмила Ивановна», а сам зубы щерит, Люська у них убирает. Да участковый Владик Чеканюк, который наведывается время от времени (делать ему больше нечего, лучше бы хулиганов ловил!), после того как Люську полтора года назад доставили в райотдел («Замели», – выразился Васенька) за дебош в общественном месте – на базаре. Ну, еще когда ей вручали грамоту и премию от профсоюза за хорошую работу. Ну, и Трембач, бывший интеллигент, просит в конце месяца:
– Людмила Ивановна, займи «лимон» до получки!
– Перебьешься! – отвечает обычно Люська.
– Увы, не перебьюсь! – вздыхает Трембач. – К сожалению, Людмила Ивановна, не перебьюсь, ибо нахожусь в плену у подлого зелья! Так дашь или как? До получки?
* * *
«Год 1647-й был необычным годом – многочисленные знамения на небе и на земле обещали смуты, потрясения и всякие несчастья. Современный автор писал в городских хрониках, что уже весной налетевшие с Диких степей тучи саранчи уничтожили посевы и травы, а вслед за саранчой участились набеги татарской конницы. Летом случилось полное затмение Солнца, и вскоре после затмения комета встала на небе. Над Варшавой видели изображение могилы и креста огненного. По сему случаю был объявлен пост, отслужены молебны во всех городских костелах и даны различные обеты. Многие предсказывали чуму, которая разразится в стране и поразит все живое, и весь род человеческий вымрет. Наконец пришла зима, такая легкая, такая теплая, что даже очень старые люди не помнили подобной…» [5]5
Отрывок в переводе автора.
[Закрыть]
Пан Станислав читал вслух свой любимый роман, который знал почти наизусть, «Огнем и мечом», а его друг, священник католического храма Св. Петра и Павла, отец Генрик, лежал с закрытыми глазами, укрытый пледом в зеленую и черную клетку, и внимательно слушал.
Кто мог представить себе еще каких-нибудь восемь-десять лет назад, что дрожащая рука престарелого папы дотянется до их глубинки и благословит открытие у них ватиканской миссии – католического храма? И святого отца пришлют из самой Варшавы? И католики местные откуда-то набегут… Свобода!
– Какие жестокие времена были! – сказал отец Генрик вдруг, не открывая глаз. – Совсем недавно, каких-нибудь триста лет с небольшим…
– Ты знаешь, Ежи Гоффман снял фильм по роману вместе с русскими и украинцами, – сообщил пан Станислав, отрываясь от книги.
– С русскими и украинцами? Ты уже видел? – рассеянно, как показалось Гальчевскому, спросил отец Генрик.
– Нет, только читал в газете.
– Я бы хотел посмотреть…
– Я куплю дивиди, посмотрим вместе. Хочешь?
– Сташек, – сказал отец Генрик, не отвечая на вопрос, – ты извини, я что-то устал…








