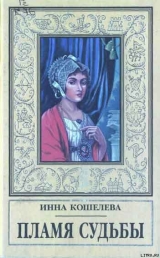
Текст книги "Пламя судьбы"
Автор книги: Инна Кошелева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
6
Репетиции затягивались. Затягивалось и строительство театра, к открытию которого Николай Петрович хотел приурочить премьеру «Белинды». Ждали от Ивара чертежа машины для сцены, способной извергать громы и метать молнии, а также быстро передвигать декорации вместе с полом.
Осень пришла ранняя, с холодами, бурями, в ноябре – с настоящими морозами. Актеры вместе с господами перебрались в Москву.
Здесь, на Никольской, вполне можно было показать высокому обществу «Новую колонию», но граф отказался. Не скрывал, что хочет представить Ковалеву в наилучшем виде, но умалчивал о том, что видели все бесконечные репетиции радовали его и были поводом для встреч с Парашей тет-а-тет. Между завтраком и обедом никто не смел входить в музыкальный кабинет, откуда доносились смех, пение, игра на виолончели и клавесине, обрывки разговоров. Параша и граф чувствовали себя вдвоем все свободнее, все раскованнее. Возникала потребность вновь видеть, вновь слушать друг друга, вновь делиться сомнениями и новостями. Они привыкали быть вместе, и в этом крылась опасность.
Анна совсем не без умысла решила именно в это время подружиться с Парашей.
Как только Калмыкова гасила внизу, на первом этаже актерского флигеля, свечи и закрывала двери на засов, думая, что все уже спят, на втором этаже начиналась своя жизнь. Девушки либо сбивались в стайки в больших общих спальнях, либо шушукались группками по углам. Тихо-тихо на цыпочках пробиралась Анна от своей отдельной комнаты к отдельной Парашиной (только им двоим полагалось такое жилье). Скреблась в дверь. И хотя Параша предпочла бы почитать, поиграть с Таней Шлыковой, которую опекала как старшая младшую, или, в конце концов, просто поспать, Анну она впускала. Боролась с собой, преодолевая неприязнь по примеру святой Евпраксии, и не давала воли недружелюбию.
Сколько раз Анна обижала ее, высмеивая ее девичью неопытность и то, что Паша не пытается завести поклонника среди хористов или танцоров. Сколько раз подчеркивала свое превосходство в телесной красоте. Параша кротко соглашалась. Одно преимущество девочки Анна признавала безоговорочно – голос, но тут же оговаривалась, что одного голоса для театра недостаточно, а для жизни и вовсе мало. Без всякой охоты отворяла Анне дверь Параша и, уж конечно, не шла ни на какую откровенность с немилой гостьей. Анну злило, что девочка не подпускает ее к себе, держит на расстоянии, но затеи своей она не оставляла.
Вряд ли она ставила себе определенную цель, но неясным желанием ее было выведать что-либо об отношениях юной певицы и молодого барина. Как распорядиться тайной – это можно решить после. Можно Пашку опозорить, уязвить ее сердце – она чувствительная. Можно старого барина Петра Борисовича напугать: мол, страсть пылкая, куда заведет? И принимать меры не самое ли время? А можно и молодому в нужный момент намекнуть – полощет Параша его белье, болтает языком.
Но Паша не болтала, ни об одной, даже самой крохотной, детали отношений с графом Буяновой не говорила.
Пришлось Анне несколько вечеров рассказывать младшей подружке об Артемии. Как сначала переглянулись. Как он коснулся ее, Анны, руки при входе в репетиционную комнату. А вот и вовсе событие – с дворовым мальчишкой передал ей записку. Риск большой: поймают парня – могут вернуть в село или плетьми наказать на конюшне. Девиц-актрис у Шереметевых блюдут строго.
Записку эту читали вдвоем с Парашей ночью, при свече, поставленной под кроватью, чтобы никто не увидел света снаружи, через окно. «Мы, как птицы в клетке. Но душа моя летит к тебе...» Вот-вот из глаз Параши брызнут слезы. Самое время спросить:
– А у тебя было такое?
– Что... такое?
– Ну, чтобы тебе... так же?
Хоть бы соврала, что ли... И это пригодилось бы. Так, мол, и так, сказать Николаю Петровичу мимоходом: не такая тихоня эта Пашенька. Как все Нет, мотает головой девочка – не было.
Последнее средство: сказать Параше о том, что у нее, Анны, с барином... Да страшновато. Чем ответит? Жаловаться не побежит, но что-нибудь совсем непредвиденное выкинуть может. Слезы развести или повеситься, как крепостной художник Семенов из-за чувств сделал. Ну а если совсем немного шагнуть в эту сторону и, в случае чего, назад отступить?
Как-то пришла к Паше ночью, бухнулась на лежанку, тихим голосом завела: «Ах, мой милый, ясный сокол...» Сунула Паше под нос тонкий батистовый платок.
– Понюхай, знакомо пахнет?
Знакомо. Было с этим запахом связано что-то хорошее. Но что? Не вспомнила.
«Одного вечор любила, нынче нового люблю», – мурлыкала Анна.
– Знаешь чей? – и платок ближе к Пашиным глазам, да так, чтобы виден был вензель, сплетенные «Н» и «Ш».
– Может, барина? – так спокойно, без всякого второго смысла спросила.
Анна поняла: «того» между барином и девчонкой пока точно не было.
Не меньше Анны обеспокоен был Петр Борисович. В отличие от актрисы он долго не придавал особого значения ежедневным встречам в библиотеке или в музыкальной гостиной и не видел в них беды. Да и мудрено было увидеть: больно уж не похожа Параша на вертихвостку, способную вскружить голову взрослому мужу. Дитя чистое...
«Уж это увлечение театром!» – раздражался старый граф. Дни проводить в репетициях вместо того, чтобы выехать в свет... А в свете, известно, женщины, и должна среди них отыскаться в конце концов одна, которая обратит взоры сына в сторону гнезда. Он, старик, ждет внуков, чтобы спокойно умереть. Хочется ему знать, кому отойдет несметное состояние, а наследник не спешит, как с писаной торбой носится с голосистой девчонкой и тратит на нее все свое время!
Но постепенно смутные подозрения все же закрались в голову старика уже после возвращения из Москвы в летнее Кусково.
Его удивило решение молодого графа отметить Парашины именины. Тринадцать лет – дата не круглая, да и круглые празднуются не у каждого актера или актрисы. Впрочем, по-летнему, в парке... Может так, повод порадоваться жизни, погулять?
В тайне от именинницы Николай Петрович объявил труппе о предстоящем празднике, так что каждый в театре мог подготовить в подарок девочке песню или романс, а собравшись по двое, по трое – и веселую добрую сценку.
Стал готовить свой «сюрприз» и Николенька Аргунов. Воспользовавшись случаем, попросил у молодого барина разрешения попробовать свои силы в парсуне. С натуры она пишется, а значит, будет у него возможность видеться с Пашенькой и говорить.
От графа он получил разрешение, но девочка неожиданно заупрямилась:
– Ты же только горшки умеешь изображать похоже...
Дразнит его?
– Вовсе нет. Я научился, – он старался держаться как можно взрослее и увереннее.
– Ну, если бы ты и вправду умел, то понял бы, что нет во мне ничего такого, что на полотно просилось бы. Смеяться и над тобой, и надо мною будут.
Грустно так сказала. Неужели и вправду так думает? Но мальчик не нашел слов, чтобы быстро возразить ей. А она вдруг засмеялась и взглянула на него так ласково, что он и вовсе растерялся.
– Если ты такой мастер, барина молодого напиши. На медальон. Я его вот здесь, на груди, носить буду.
– Ну уж нет! – вспылил юный живописец. – Он, конечно, и впрямь красавец... И над нами господин. А только мне тоже дана воля, что изображать, если не по заказу.
До вечера он маялся, ощущая как занозу первый в своей жизни укол ревности. Вечером нашел выход. Три дня истово постился, сидя на сухом хлебе и воде, исповедался в церкви и причастился, а после, устроившись в иконописной мастерской в самом дальнем уголке, два дня писал крохотный, совсем миниатюрный лик Богоматери. Получилась Дева слегка похожей на Пашеньку, но это знал лишь он, иконописцы же не заметили и похвалили. И радость от хорошо сделанной работы сняла горькую мальчишескую обиду, просветлила душу.
Еще один человек был всерьез озабочен подарком для Пашеньки – сам молодой граф.
В ту шкатулку, что стояла у него в музыкальном кабинете на камине и хранила дешевенькие цацки для девушек, заглядывать не стал – не тот случай. Просто к золоту, просто к яхонтам Парашенька равнодушна. Тут должен быть знак особый, тайный смысл.
Помнились ему золотые цепи, которыми он сам играл в детстве, когда матушка приходила целовать его на ночь. На сестре Варваре он их не видел, значит, цепи ему отошли по завещанию. Отважился спросить у батюшки ключ от тайника.
– Зачем? – вопрос был прямой, вид у старика суровый, а взгляд проницательный. Не проведешь, да и не умеет хитрить Николай Петрович.
Попытался ответить уклончиво. Мол, в матушкином наследстве есть и его доля, мол, сестре изумруды и яхонты отдали, пора бы и ему свое получить...
– И тебе отдам сразу, как женишься. Зачем теперь-то?
Пришлось молодому графу признаться:
– Хочу порадовать девицу более чем достойную ко дню Ангела.
– Прасковью-то? И я к ней расположен, росла на глазах. Но... Не дай Бог, если матушка там, на небесах, твои слова слышит. Семейные драгоценности... Десятилетиями, да что там, столетиями копившиеся... От прабабки – бабке, от матери – к дочери переходившие... И вот так, простой девке? Да не свихнулся ли ты, сын мой?!
– Она... Она... Актриса чудесная, редкая...
...В этот миг они, почти столкнувшиеся лбами в напоре, были удивительно похожи друг на друга. Гнев занимался, гнев разгорался в них с одинаковой скоростью. Оба пытались сдержаться и оба могли вот-вот сорваться в открытую ссору. Даже пятна на лицах у них выступали зеркально. У одного – склеротические, со старческой синевой, у другого – еще по-юношески розовые, но одинаковых очертаний.
– Впрочем, – отступил молодой, боясь худших неприятностей, чем невозможность взять из тайника золотые цепи (он так и видел их на милой девичьей шее!), – впрочем, хоть театр-то по-прежнему в полном моем распоряжении? Я многое хочу в нем поменять.
– В полном, – недовольно махнул рукой старик. – Делай там что хочешь.
На ровной полянке расстелены скатерти, в серебряных ведерках со льдом вынесены бутылки шампанского. Не слишком ли шикарно для такого случая? Но не стал старый граф попрекать управляющего, потому что отвлекся на именинницу, впервые увидев ее в совсем неожиданном свете.
В красной шали на фоне яркой летней зелени она вся была как в огне. С гитарой вышла на пригорок:
Мил, любезен василечек –
Рви, доколе он цветет,
Солнце зайдет, и цветочек...
Ах, увянет, упадет.
Закружилась, замелькала в глазах полымем.
Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
«Ай, ай, ай, жги!» – припевай.
Впервые после смерти жены и дочери старый граф вспомнил, что женщина может пьянить, захватывать душу и волхвовать над ней. Песня была не цыганская, слова сочинил поэт Дмитриев. И Параша не перенимала цыганскую манеру полностью. Все под простонародность, но только «под» – с изяществом и грацией аристократки. А темперамент, а внутренняя сила в ней были те самые, которые даются одной из многих и против которых не устоять.
Первым преподнес подарок сам Петр Борисович. Не без труда встав с единственного на поляне кресла, специально для него из дворца вынесенного, он набросил на девушку вторую шаль – кашемировую, цветастую.
Художник Николай Аргунов через голову повесил девушке на шею ладанку с ликом Богородицы, подруги подарили вышитые рушники, вязаные скатерки.
Когда очередь дошла до молодого графа, все вдруг смолкли. Николай Петрович, известно, щедр с девицами, скольких одарил кольцами и брошками за особые услуги. Что достанется этой?
Букет. Огромный изысканный букет белых заморских лилий, выращенных в оранжерее. Такого не ожидал никто, такое водится между барами, но чтобы хозяин своей крепостной... Пусть даже актрисе... Но еще удивительней был его тост.
– За именинницу! За Парашеньку! – и после того, как выпил: – Довожу до вас, друзья мои, что несравненную нашу певицу отныне все мы с почтением будем называть Прасковьей Жемчуговой. Ибо она – чистый жемчуг среди других драгоценных находок нашего театра. Зная равнодушие именинницы к золоту, яхонтам и прочим украшениям и стремясь приготовить подарок, соизмеримый с ее талантом, мы решили искать его в совершенстве любимого нашего театра. Поэтому здесь сообщу вам о грядущих переменах в нашей жизни. Мы оставляем все прежние постановки, которые не смогли довести до желаемого вида по многим причинам, и приступаем к новой работе.
Главные мужские партии остаются по-прежнему за Кохановским и Дегтяревым. А вот диспозиция с женскими ролями изменится. В каждой опере, с которой вы отныне будете знакомиться, главной героиней будет несравненная наша Пашенька. Она отныне первый сюжет. На второй назначаю Буянову, какая будет зваться на сцене Изумрудовой. Присваиваем имя Гранатовой Тане Шлыковой, поощряя прежде всего за танцы. Прежних наших девиц на первых ролях не обидим, просватаем не без приятности.
Ты будто огорчена, Степанида? Долгие годы ты радовала наш слух, в хорошем приданом найдешь за то награду.
Не ответила ничего Дегтярева, только низко склонила голову. Тоска на лице другой первой «звезды» Беденковой, недавно родила она дочку и жила в селе, но на приглашение Параши прийти на празднество не отказалась. Зло закусила губу Изумрудова. Щурится, скрывая ревность свою, давно влюбленный в Парашу Аргунов. Актеры насмешливо перешептываются, Параша чувствует себя мишенью под их взглядами, тонкий ее слух улавливает: «За какие заслуги?»
– И еще, – продолжал Николай Петрович, – еще сообщу вам, что в отличие от прочих певцов, даже первоклассных, Прасковья Ивановна будет иметь свои покои не во флигеле, а во дворце. Во-первых, потому что девица сия жила во дворце в детстве, будучи воспитанницей Марфы Михайловны, и княгиня по ней скучает. Во-вторых, куда чаще, чем к другим, я хочу обращаться к ней за советом относительно всех театральных дел, потому что, невзирая на юный возраст, обладает она вкусом отменным и знаниями весьма обширными. Безмерно почитаю в ней талант и нравственные свойства.
Теперь изменился в лице Вороблевский. Сколько лет он был единственным советчиком барина. Какую оперу ставить, как лучше перевести ту или иную сцену с иноземного языка на русский – все решал он. И вдруг – девчонка...
Встрепенулся и старый граф. Взлетели вверх тонкие брови калмычки Аннушки, взятой во дворец для «восточного колорита». Теперь она, подросшая и недобрая к слугам, повсюду сопровождает, старого барина, обращая его внимание на все недостатки в доме. Непорядок, ой непорядок...
Параша нервничает. Треплет тонкими пальцами бахрому алой шали. «Зачем он? Почему не предупредил вчера в библиотеке? Она бы уговорила: не так все надо делать...»
И даже княгиня Долгорукая, единственный человек, который радовался за себя и за девочку без оговорок, чего-то вдруг испугалась и не к месту охнула.
Бросилась к Пашеньке с поздравлениями только Таня Шлыкова. Девочка все больше и больше привязывалась к старшей подруге.
– Паша, ты рада? Рада? – шепнула Таня, целуя в щеку.
– Не знаю, – лицо именинницы горело. – Тревожно как-то, – тоже шепотом ответила Параша.
Она и до этого сталкивалась с завистью, зависть сопровождала ее с той минуты, как выделил ее молодой граф среди прочих девиц, поручив роль Белинды. Но, будучи доброй и доверчивой, она не обращала на зависть внимания и ощутила ее лишь тогда, когда злое чувство достигло той плотности, при которой она бьет, как кулак. Кулаком-то ее даже пьяный батюшка никогда не бил, а вот зависть ударила, чуть с ног не сбила.
...Что-то неладное сразу почувствовала, когда Анька предложила:
– Давай вечером праздник продолжим меж собою. Твое возвышение отметим, во дворец тебя, дорогую-разлюбезную, проводим.
Ох, не хотелось праздновать Параше, но откажись – и впрямь сочтут: вознеслась.
Общий ужин на девичьей половине актерского флигеля начался как всегда. Только Анна к чаю выложила на блюдо птифуры, прихваченные с дневного пиршества.
Таня Шлыкова протянула к пирожному руку. Сильно хлестнула по ней своей пухлой и крупной рукой Анна:
– Отяжелеешь. Сильфиду представлять не сможешь.
И съела маленькое пирожное сама, двумя кусами.
– А тебе можно? – огорчилась Танюша.
– Мне другая роль предназначена. Вот смотри, – Анна больно схватила Парашу за руку и вытянула из-за стола. – Эту корми не корми, все равно такой не будет, – и Анна звонко шлепнула себя руками по крутым бедрам. – И здесь, – оттянула глубокий вырез, – видишь что? А у этой «жемчужины»? Чем здесь любоваться можно? – рванула Анна Парашино платье на груди.
Та отступила, бледнея:
– Не трожь...
– Ишь, недотрога нашлась. Знаем таких Только помни: тебе со мною не равняться. Короток бабий век. Голос тебе дан, так ведь и он не вечен. Аль самого барина хочешь? Много таких найдется. Танька была Беденкова – не тебе чета. И что? По ночам кровью кашляет над дочкой своей. Остерегись, дура. Дорогу другим уступи, что тебя постарше.
– О чем ты? Не понимаю я.
– Ишь, непонятливая!
Тянула за подол Парашу Таня Шлыкова:
– Пошли, Пашенька, отсюда.
В коридоре Таня прижалась к Параше, и в рев:
– Не оставляй меня с этими злюками. Возьми с собой во дворец.
Параша обняла девочку за плечи.
– Не плачь, Танюша. Плохая я тебе защита, а все же... Не брошу.
А на другой день, придя в библиотеку на очередной урок, Николай Петрович увидел на месте Параши... старого графа Петра Борисовича. На невысказанный вопрос тот ответил:
– Девицу отправил прогуляться к пруду.
Когда же сын в гневе развернулся, чтобы уйти, старик властно остановил его:
– Разговор есть.
Николай Петрович взорвался:
– Я полагал, что вам негоже равняться с помещицей, которая для аппетита и хорошего настроения щиплет дворовую девку. Позвал, прогнал... С кошкой так не поступишь, с собакой... Сюда пришла репетировать свою партию блестящая певица, не только достоинством человеческим, но и редким Божьим даром владеющая.
– Девчонка сопливая – раз, в нашем владении находящаяся – два. Не больно-то заигрывай с крепостными, помни, какой урок нам преподал Емелька Пугачев.
– Как же тогда с идеалами вольности и равенства, которые императрица сама провозгласила вослед Вольтеру и Дидро?
– Пикантные извороты досужей мысли... А уж после «маркиза» Пугачева и вовсе... По мне что Спарта, что Афины, лишь бы все оставалось как есть.
– Зачем тогда провозглашать высокие истины?
– А затем, что слова «равенство», «свобода» звучат поприятнее, чем «ложь», «рабство»...
– И только-то? Но... Представьте себе, что вы родились не графом, а одним из тех, кого можно... вот так послать погулять. А при случае – и под плети. Какая, однако, боль и несправедливость!.. Душа та же, суть та же...
– А ты представляй, что ты граф! Не раб – господин! Только дурень не понимает, что несправедливость всегда допустима, если доставляет выгоду! Вы бы, сударь, лучше помнили: от рождения владея рабами, вы управляете частью империи. И держать их в руках – ваш долг. Дурень!
Ярость перехватила горло Николаю Петровичу – какое безверие, какое высокомерие! Цинизм какой!
– Да, я дурень! Потому что считал: положено иметь убеждения, из которых дела вытекать должны.
Но и старый граф был охвачен гневом. И, как обычно в такие минуты, желание поиздеваться над собеседником, «потоптаться» на нем взяло верх над логикой и разумом.
– Зачем же, позвольте, убеждения, коли есть соображения? Соображения же твои такие: Пашку очередной своей отрадой сделать и, пользуясь тем, что девица не дура, обставить все самым возвышенным образом. Ах, романтизм какой! Ах, как равны-то все... Ах, певица, ах, репетиции, ах, лилии – цветы невинные... А сам на нее смотришь, как кот на сметану... И во дворец надумал, поближе к спальне...
– А это уж дело мое, и ничье более!
– Заблуждаетесь, сын мой! И мое! Не позволю девицу переводить во дворец, пусть остается во флигеле. Как могу уйти на тот свет, зная, что наследник брюхатит своих актерок и не живет христианином, с женой и детьми? Хватит!
– «Христианином»... Из-за вас маменька столько слез пролила, вновь и вновь принимая побочников на воспитание!
– Не сметь покойницу трогать! Ты ее не стоишь!
– И вы не стоите! – с этими словами Николай Петрович так хлопнул дверью, что из ближайшего окна посыпались стекла. А Петр Борисович отвалился на спинку кресла. Дурно ему стало. Душно.
– Лишу наследства, – хрипит. – Всего лишу. Господи, за что караешь? Варвары нет, Анны нет... А этот... Этот... Прошка! Прошка, капли сердечные!
Параша и впрямь гуляла у пруда, как велел старый барин. Не приказал даже, попросил; надо срочно поговорить с сыном. Знала ли, что разговор о ней? Не знала, но чувствовала необъяснимую тревогу. И уж совсем испугалась, увидев бегущего к ней Николая Петровича. Побелевшее лицо дергалось, движения были размашистые и вразброс, будто махал издали кому-то руками.
– Ковалева! Ковалева! Парашенька! Собирайся, едем!.. Иди переоденься. Что-нибудь поярче.
И тут же поспешавшему за ним лакею:
– Беги на конюшню. Двухместную карету! В Москву! Да живее!
В большом смятении прошла Параша те несколько шагов, которые отделяли крыльцо флигеля от экипажа. В любимом своем алом платье, в туфлях на каблуках. Глянула на окна – во всех белеют лица. Все смотрят – и актеры, и актрисы. И все видят, как подсаживает ее граф, словно знатную даму, в золоченый выходной экипаж.
Цок-цок – весело постукивают по дороге копыта. А в закрытой от посторонних глаз карете они двое, и меж ними тишина. Первым заговорил граф:
– Парашенька, – голос грустный и нежный, – ты не спрашиваешь, о чем говорил со мной батюшка. Он не хочет, чтобы ты переезжала во дворец. Но я потребую...
– Вот и не надо этого вовсе... Я боялась сказать вам, но... Мне неловко от других актеров отрываться и быть над ними. Когда докажу своим старанием – иное дело... Когда спою так, чтобы всем понравилось, как вам, тогда сами выделят...
Говорит, а глаза вопрошающие – то ли делаю? И на все, на все согласные. Доверчивые, любящие глаза, девочки, девушки, женщины.
– Что ж не спрашиваешь, куда везу тебя? Куда умыкаю?
Пожала плечами:
– Куда бы ни везли... В оперу, вы сказали.
– Передумал. Я решил... встряхнуться. Развлечься. Плохо мне... здесь... – приложил Николай Петрович руку к груди.
И ей плохо, и ей хотелось ему пожаловаться, рассказать о своих горестях. Но разве может она на него свои беды вешать, коли и своих у него хватает?
– Да и тебе пора узнавать взрослую жизнь. Ты вот по-цыгански пела, а цыган никогда не слышала. Поедем к цыганам?
Кивнула согласно. Мол, все одно, лишь бы так было – и жизни не жаль, и души не жаль, и ничего прочего совсем не жаль. Не сказала, да он и без слов услышал. А руки ее на коленках так странно лежат – ладошками вверх. И захотелось ему уткнуться лицом в те детские ладошки, как когда-то утыкался в ладони матери – обиженный, заплаканный, несчастный.
Не очень ловко, не слишком умело опустился на дно кареты. Вздрогнула девочка, отвела руки, и он лбом ощутил прохладный шелк платья там, где оно обтягивало девчоночьи еще, не мягкие коленки. Сквозь шелк шло ровное тепло, странно легкое, не женское, а детское.
– Можно... погладить? – спросила его, как когда-то в совсем ином мире и времени – в деревенском своем детстве.
Вжался лицом в ложбинку меж коленями – да, да. И ощутил ласку ее рук – легкую, прерывистую, словно дуновение.
Тишина и бездна...
Бездна и тишина, похожая на обморок.
Они очнулись, когда кучер спросил, какой дорогой ехать.
Граф попросил:
– Ты напой что-нибудь... Повеселее.
На все для него готова, лишь бы сбросил он с себя печаль. А уж петь-то ей – что дышать. Да если ритм движения! Да если для него, того, к кому уже привыкла, с кем связана привычным волнением!
У речки птичье стадо
Я с утра стерегла.
Ой, Ладо, Ладо, Ладо!
У стада я легла.
А утки-то кря, кря, кря, кря,
А гуси-то га, га, га, га,
Га, га, га, га, га, га, га, га.
Отъехали далеко от Кускова. На широких, открытых солнцу полях уже начиналась жатва. Мужик, прикрывая глаза от солнца, смотрел на пролетающую мимо карету. Взмокла от пота посконная рубаха, на которой даже издалека выделялись огромные заплаты. Молодуха чуть поодаль закрывала от взглядов грудь и кормила ребенка, прячась за копной. Все это схватывал Парашин взгляд, а мысль отмечала: там, там ее место, а не в роскошном барском экипаже.
Впереди огромный пустырь, посреди дороги лужа, в ней развалилась свинья с поросятами. И вполне натуральные гуси вторят песенному «га, га, га». Параша смеется, и смеется граф, глядя на нее.
– Пой, Пашенька, ну пой же... Где ты услышала такую смешную песенку?
– Подружки научили. Дальше еще смешнее.
– Утешаешь меня?
– Мне не хочется, чтобы вам было грустно.
Под кустиком уснула,
Глядя по берегам.
За кустик не взглянула,
Не видела, кто там.
А утки-то кря, кря, кря,
А гуси-то га, га, га.
Приблизила свое лицо к лицу графа, озорно блестят глаза в полутьме кареты. Все мрачное забыто, все трудное отодвинуто. Друг с другом играют ребенок и взрослый. Она поет, он подпевает, повторяя смешную припевку.
А они уже едут по ямской слободе. Улыбаются из окон толстые трактирщицы и миловидные заезжие провинциальные барышни, сидящие на балконах с французскими романами, пытаются показать прохожим повыгоднее и ножку и вздернутый носик.
Почасту ветерочек
Дул платьице на мне;
Почасту там кусточек
Колол меня во сне.
А утки-то кря, кря, кря,
А гуси-то га, га, га.
Как бы из благодарности за удовольствие Николай Петрович берет ее руку и целует. Рука совсем детская; маленькая и шершавая, совсем не похожа на «бархатные» руки записных красавиц, рука, не привыкшая к французским притиркам и не пахнущая духами. Здесь опять он ощутил запах нагретой солнцем лесной малины.
За кустиком таяся,
Иванушка сидел,
И тамо, мне дивяся,
Сквозь веточки глядел.
А утки-то кря, кря, кря,
А гуси-то га, га, га.
– Смешная песенка, – улыбнулся граф. – Озорная.
Музыка... Не скрипки, конечно, а трубы и барабаны. Карета проезжала через военную слободу. На берегу Яузы идет гулянье, танцы, променад. Бравый юнкер послал Параше воздушный поцелуй, и граф, нарочито сердясь, опустил шторку.
И сразу исчезла непринужденность. Таинствен блеск глаз. Параша осторожно отодвинула уголок занавески, чтобы впустить в карету солнечный луч.
...Все вдруг стало в молчании так просто, так ясно, как в том ее сне в библиотеке, который был равен яви. Вот и явь теперь равна сну. Она смотрит на него, потому что смотреть – радость и удовольствие. Полная открытость, доверие, нескрываемое любование дорогим человеком и детский почти восторг от того, что свершается вымечтанное, потаенное, невозможное. А он снова, словно прося защитить от бед, положил голову ей на колени. Параша гладит и гладит светлые кудри, а после, благоговейно приподняв его лицо, целует лоб, глаза, ресницы. Сколько прошло времени? Мгновению следовало остановиться и лошадям замереть, но они уже въехали в первопрестольную. Виден Кремль, звонят колокола, рыночные торговцы предлагают разную снедь, нагло заглядывая в оконце, пристают бараночники.
Проехали театр Медокса.
– Вот и Грузины, – сказал Николай Петрович. – Приехали.
В окраинном ресторане графа провели в самый дальний, затененный угол. Здесь на большом диване так естественно было сесть близко, плечо к плечу, нога к ноге. Вот рука его ласково обвила ее шею. От этого и от шампанского пошла голова кругом, а уж от хора... Что-то внутри сдвинулось, и стало Паше так хорошо, как и не может быть на земле человеку.
Граф оказался в ресторане самым почетным гостем. И Парашу не обошли вниманием красивые парни с гитарами: ей, только ей дарили они надрывные свои напевы. По малейшим ее движениям угадав редкую музыкальность, они вдохновлялись все больше. А она разгоралась в ответ.
– Не цыганка ли, не наша ли барышня? – спросил молодой певец в красной атласной рубахе.
– Ваша, сердцем ваша, – неожиданно бойко, раскованно ответила Паша.
А уж когда она сначала подключилась к мелодии, а после перехватила ее и повела, восторгу хозяев не было предела. И величальную ей спели, и танцевали около стола в ее честь с особым запалом. Николай Петрович смотрел на нее с удивлением и восхищением и видел, как на глазах рождалась какая-то особая, не поддающаяся обычным оценкам красота, которая, как и цыганская, может приколдовать, увести невесть куда, сгубить. Глаз нельзя было оторвать от пылающего, яркого, каждую секунду меняющегося лица, от угловатых и ритмичных ее движений.
Тут и подошла к столу старая цыганка с дубленым морщинистым лицом, огромной серьгой в одном ухе и трубкой.
Всем граф давал немалые деньги, но с ней был щедр без меры. Цыганка взяла Парашину руку и, отложив в сторону дымящуюся трубку, долго рассматривала, водя указательным пальцем по линиям ладони. И в лицо время от времени вглядывалась острыми, как у хищной птицы, глазами.
– Ты любишь. И он любит. Только ты знаешь это, а он еще не знает, как любит. Узнает нынче...
Опьяненный цыганскими песнями, шампанским, а, главное, близостью Параши (этот запах лесной малины!), граф снова поднялся, чтобы одарить весь хор. Судьбе нужно быть благодарным. В этот миг и увидел его заглянувший к цыганам князь Яшвиль с друзьями.
Князь-полковник по-грузински горяч:
– Ваше сиятельство! Николай Петрович! Сколько лет, сколько зим! – обнимая Шереметева, похлопывая его по плечу, он одновременно оттеснял его в сторону, противоположную той, где сидела Параша, окруженная цыганами. – Рад видеть тебя, уже собирался заехать к тебе в Кусково, и вот везение: ты здесь. Есть разговор.
И, усадив графа за свой столик, князь задышал ему в лицо:
– Предлагаю объединяться. Пора приближаться к власти и нам, не все же нами старикам править. Это судьба! Сегодня, именно сегодня прекрасный повод представить тебя новому фавориту государыни, – это он говорил, уже совсем придвинув лицо к лицу графа, так, чтобы никому не было слышно. – Пробиваться легче, поддерживая друг друга.
Пьян? Да вроде не пьян. Возбужден, но не вином.
– Ты о ком?
– Знаешь, с кем императрица Екатерина утешается после того, как предыдущий любимец женился на ее фрейлине? Взгляни туда, – показал глазами Яшвиль. – Запомни, друг: Зубов. Его зовут Платон Зубов. С виду мягок и... не производит впечатления. Молод к тому же. Но по влиянию на царицу не уступает самому Потемкину. Самое время приблизиться, пока не все места подле него заняты.
И, не спрашивая согласия, под локоть подвел графа к субтильному ротмистру с темными, «бархатными», женскими глазами.
– Платон Александрович! Позвольте представить друга... Вот какие орлы влачат свои лучшие годы вдали от двора вместо того, чтобы украшать его. Богат – богаче нет. Знатен – знатнее быть нельзя. Образован, брал курсы в Европе... Граф Николай Петрович Шереметев.
Ротмистр еще не привык вращаться среди знати и потому был польщен.








