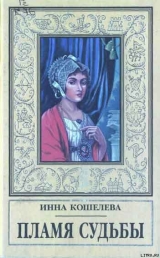
Текст книги "Пламя судьбы"
Автор книги: Инна Кошелева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Ты перестала понимать меня. Не всем дано понять, что значит приобщиться к делам государственным.
– Куда уж мне! Простая девка... Я даже не могу справиться с теми делами, которые мы затевали с вами с таким рвением. Актеры меня не хотят слушать, труппа в разброде. Хозяйство приходит в упадок...
Граф перебил ее:
– Скажи всем лодырям, чтобы взялись за дело. Иначе разошлю по дальним деревням.
– Как быстро вы забыли, что приказы сильны только на плацу, а в музыке, как и в любви... Ваш нынешний кумир считает, что муштра всесильна.
– Оставь императора... Я не узнаю тебя. Когда моя жизнь наполнилась смыслом, ты противишься всему, что я предпринимаю.
– Власть не дает свободы, а смысл не ищут где-то помимо себя.
Спорить с Парашей графу было непривычно – пожалуй, впервые она так последовательно и так ожесточенно не соглашалась с ним, открыто шла на ссору.
Почувствовав в себе поднимавшуюся волну гнева, граф испугался испортить то, что было ему единственно дорого в мире. Встал, чтобы успокоиться, прошелся по маленькому кабинетцу туда-сюда, остановился перед Парашей, притянул ее к себе. Поцеловал в лоб с крутыми завитками. Не откликнулась. И прямо глаза в глаза спросила:
– Вы обещали мне вольную. Помните, вы даже начали составлять бумагу. Отпустите меня. Я больна. Я не нужна вам. Отпустите.
Слегка оттолкнул ее от себя. Когда-нибудь это должно было случиться. Расставание всю жизнь сторожит свой миг, теперь оно просто ближе, чем обычно. На всякий случай спросил:
– В Петербург со мной не хочешь?
Покачала головой – «нет».
– Получишь вольную. Ступай!
Пройдя через галерею, она дала волю душившему ее кашлю. Розовым окрасился не только платок, но и манжеты. «Как? Уже? Так быстро? Кровь... Кровь... Господь наказывает меня этой кровью за ту кровь, другую... За ребеночка...»
Разлука – неизбежность. Болезнь – возмездие за детоубийство. Разве она вправе рассчитывать на что-либо другое?
15
Первым, что граф теперь видел, просыпаясь при робком свете лампады, был длинный и узкий потолок – без лепнины, без люстры. «Комната – будто гроб». Таких мрачных комнат в его имениях нет даже во флигелях для дворни. Граф вспоминал с тоской, что он в Гатчине, в императорском дворце, похожем на средневековый замок. И еще: он не просто в разлуке, он в ссоре с Парашей.
Чтобы продлить сладкое время сна, граф закрывал глаза. Представлялось далекое: кусковский рассвет, девочка в алой пелеринке скачет по песчаной дорожке, все пронизано светом. Все самое главное в судьбе было тогда еще впереди, хотя в то время казалось, будто жизнь уже прожита. Но разве сравнишь ту светлую печаль с нынешней звериной тоской?
С чего бы это? Исполнилась его мечта выполнить высокий мужской и гражданский долг. Он занят не каким-нибудь частным делом, а государственным, он у подножия самой высокой власти. Но нет ни капли той прежней радости, хотя и нелегкой, хотя и претворенной из душевных мук и сомнений, из мыслей о несовершенстве мира, но такой истинной...
Музыка... Гармония... Ему не хватало музыки... Вместо нее он слышал в предутренний час перекличку караулов и отрывистые, как лай, команды императора на плацу.
Не спится Павлу, и он не дает спать никому.
Николаю Петровичу не хватало лености, подруги глубинной созерцательности, которая так необходима любому артисту. Проснуться, открыть глаза и лежать неподвижно. Смотреть бесконечно на милое лицо спящей Параши, следить, как ритмично подрагивают ресницы. По-детски приоткрыт рот, и выражение чуть-чуть несчастное... Просто смотреть и смотреть... Это и значило жить.
Здесь у него нет и не может быть просторных утренних минут, отданных встрече нового дня. Наскоро молитва, наскоро бритье, одевание, и от этой рабской торопливости в нем прочно поселялось ощущение, будто он не принадлежит себе.
Ощущение его не обманывало.
В пять утра император уже на плацу, уже муштрует своих солдат, а завтрак и того ранее – завтракали они ночью.
После Николай Петрович шел в свой убогий кабинет – составлять письма для фельдъегерской почты в Петербург и в Москву. Графу Румянцеву он писал: «Государыне Императрице Марии Федоровне угодно, чтобы сделан был мед белый лимонный сахарный для питья, такой точно, каковой при покойной Государыне был сделан единожды и опробован ею». Графу Зубову сообщал, что «потребны для четырнадцати человек трубачей и одного литаврщика конские уборы, седла и прочее».
Через полчаса после солдатской побудки в предутренней мгле он должен был снова предстать перед императором, дабы согласовать обеденное меню. От императора – в кухмистерскую, и там за всем самолично следить. Завтрак, обед, ужин, снова завтрак, снова обед. Разница – только в меню, и то не слишком большая – Павел был аскетичен и скучен во всем. Он внушал Шереметеву иногда страх, иногда тревогу, а чаще всего не поддающееся точному определению чувство отвращения к себе самому, вынужденному исполнять монаршью волю не как собственную, а как навязанную, чужую. Унизительно...
Павел требовал одного, его домочадцы и свет – другого. Уж эти мне вечера и приемы! Все эти архангелогородские барашки, выпоенные молоком, которых надо доставить к сроку... Пулярки, зажаренные, как у Толстых, и рыба – как у Куракиных... Высшее общество равнялось на недавние екатерининские времена и не хотело менять своих вкусов.
...Ему не хватало женщины. Но стоило представить себя с какой-то случайной, как приходило нервное раздражение. Он не хотел, не мог в свои годы ухаживать, суетиться, а сильным и уверенным был только рядом с Парашей. Никто, кроме нее, не смоет с него надоевшую, скучную пыль будней, никто не приподнимет над повседневностью и мелкими заботами, не даст непосредственной радости бытия.
Да... Он обещал ей вольную. Он отошлет бумагу с первым императорским обозом, который пойдет в Москву за продуктами. И напишет письмо. Может, попросит прощения. Нет, просто объяснит... Она поймет.
После отъезда Николая Петровича в Петербург Параша дала себе волю болеть и всю весну пролежала в своем дворце на Воздвиженке. Читала, молилась в домашней церкви, просто думала о своей судьбе и о судьбе графа. По утрам подчас приходили силы, и она пыталась репетировать с хором. А к вечеру поднимался жар, и вместе с ним восставали из прошлого все былые ошибки, обиды, печали. Душа становилась слабой, незащищенной. Подкатывали слезы, и она не гнала их, стараясь только, чтобы никто их не видел, даже лучшая подруга Таня Шлыкова.
Она чувствовала себя очень одинокой, не хватало родственной близости. От матери она отвыкла, покинув Кусково, от братьев всегда была далека. Матреша ей ближе... Но что Матреша? Та младшенькая, о которой приятно заботиться, а жаловаться на беды, открываться в сокровенном ей не станешь. Хоть она и выросла, хоть и свадьбу сыграла, но не поймет. Особая у нее, Параши, судьба, ни на какую другую не похожая. Одиночество среди своих, одиночество среди чужих, в стан которых привела любовь к графу... Это только со стороны некоторым ее путь видится как удача.
Не было рядом единственного близкого человека, и все в жизни лишалось смысла. Понимала Параша, что надо работать. Работы она никогда не боялась. Как нравилось ей вместе с графом ездить по селам, помогая крестьянам, учить детей пению, готовить новые партии в театре и проводить репетиции! Но вдруг с полной отчетливостью она поняла, что ничего в ней не изменилось со времен отрочества. Тогда она училась языкам для него, для него перенимала господские манеры, для него старалась превзойти самое себя на сцене. Его нет, и ей незачем выздоравливать. Лежать и ждать... Вопреки разуму ждать вести от него.
И весть пришла.
Письмо так дрожало в тонких, исхудавших руках, что Параша не сразу смогла его распечатать. Вольная... Ах! Вот и записка.
«Вы («Вы»!) правы. От природы мне больше идет заниматься клавирами опер, которые ставят в этом сезоне в Париже. Да, монарх, друг юности, должен знать, что музыка, а не пища – моя стихия. Но император и в дружбе следует иным принципам, нежели мы, люди обычные. Дирижировать оркестром, посчитал он, для меня скорее удовольствие, чем труд, и уж не служба вовсе. Он же намерен проверять своих подданных на самоотречение и ревностность в служении отечеству.
К тому же, доверив мне заниматься едой и одеждой, он доверил мне свою жизнь, а жизнь в просторечии не зря подчас зовут животом. Преодолев подозрительность, Павел выделил и вознес меня, а не унизил. Мне есть чем гордиться.
В Фонтанном доме своем собираюсь открыть салон для друзей императора с музыкальными номерами и пением. Отписав вольную, я не могу Вам («Вам»!) приказывать, а могу только предлагать в них участвовать».
Другим пером и другим почерком (спешащим, – в последний миг, видно, добавилось): «Очень скучаю». И это «скучаю» было для нее в письме самым важным.
«Я тоже очень скучаю. И если бы могла бросить открытую мною недавно штудию и десять учеников моих, то примчалась бы к вам, несмотря на запрет доктора даже думать об этом. Но действия свои не могу делить по степени важности, а к детям из деревень привязалась душою.
Осмелюсь повторить вам, что, доказывая свою верность одному человеку, вы забыли о многих людях, с кем были связаны долгие годы. Без барского пригляда и строгости дворня в Останкине и в московских домах распустилась. Люди от безделья пьют брагу. Лишенные привычной работы, они впали в лень, ссорятся и даже дерутся меж собою. После серьезной и нужной работы в Останкине все очутились в пустоте, никто никому не нужен, никто никому не подвластен. Вслед за дворецкими и поварами запили актеры. Ни я, ни Вороблевский для них не авторитет, репетиции идут вяло, ибо не видно цели, никто не знает, когда будут ставиться спектакли и будут ли вообще. Где, когда, кому мы покажем свое искусство? Даже у меня пропадает охота петь для четырех стен и несчастных своих сотоварищей.
Хозяйство московское ваше впадает в запустение. О прочих вотчинах сказать ничего не могу, так как не бываю в них из-за своего нездоровья.
О чувствах своих длинно писать не решаюсь, это среди великих дел, которые оторвали вас от меня, наверное, неважно».
«Вам, кажется, доставляет удовольствие сообщать мне одни неприятности. Я поступаю так, как должен на моем месте поступать всякий дворянин.
Не думайте, что это легко. Меня поражает, что ты (долгожданное «ты» вместо пугающего «вы», наконец-то!) не чувствуешь, как тяжело мне бывает здесь. Иной обед в Гатчине или Павловске стоит года жизни, ибо все надо предусмотреть, за всем проследить. Никто и здесь не любит исполнять свои обязанности, и лишь тот, кому доверили ответственность, должен напрягать себя сверх меры.
Здесь мне отведена комната рядом с кухмистерской, к одной из стен примыкают печи, оттого постоянно жарко, стоит парок и донимают запахи. Ежели открыть настежь окно, то сырой холод мгновенно сменяет духоту и приходится быть на сквозняке. Оттого постоянно хожу с больным горлом, превозмогая слабость и нездоровье».
«Милый, милый Николай Петрович!
Очень расстраиваюсь вашим нездоровьем. И не могу понять, почему вам не вернуться сюда и не заняться очень высокими и вполне достойными каждого дворянина делами, хозяйственными и театральными.
Осмеливаюсь вам сказать это после продолжительного разговора с князем Щербатовым. Он тоже друг юности монарха и, я считаю, истинный друг вам с давних пор и по сию пору. Он-то и сообщил мне, что из Петербурга выслан ваш предшественник по должности обергофмейстер Барятинский. Дашкова в деревне (при ее-то почтенном возрасте и заслугами перед просвещением!). Уволены семь фельдмаршалов и бесчисленное множество генералов.
Правда ли, что запрещены ныне не только круглые шляпы на французский манер, но и прекрасные французские книги и даже некоторая музыка?
В нашем разговоре ваш друг касался темы сочетания службы и достоинства и рассказал ужасный случай с Яшвилем, коего был свидетелем. Думаю, и вы слышали о том, что на плацу император дал при всех пощечину дворянину Павлу Яшвилю, уловив запах вчерашнего выпитого. Я видела господина Яшвиля однажды, очень давно, в цыганском ресторане в Грузинах, помните? Нельзя сказать, что гocподин этот оставил во мне приятное воспоминание. Но представить его в положении, когда оскорбление нельзя смыть ни дуэлью, ни словом... Не боитесь ли вы оказаться в такой ситуации? Я-то знаю, что в таких случаях больше всего на свете хочется умереть».
Письмо от Параши попало к графу в тот день, когда он и сам думал о превратностях императорской службы. Вновь и вновь возникали у него мысли о душевном нездоровье правителя России. Жестокость, с которой он пользовался своей властью, не знала предела. Лейтенанту Акимову за попытку в стихах критиковать порядки в армии по приказу Павла отрезали язык. Известного сановника выставили к позорному столбу.
Государь не знал границ в гневе и своеволии. Яшвиля ударил прилюдно и нажил себе опасного врага. Другого дворянина сослал в Сибирь за мелкий непорядок в мундире – неправильно пришитую пуговицу. Третьего... А третий был первый помощник Шереметева по дворцовым заботам старик Беннигсен. За неверно накрытый стол Павел приказал старику идти пешком из Павловска в Петербург, а это, как известно, десятки километров. Возле одной из застав встретил изможденного Беннигсена Николай Петрович, на свой страх и риск усадил в карету и предстал с ним пред очи императора с требованием простить верного слугу или прогнать обоих.
Павел простил. И даже сделал многое, чтобы загладить неловкость. Пока по отношению к нему, Шереметеву, он не переступает границ. Пока...
Слишком уж переменчив царственный друг. Он быстро приближает к себе людей случайных и так же быстро может охладеть к людям верным и преданным.
Но всеми своими сомнениями Николай Петрович делиться с Парашей не стал.
«Слава Господу, я получаю не пощечины – такого и представить себе не могу. На предпоследнем приеме монарх преподнес мне совсем иной сюрприз. Приказав приблизиться к себе, он взял меня под локоть и почти на ухо долго сообщал мне о своих планах по управлению Россией. Это, кстати, он делает не впервые и тем самым поднимает мой вес в обществе.
Но затем он привлек еще большее внимание собравшихся к моей особе тем, что громко назвал меня вернейшим из соратников и сам, повязав мне ленту, прикрепил к ней орден Андрея Первозванного, воздав хвалу славному роду Шереметевых в моем лице.
Я горжусь тем, что служу монарху справедливому.
Да, ему не чужды человеческие слабости. Я ведь тоже гневлив, душа моя.
Его девиз таков: «Лучше быть ненавидимым за праведные дела, чем любимым за неправедные». Добавлю от себя – именно так была любима его матушка.
Из Шлиссельбурга освобожден опальный издатель Новиков. Литератор Радищев возвращен из Илимска.
Рекрутский набор отменен. Война с Персией прекращена, и этим подтверждены мирные намерения России, сорок лет истощавшей в войнах свое население.
В любом правлении дела на двух чашах. Какая перевешивает?
Душенька! Император верит мне, как себе, и только после того, как я сниму пробу с приготовленной в кухмистерской пищи, к ней притрагивается монарх. Он доверяет мне каждый день жизнь свою, что не только почетно, но и по-человечески трогательно.
И уж никак не могу не рассказать тебе, что после одной очень мучительной операции, когда весь Фонтанный дом был поднят на ноги из-за моих мучений, мне принес облегчение мой царственный друг.
Когда я очнулся от забытья, вызванного потерей крови, то увидел, как он входит ко мне с черного хода. Никем не замеченный, он без слов сидел рядом, держа меня за руку и всем сердцем сочувствуя моему бессилию.
Могу ли я после этого отказать ему в малом – в моей дружеской привязанности и верной службе?
К тебе же просьба: не писать в письмах ничего, что может плохо отразиться на моей начавшей наконец-то развиваться карьере. Некоторые вещи лучше высказывать один на один, не доверяя постороннему глазу написанное».
Получив это письмо, Параша расстроилась особенно сильно. В горячечных своих слезах она пыталась молиться, чтобы Господь остановил пагубные перемены в любимом.
Что делается с людьми, когда они прикасаются к власти? Она не понимала, как ее Николай Петрович может всерьез гордиться тем, что маленький человечек с безумными глазами и страшным смехом взял его под локоть, пришел к нему в дом? А уж пробовать пищу тирана прежде, как она читала, доверяли собакам. И как можно мириться с тем, что (при доверии-то!) их переписку читают чужие глаза?
Было ли это разочарованием в любимом? Нет, резкой перемены не произошло, за долгие годы она познала много и других его слабостей. Она видела, как рядом с гневливостью в нем соседствует слабость, родственная страху, как он всегда желает совпасть во мнениях с теми, кто силен. Природная гордость подавлялась в нем неуверенностью, женской боязнью поражения.
Впервые она вдруг обнаружила, что в ее отношении к графу появился оттенок снисходительности. Она любила, но уже не снизу вверх и даже не на равных. Так мать любит дитя, взрослый – младенца, сильный – слабого.
В тот вечер она впервые подумала о своих – только своих – планах.
Она печалилась о том, что жизнь проходит очень быстро. На пороге тридцатилетия ей пора задуматься о собственном предназначении – предназначении актрисы, певицы. Будучи, возможно, куда более скромным, чем у графа, это предназначение все же накладывает на нее обязательства перед Богом и людьми. Посетив недавно оперу Медокса, она страстно позавидовала Синявской и Сандуновой. Не тому, как они держатся на сцене – она делала бы все иначе, а просто самому факту – поют! Аплодисменты, цветы... Этому тоже. Но больше всего хотелось посылать в зал свой голос и брать им в плен души, заставлять их страдать и радоваться.
Власть таланта – тоже власть, и она этой ненасильственной высокой власти хотела страстно.
В ту ночь она долго не могла заснуть, чувствуя небывалый прилив сил. Параше показалось, что болезнь покинула ее. Позвав Таню Шлыкову и Матрешу, она решила устроить небольшую ночную репетицию и спеть им безделицу Мартини, простенький вальс о цветах и весне. Но на высокой ноте из горла хлынула кровь. Платка не хватило. Срочно вызвали Лахмана. Кровотечение еле остановили с помощью льда, но жар сбить не смогли.
Почувствовал ли Николай Петрович несчастье? На сей раз нет. Он мчался к Параше из Петербурга в Москву со всей возможной скоростью, то и дело меняя уставших лошадей на свежих, но гнало его не известие о болезни – депешу он не успел получить. Все мысли его были о себе. Судьба вытолкнула его из северной столицы жестоким ударом по чести и самолюбию.
Да и стоит ли называть судьбой обиду, унижение, которым он подвергся на службе у безумного властителя – то, о чем он старался не вспоминать и о чем никогда не смог бы рассказать любимой. Она, любимая, была права, она все знала заранее, как знала о нем все и всегда.
Еще два дня назад он не думал об отъезде в Москву. Вместе с императором он обживал летнюю резиденцию царской семьи – Павловск. Что может быть прекраснее весеннего цветущего парка? Красота природы, не исправленная, а лишь слегка облагороженная художником, напоминала красоту музыки. На утренней прогулке придворные, сопровождавшие монарха, разбились на группы. Ничто не предвещало скандала. Слышалось: «Взгляните на чудное сочетание кустов и деревьев!», «Сколько оттенков зеленого, как они переходят друг в друга!», «Ах, эти ивы!», «Уж не соловей ли завелся в этом раю?»
Сам он с увлечением рассказывал фрейлине императрицы госпоже Нелидовой, как он ценит талант Гонзаги, сравнивая его парковую архитектуру с теми декорациями, которые художником сделаны для Останкина. Декорации эти могли составить отдельный спектакль, если менять их на сцене под музыку. Игра красок, смена перспективы чаруют...
Шереметев не заметил, что Павел время от времени словно случайно приближался к ним двоим. Вслушивался, отходил, снова приближался. Наконец император что-то тихо сказал адъютанту. Молодой офицер очень смутился, направившись к Николаю Петровичу, и совсем смешался в ответ на доброжелательную улыбку графа.
– Простите, ваше сиятельство. Но... Права не имею не передать дословно, как приказано его Величеством.
– Да-да, конечно.
И только увидев испуганные глаза женщины, в которую давно был влюблен царственный мужчина, граф испугался сам.
– Скажи ему, приказали Павел Петрович, чтобы не распускал хвост перед дамами, когда не следует, ибо все перья выщиплю. Еще скажи, что он не юноша и что пора ему жену законную иметь, а не волочиться за каждою юбкою...
Взор Нелидовой переполнился недоумением и ужасом, а Шереметев почувствовал, что его лицо окаменело, а после начала дергаться щека. Не дослушав и резко повернувшись, пошел он по дорожке прочь от свиты.
За ним побежала Нелидова.
– Граф! Милый граф! С Павлом бывает. Он повинится... Призовите все благоразумие...
Но он шел все быстрее. И только окрик императора: «Подождите, Николай Петрович!» – остановил его. И вот они идут навстречу друг другу – старые друзья и сегодняшние соратники.
– Ваше Величество, почувствовав себя дурно, я не откланялся. Давние недуги заставили меня покинуть компанию и... – выдохнул граф, чуть запнувшись, – и службу.
– Полноте, друг мой, – Павел попытался обнять Шереметева, но тот уклонился:
– Примите отставку.
– Простите, – поклонился граф приблизившемуся обществу и приложил руку к сердцу: – Сдавило вдруг здесь, в груди... Годы.
Резко повернувшись, большими шагами направился по дорожке к выходу из парка. Именно в этот момент пришло неожиданное, но твердое: «Все! Кончено! Уеду!» И откуда-то выплыло, вне связи с происшедшим, дерзкое и радостное: «Решено – женюсь!»








