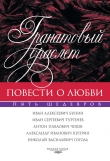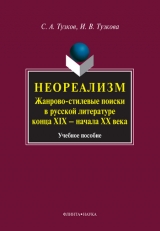
Текст книги "Неореализм. Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX – начала XX века"
Автор книги: Инна Тузкова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Недоговорённость, неоднозначность текста наиболее существенную роль играет в создании лирического плана чеховских произведений, написанных в форме притчи, к которым относятся рассказы «Без заглавия», «Сапожник и нечистая сила», «Пари», «Рассказ старшего садовника» и др. Лирико-романтический колорит этих произведений А. Чехова проявляется не только в их жанровом своеобразии, но и в специфике художественного конфликта, в пейзажной символике и др.40 С точки зрения лиризации повествования наибольший интерес из них представляет рассказ «БЕЗ ЗАГЛАВИЯ». Условно его можно разделить на четыре части, каждая из которых содержит один из элементов сюжета:
• в первой части (1—4-й абзацы) описывается повседневная жизнь монастыря и «необычайный дар» старика-настоятеля (экспозиция);
• центральное место во второй части (5 – 8-й абзацы) занимает лирически окрашенный монолог заблудившегося в пустыне и случайно оказавшегося у стен монастыря горожанина (завязка конфликта);
• третью часть (9—14-й абзацы) составляет рассказ настоятеля о соблазнах порочной городской жизни (кульминация);
• четвёртая часть (15-й абзац) – финал рассказа: выслушав разоблачительную речь настоятеля, все монахи убегают в город (развязка).
Контур сюжета этого чеховского рассказа образует лирический мотив борьбы добра и зла. В художественной структуре очевиден композиционный и смысловой параллелизм: в тексте произведения можно выделить два конструктивных центра – монастырь (обитель веры и правды) и город (средоточие разгула и разврата). Вместе с тем антитеза добра и зла, изнутри организующая всю повествовательную структуру рассказа, проявляется в виде контрастного противопоставления эмоционально-образных сфер: Бог – дьявол, монахи – грешники, монастырь – дом разврата, настоятель – блудница.
Лирическая тема добра сконцентрирована в двух первых частях рассказа, где описывается жизнь монастыря: «Монахи работали и молились богу…»41. Но при этом уже в самом начале повествования тщательным подбором на первый взгляд, казалось бы, случайных деталей лирически окрашенного пейзажа автор-повествователь создаёт у читателей представление об однообразии жизни монахов: «День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча и сердито гремел гром, или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братии, что недалеко от монастыря он видел тигра – и только, а потом опять день походил на день, ночь на ночь» [с. 305]42.
Лирический мотив однообразия жизни монахов, во многом предопределяющий характер развязки художественного конфликта произведения, поддерживается в ходе повествования прямыми авторскими указаниями («Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц…» [с. 306]; «Проскучали они месяц, другой, а старик не возвращался…» [с. 307] и т. п.), в том числе и трёхкратным повторением в первом и четвёртом абзацах рассказа идиомы «День походил на день, ночь на ночь», – которая становится своеобразным обрамлением экспозиции и придаёт ей завершённость.
Яркие эмоционально-экспрессивные эпитеты («зазевавшаяся звезда», «бледный монах») и метафоры («когда с росою целовались первые лучи») придают открывающей повествование пейзажной зарисовке лирико-романтический колорит, который затем проявляется в исключительности характера главного героя рассказа – старика-настоятеля, обладающего особым даром: «Когда он говорил о чём-нибудь, страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали, как его вдохновение сковывало их души…» [с. 306]. Описанию «необычайного дара» настоятеля посвящена большая часть экспозиции, при этом лирические интонации, как всегда у А. Чехова, осложняются мягкой иронией: контрастируя, они углубляют и дополняют друг друга («… в такие великолепные, чудные минуты власть его была безгранична, и если бы он приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю» [с. 306]).
Во второй части рассказа лиризм сосредоточен в монологе горожанина, «обыкновенного грешника, любящего жизнь». Его речь насыщена эмоционально-выразительной лексикой и отличается подчёркнутой ритмичностью, которая создаётся повторением тождественных в интонационном отношении восклицаний и вопросов: «Поглядите-ка, что делается в городе! Одни умирают с голоду, другие, не зная, куда девать своё золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды! Чьё же дело спасать их? Чьё дело проповедовать? Не мне ли, который от утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру бог дал вам на то, чтобы вы сидели здесь в четырёх стенах и ничего не делали?» [с. 307]. Ответная реплика настоятеля выражает идею проповедничества абсолютных истин («…бедные люди по неразумию и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?» [с. 307]), которая парадоксальным образом обыгрывается в третьей и четвёртой частях рассказа, где при описании жизни города получает развитие лирическая тема зла.
Характерно, что рассказ настоятеля о порочной жизни горожан даётся не в форме прямой речи, а строится как авторское повествование «в тоне и духе героя». Такое повествование буквально излучает лиризм, проявляющийся, с одной стороны, в деталях портретной характеристики персонажа, которые даются как прямое выражение его эмоций, а с другой – в характере метафор, сравнений, синтаксисе и особой ритмической организации речи, создаваемой нагнетанием однородных членов предложения и сходных синтаксических конструкций: «Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние три месяца. Голос его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города. На пути, говорил он, ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие, молодые надежды волновали его душу; он шёл и чувствовал себя солдатом, который идёт на бой и уверен в победе (…) Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о городе и людях (…). Опьянённые вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся бога (…) На столе, среди пировавших, говорил он, стояла полунагая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с чёрными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!' Шёлк и парча красивыми складками спускались с её плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а, как молодая зелень из весенней почвы, жадно пробивалась сквозь складки» [с. 308].
Добавочную эмоциональную окраску рассказу настоятеля даёт один из наиболее ярких фрагментов третьей части произведения, выделяющийся из окружающего текста интонационно и стилистически: «А вино, чистое, как янтарь, подёрнутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел ещё пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости» [с. 308]. Здесь вино становится равноправным партнёром персонажа в эмоциональном общении: вино не только выражает чувства героя, – впитывая их, оно само начинает светиться его эмоциями43.
Авторское отношение к привлекательной, но наивной идее проповедничества, не проявляясь в форме прямых оценок и комментариев, выражается в отчётливой анекдотичности финала чеховского рассказа: «Когда он (настоятель. – И.Т.) на другое утро вышел из кельи, в монастыре не оставалось ни одного монаха. Все они бежали в город» [с. 309]. Таким образом, ещё одним средством выражения чеховского лиризма становится взаимопроникновение анекдотического и притчевого начал44. Характерно, что лирический мотив бессилия, а значит практической бесполезности проповеди, звучит и в других произведениях писателя («Огни», «Припадок»).
* * *
В произведениях А. Чехова, как правило, изображаются события обычные, повседневные. Казалось бы, жизнь неудержимо течёт по раз и навсегда проложенному руслу, но чеховские герои неожиданно осознают своё истинное положение в мире, вступают в конфликт со своим социальным окружением, упорно ищут путь к какой-то иной действительности. При этом в центре внимания писателя постоянно оказывается человеческая индивидуальность, её внутренний мир.
В то же время поиск новых приёмов психологического анализа приводит к возрастанию роли подтекста в художественной структуре его произведений, а отказ от прямых форм оценки изображаемого – к более сложным формам выражения авторской позиции. Так, С. Шаталов отмечает, что для прозы А. Чехова была характерна установка на «как бы помимо аналитический психологизм: впечатление о процессе внутренней жизни складывается не из признаний героя и авторского комментария к ним, а на основе тех ассоциаций, которые возникают у читателя в связи со специально отбираемыми деталями»45.
Гуманистическая доминанта творчества А. Чехова – утверждение внутренней ценности человеческой жизни – была постоянным источником чеховского лиризма, основанного на вере в человека, в его душевную и духовную «готовность» к иной, лучшей жизни. Отсюда романтический пафос целого ряда произведений А. Чехова, откровенно лирической тональности («Чёрный монах», «Дом с мезонином», «Невеста» и др.). Не случайно 3. Паперный увидел приближение А. Чехова к романтизму в том, что в его рассказах «сквозь план – жизнь, как она есть, настойчиво пробивается второй план – жизнь, как она представляется в вере, ожидании, внутреннем устремлении»46.
Темы для рефератов
1. Специфика чеховского лиризма.
2. Способы выражения авторской позиции в рассказе А. Чехова «Черный монах».
3. Тема Черного монаха в художественной структуре чеховского рассказа.
4. Роль контраста в повествовательной системе рассказа А. Чехова «Дом с мезонином».
5. Антитеза добра и зла в художественной структуре рассказа А. Чехова «Без заглавия».
Глава 2
«Реализм + модернизм»
Художественный синтез в русской прозе начала ХХ века
Диалог между реализмом и модернизмом в русской прозе ХХ века приводит к их синтезу. Иначе говоря, на реалистической основе образуется модернистская стилевая тенденция, которая, в свою очередь, распадается на несколько стилевых разновидностей (парадигм): импрессионистическо-натуралистическую, экзистенциальную, мифологическую, сказово-орнаментальную и др.
В современном литературоведении импрессионизм и натурализм нередко рассматриваются как кульминационные пункты развития реализма XIX века. Отмечается, что импрессионизм в русской литературе проявил себя преимущественно как «течение, пограничное с символизмом в поэзии и с реализмом и неоромантизмом в прозе»1. Вместе с тем импрессионистическая художественная система обнаруживает очевидное тяготение к элементам натурализма. Натурализм, в свою очередь, зафиксировал сближение литературы с естественными науками: здесь эстетическое переживание рождается из совпадения материала с действительностью, при этом сочетаются «новизна материала, смелость в затрагивании той или иной темы – и шаблонность, эпигонская вторичность в способах организации этого материала»2. Как самостоятельные явления ни импрессионизм, ни натурализм в русской литературе не сыграли сколько-нибудь значительной роли, но тем не менее оказали существенное влияние на формирование творческого метода таких писателей, как И. Бунин, Б. Зайцев, М. Арцыбашев, А. Куприн и др. Импрессионистическо-натуралистические тенденции проявляются на разных этапах их творчества и постоянно привлекают внимание исследователей.
Формирование синтетического типа образности, стиля художественного мышления представляет особый интерес в ракурсе сближения литературы с философией: принципиально новый характер философии с элементами художественной словесности (неофилософский ряд представлен именами таких русских философов начала XX века, как Вл. Соловьёв, В. Розанов, Л. Шестов, П. Флоренский, Е. Трубецкой, Н. Бердяев) обусловил неразрывность философского и эстетического начал прозы М. Горького, Л. Андреева, В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Ремизова и других писателей, чьё творчество даёт возможность говорить об экзистенциальной традиции в русской литературе ХХ века. Экзистенциальное сознание формирует достаточно устойчивую модель мира: её параметры (катастрофичность бытия, кризисность сознания, онтологическое одиночество человека) задают универсальную эмоциональную доминанту литературы экзистенциальной ориентации – она рождается между страхом смерти и страхом жизни. В то же время экзистенциальное сознание вариативно – оно вырабатывает оригинальные принципы поэтики3.
Одним из проявлений синтеза философии и литературы является мифотворчество. Исследователи выделяют различные варианты неомифологизма Серебряного века: онтологический (Вл. Соловьёв), гносеологический (Д. Мережковский), теургический (Вяч. Иванов), историософский (А. Блок) и др.4 Нас привлекают не только попытки создания сущностно новых, индивидуально-авторских мифов (Ф. Сологуб, А. Ремизов, М. Пришвин), достаточно обстоятельно рассмотренные в ряде современных работ5, но и примеры демифологизации, в частности, антимиф Л. Андреева, который представляет собой одну из разновидностей экзистенциальной неомифологической прозы.
Синтетичность (ассоциативность) – важнейшая черта сказово-орнаментальной поэтики, совмещающей в себе признаки прозы и поэзии: ничто не существует само по себе, всё связано, переплетено, объединено по ассоциации, иногда лежащей рядом, иногда очень далёкой6. Сюжет утрачивает свою традиционную организующую роль – его функцию выполняют лейтмотивы: фрагменты повествования скрепляются ассоциативными связями. Повествовательная система орнаментальной прозы нередко включает в себя имитацию сказа; если сказ в чистом виде ориентирован на формы устной речи, которые находятся за пределами литературного языка, то в сказовом стиле А. Белого, Е. 3амятина, И. Шмелёва отталкивание от нормативной наррации выражается сознательным подчёркиванием условности, искусственности повествования.
2.1
Импрессионистическо-натуралистическая парадигма: Б. Зайцев – А. Куприн – М. Арцыбашев
2.1.1. «Поэт прозы» – Борис Зайцев«Волки»
«Голубая звезда»
Термин «литературный импрессионизм» по отношению к русским писателям применяется главным образом в связи с творчеством В. Гаршина, А. Чехова, И. Бунина и Б. Зайцева1. Из них наиболее последовательно импрессионистскую технику использовал Б. Зайцев. Однако если в первом сборнике его рассказов «Тихие зори» (1906) импрессионизм подчинял, растворял в себе иные художественные системы, то в последующих книгах писателя – «Полковник Розов» (1909), «Сны» (1911), «Усадьба Ланиных» (1913), «Земная печаль» (1915) – импрессионизм лишь вкрапливался отдельными штрихами в общую картину лирического повествования. Характерно, что сам писатель в 1910-е годы наметил несколько этапов в своём литературном развитии: «… ко времени выступления в печати – увлечение так называемым «импрессионизмом», затем выступает момент лирический и романтический. За последнее время чувствуется растущее тяготение к реализму»2. Тем не менее выделить чёткие, классически завершённые периоды дореволюционного творчества Б. Зайцева невозможно, так как практически во всех его произведениях этого времени возникали импрессионистические «реминисценции». Поэтому трудно согласиться как с попытками рассмотрения раннего творчества Б. Зайцева лишь в рамках модернизма (Е.А. Колтоновская, М. Морозов), так и с противоположным стремлением анализировать его произведения исключительно с позиций реалистической поэтики (П. Коган)3.
Вместе с тем следует отметить, что уже в русской дореволюционной критике было высказано немало справедливых суждений о ранней прозе Б. Зайцева. Особенно в статьях А.Г. Горнфельда,
Ю. Соболева, Н. Коробки, которые акцентировали внимание на пантеистической основе мировосприятия писателя4. В художественном мире Б. Зайцева, указывали они, земля, травы, звери, люди живут в особенной атмосфере панпсихизма (термин А.Г. Горнфельда – своеобразный синоним пантеизма), где много невысказанного; вместо твёрдого, чёткого реалистического рисунка событий и характеров акварельно размытые контуры, а главное, всё имеет общую, единую Мировую душу5.
В то же время современники писателя критиковали его раннюю прозу за религиозность («христианская кротость»), пессимизм («мрачное жизнечувствование», «ужас одиночества и отчуждённости»), поэтизацию беспомощности человека перед судьбой и смертью («поэзия без действия и умирания»). В советском литературоведении специальных работ, посвящённых творчеству Б. Зайцева, не создано. Наиболее точная характеристика его творчества, на наш взгляд, дана В.А. Келдышем, но она отличается предельной краткостью. Исследователь видит в творчестве Б. Зайцева типичное «пограничное» явление, где реализм осложнён импрессионистической тенденцией: «Обновление реализма средствами «лирики» – одна из характерных художественных тенденций в 900-е годы. Но у Б. Зайцева это – импрессионистическое преломление»6. К сожалению, В.А. Келдыш не раскрывает художественных принципов этого импрессионистического «преломления», не анализирует его поэтики. Более основательно поэтику зайцевского импрессионизма рассматривает Л.В. Усенко, намечая пути дальнейшего исследования его творчества.
Элементы импрессионизма можно найти практически во всех произведениях Б. Зайцева дореволюционного периода, но наиболее существенное влияние поэтика импрессионизма оказала на жанрово-стилевую структуру его рассказов из сборника «Тихие зори», которые являются своеобразным ключом к пониманию ранней прозы писателя: вся система художественно-изобразительных средств в них направлена на то, чтобы запечатлеть сиюминутное настроение или мгновенные оттенки восприятия героев; стиль повествования отрывочен, подчёркнуто лаконичен, широко включает красочные эпитеты, нередко выражающие синкретизм ощущений.
Сборник «Тихие зори» открывается рассказами «Волки» и «Мгла», которые отличаются поистине зрелым художественным мастерством. Объединяет эти рассказы тема смерти – от её закона «нельзя бежать»: она одинаково карает и мир природы (волки), и мир человека. Каждый из этих рассказов проникнут болью, ужасом и страхом, но в них нет ни «эстетизации животной злобы», ни «эстетизации человека-зверя» (в чём зачастую упрекали Б. Зайцева современные ему критики). Ведь хотя писатель и не осуждает открыто эгоизм и злобу, у читателей рождается не только ощущение ужаса, но и чувство боли от царящего в мире равнодушия. Пожалуй, точнее других исследователей суть этих рассказов определил Н. Коробка, указав, что в них «воскресает первобытная душа охотника, ведшего неустанную борьбу со зверями и творившего о них мифы»7.
Предельный лаконизм рассказа «ВОЛКИ» связан с глубоким подтекстом: в нём как бы воплощено вечное противостояние жизни и смерти. Природой жанра – а эта миниатюра носит ярко выраженный притчевый характер – обусловлена двуплановость повествования. Художественный конфликт рассказа развивается на двух уровнях: конкретно-реальном и отвлечённо-метафорическом. Причём второй план куда более важен, – он ирреален, подчинён не логике событий, а безличным законам вечности: зимний пейзаж, волчья стая, преследуемая охотниками, и её гибель символизируют путь, по которому движется к смерти всё живое, т. е. жизнь в рассказе Б. Зайцева характеризуется как движение к смерти.
Поэтика зайцевского импрессионизма проявляет себя прежде всего в особой цветописи, усиливающей ощущение зыбкости и даже призрачности происходящего. При полной конкретности зрительных образов в рассказе Б. Зайцева удивительно передано двуцветное противостояние – чёрная ниточка волков поглощается белым безмолвием вечности: «Они обратились в какую-то едва колеблющуюся чёрную ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге…» [c. 34]8. Но для Б. Зайцева импрессионистическая цветопись не имеет самодовлеющего значения – она подчинена созданию определённого психологического настроения. Как указывалось выше, рассказ «Волки» весь проникнут атмосферой взаимной злобы и ненависти перед лицом опасности: волки разобщены и эгоистически отстаивают лишь своё право на существование; вожака стаи, готового вести за собой остальных, но не знающего дороги, разрывают на куски и т. п.
Характерно, что даже мир природы у Б. Зайцева «очеловечен» и враждебен всему живому: «Тёмное злое небо висело над белым снегом, и они угрюмо плелись к этому небу, а оно безостановочно убегало от них и всё было такое же далёкое и мрачное» [с. 32]. В результате возникает своеобразная живопись настроения, и эта метафора, может быть, точнее всего выражает суть художественного метода Б. Зайцева.
Ещё одна импрессионистическая черта в повествовательном стиле Б. Зайцева – большое количество слов «казалось» etc., а также преобладание неопределённых местоимений и наречий («кто-то», «что-то», «почему-то»). На особую, специфическую роль в творчестве писателей-импрессионистов слова «казалось» и его синонимов обратил внимание американский славист П. Генри: «слово «казалось» указывает на условность, субъективность, возможную ошибочность высказываемого, однако у импрессионистов оно часто трактуется как объективно случившееся, т. е. читатель подвергается своеобразному «обману»»9.
Подобно другим писателям-импрессионистам, Б. Зайцев затушёвывает границу между воображаемой, т. е. обманчивой правдой и объективным фактом действительности: «… волкам казалось, что отставший товарищ был прав, что белая пустыня действительно ненавидит их; ненавидит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, мешают спать; они чувствовали, что она погубит их, что она разлеглась, беспредельная, повсюду и зажмёт, похоронит их в себе…» [с. 34]. Такой приём устранения, затушёвывания границы между реально существующим и тем, что кажется героям повествования, – одна из типичных черт импрессионистического видения, подобная слиянию действительности и сновидения. Этот приём отчасти предвосхитил поэтику писателей-модернистов Л. Андреева, А. Белого, А. Ремизова и др.
Приметы пейзажа в рассказе Б. Зайцева в целом переданы с реалистической ясностью, но и они подчинены законам импрессионизма. Во главе угла – не картины природы сами по себе, а моменты их восприятия: «… волки поёжились и остановились. За облаками взошла на небе луна, и в одном месте на нём мутнело жёлтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и что-то призрачное и болезненное было в этом жидком молочном полусвете» [с. 33]. Пейзаж как бы сливается с психологическим состоянием героев, при этом реалистическая графика преображается в импрессионистическую размытость цвета: обращает на себя внимание какая-то безжизненность свето-воздушной среды – мутный свет луны отражается ещё более призрачным жидким полусветом. Мертвенность пейзажа (а мертвенно-снежная белизна является лейтмотивной деталью пейзажа в рассказе «Волки»), в свою очередь, символизирует неизбежность смерти в конце жизненного пути.
Повесть Б. Зайцева «ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА» (1918), завершающая ранний – дореволюционный – период его творчества, пожалуй, как ни одно другое произведение писателя отражает эволюцию в 1910-е годы не только его стиля, но и творческого метода: с одной стороны, повесть написана в традициях русского классического реализма с его пристальным интересом к человеческим судьбам, к психологии личности, но вместе с тем на её жанрово-стилевую структуру существенное влияние оказала поэтика импрессионизма10. Повесть «Голубая звезда» построена на плавной, спокойной, даже несколько описательно-статичной смене бытовых картин, эпизодов. Контур её сюжета образует цепь взаимосвязанных событий из жизни главных героев, но движение сюжета здесь куда менее интересно, чем движение характеров.
Действие повести происходит в течение одного года: этапы жизни героев вписаны в календарь природы, символизирующий краткость, быстротечность жизненного круговорота («карнавала бытия»). Повествование ведётся от третьего лица, но автор постоянно меняет ракурс изображения: сочетая безличную, объективную манеру повествования с повествованием в аспекте одного или нескольких героев, он стремится выявить индивидуальность характера и своеобразие точек зрения как центральных, так и второстепенных персонажей. При этом ему удаётся передать не только тонкость человеческих отношений, сложность характеров героев (всё это, безусловно, реалистические тенденции), но и их субъективные мимолётные ощущения и впечатления в те или иные моменты действия, – а это уже тенденции импрессионистические.
В художественной системе Б. Зайцева значительное место занимают такие традиционные изобразительные средства, как портрет, пейзаж, интерьер. Но писатель сознательно отказывается от характерных для классического реализма обстоятельных описаний. Его стилистической манере свойственна предельная экономия языковых средств, краткость, сгущённость, свежесть повествования.
Подобно импрессионистической живописи, повесть Б. Зайцева воздействует на читателя суггестивно, заражая его субъективным настроением, а не объективно-информативным смыслом изображаемого. Этому, в частности, способствуют такие элементы импрессионистического стиля, как фрагментарность синтаксиса и распад описания на ряд небольших предложений. Характерный пример – описание поездки Натальи Григорьевны и Машуры в имение под Звенигородом: «Вечерело. Из-за поворота в лесу вдруг открылся вид на Москву-реку, луга и далёкий Звенигород. В густой зелени горела золотая глава монастыря. Закатным светом, лёгкой, голубеющей дымкой был одет пейзаж. Коляска взяла влево, песчаным берегом; лошади перешли в шаг. Подплывал паром. Кулик летел над водой…» [с. 323].
Особая роль в поэтике Б. Зайцева принадлежит художественной детали. Как отмечает Е.С. Добин, «смысл и сила детали заключается в том, что в бесконечно малое вмещено целое»11. Примером подобной смысловой насыщенности могут служить импрессионистические детали в портретных характеристиках героев повести «Голубая звезда». Полных портретных характеристик, присущих классическому реализму, в повести Б. Зайцева практически нет. Как правило, они складываются из отрывочных описаний с акцентом на какой-нибудь одной детали. Причём этой деталью – импрессионистической по своей сути, так как все портреты в повести Б. Зайцева даются в ситуативном восприятии того из персонажей, в чьём аспекте в данный момент ведётся повествование, – чаще всего становится указание на выражение глаз героя. В результате образуются цепочки лейтмотивных деталей, с помощью которых Б. Зайцев выстраивает динамику внутреннего состояния героев по мере движения сюжета. Так, развитие сюжетной линии Христофоров – Машура – Антон характеризуется постоянными колебаниями, сомнениями Машуры: с одной стороны, она сомневается в подлинности, искренности тех чувств, которые испытывает к ней Христофоров, а с другой – ей не сразу удаётся определить истинный характер своего отношения к Антону. Эти колебания Машуры чётко прослеживаются в характере импрессионистических деталей портретных характеристик героев в разные периоды их взаимоотношений:
1) «Он (Христофоров. – С.Т.) странный, но страшно милый. И страшно настоящий, хотя и странный…»:
«Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились…» [с. 321];
«Случалось ей видеть, как в знойный полдень подолгу он сидел над гусеницей, ползшей по листу; без шляпы бродил по саду, с расширенными зрачками…» [с. 329];
«… с глазами расширенными и влажными он действительно показался ей странным» [с. 351].
2) «… мне иногда казалось, что вас забавляет играть… игра в любовь, что ли… И я бывала даже оскорблена. Я вас временами не любила»:
«Машура привстала, явное неудовольствие можно было в ней прочесть. Даже глаза нервно заблестели…» [с. 330];
«Машура подошла к нему, взглянула прямо в лицо. Его глаза как будто фосфорически блестели…» [с. 330];
«Машура взглянула на него. Его глаза были слегка влажны, блестели…» [с. 349].
3) «… вы, по-моему, очень чистый, и не такой, как другие… да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась… ревновала»:
«В лунном свете Христофоров заметил, что глаза её полны слёз…» [с. 351];
• «Машура была бледна, тиха. Когда задул он лампу, в голубоватой мгле блеснули на него влажные, светящиеся глаза…» [с. 373].
4) «А всё-таки, – сказала она через минуту, резко, – я никого не люблю, кроме Антона. Никого, – прибавила она упрямо»:
• «Антон с просохшими, сияющими в полумгле глазами, ходил из конца в конец залы…» [с. 355];
• «Когда Машура вышла, в белом платье, оживлённая с темно-сверкающими глазами на остроугольном лице, она показалась ему (Антону. – С.Т.) прекрасной…» [с. 355].
5) «… именно в эти минуты я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге… ну, это ваш поэтический экстаз, что ли… Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень искренняя, но это… это не то, что в жизни называется любовью»:
• «Она открыла глаза, взгляд её вначале напоминал лунатика. Понемногу он прояснился…» [с. 374];
• «Машура слегка побледнела, но лицо её, как обычно худенькое, остроугольное, имело печать спокойствия. Лишь в огромных глазах слабо трепетало что-то…» [с. 390].
Аналогичным образом лейтмотивные цепочки импрессионистических деталей портретных характеристик героев, обозначая динамику их внутреннего состояния в ходе действия, характеризуют развитие сюжетных линий Ретизанов – Лабунская и Никодимов – Анна Дмитриевна.
Главное в ранней, дореволюционной, прозе Б. Зайцева – поиск смысла жизни. Писатель видит его в поэтизации «спокойной и мудрой жизни»: итог исканий выражен в довольно неопределённой формуле «терпеть и жить». Очевидно, это связано с тем, что в 1910-е годы у него окончательно формируется осознанное религиозное чувство. Всем своим творчеством Б. Зайцев утверждает идеалы милосердия, добра, всепрощения: он призывает людей быть внимательнее и добрее друг к другу, поскольку в конечном счёте «все мы – странники, путники в этой жизни, неведомо зачем и во имя чего бредущие, скитающиеся по земле»12. Б. Зайцев – «поэт прозы» по словам Ю.И. Айхенвальда: в его произведениях нет социального протеста, он далёк от сатиры, повествование Б. Зайцева проникнуто мягким, грустным лиризмом. Не случайно В.П. Полонский, рецензируя его книгу «Земная печаль», заметил, что этими словами «можно было бы озаглавить всё творчество Б. Зайцева»13.