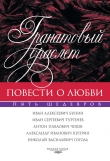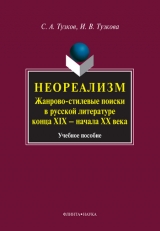
Текст книги "Неореализм. Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX – начала XX века"
Автор книги: Инна Тузкова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В основной же части произведения представлены исключительно звуковые пейзажи: «В саду было совершенно тихо. Смёрзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков: зато воздух стал как-то особенно чуток, отчётливо и полно перенося на далёкие расстояния и крик вороны, и удар топора, и лёгкий треск обломавшейся ветки…» [с. 228]; «Было тихо: только вода всё говорила о чём-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черёмуха шептала тёмною листвой; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою…» [с. 207]. Здесь авторское сознание, по сути, сливается с сознанием героя. Таким образом, описание зрительного пейзажа в повести В. Короленко передаёт авторское восприятие природы, а описание звукового пейзажа соответствует восприятию окружающего слепым: конкретные, реальные предметы в его субъективном восприятии превращаются в смутные, неопределённо-таинственные образы, исполненные слуховыми ощущениями.
Пейзаж в «Слепом музыканте» выполняет функцию создания символического подтекста: посредством пейзажа здесь передаётся лирико-экспрессивный образ ожидаемого (определение В. Каминского)7, скрытый мотив движения к «свету», к полнокровной жизни. Характерно, что через образное, непосредственное восприятие слепого природа одухотворяется: «деревья в саду шептались», «глядело смеющееся весеннее солнце», «вода говорила о чём-то», «смёрзшаяся земля смолкла», «ночь глядела», «густая черёмуха шептала» и т. д. В свою очередь звуковые образы, придающие пейзажу оттенок одухотворённости, непосредственно реализуются в музыкальных импровизациях Петра, тем самым утверждается вера в торжество света над тьмой (основная идея произведения). Это особенно ощутимо в эпилоге: «Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струёю, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грёзы о минувшем…» [с. 247–248], поскольку символика пейзажа перекликается в «Слепом музыканте» с иносказательным смыслом финала – духовным прозрением героя (««Он прозрел, да, это правда, – он прозрел», – думал Максим» [с. 248]).
Несомненно, одним из основных источников лиризма в повести В. Короленко служит портрет. Уже в экспозиции лиризм проступает в обрисовке портрета Петра: «Для своего возраста он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Чёрные волосы оттеняли ещё более белизну лица, а большие тёмные, малоподвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание…» [с. 177–178]. Черты романтического героя развиваются и углубляются в портретной характеристике из пятой главы произведения: «Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Чёрные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец, и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряжённо вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок…» [с. 199]. Здесь душевные терзания слепого, мучительно переживающего свою физическую неполноценность, отчуждение от людей. Существенным моментом является то, что эмоции, чувства, о которых рассказывается, принадлежат не только герою, но и автору-повествователю.
Несмотря на то что Пётр отчужден от окружающих слепотой, при упоминании о нём В. Короленко практически не употребляет слово «одинокий» в качестве психологического эпитета, однако лирико-романтический мотив одиночества вводится им в повествование как разработанная тема биографии и психологического портрета героя. Уже в детстве, когда деревенские мальчишки «затевали игры, слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей» [с. 179], со временем мало что изменилось. В юности наиболее остро горечь одиночества Пётр ощущает в обществе своих сверстников, охваченных волной «кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений»: «…он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы» [с. 200].
Одной из форм углублённого лиризма в повести В. Короленко является образ-параллель – слепой послушник-звонарь из монастыря. Его «как бы родственное» сходство с Петром поражает окружающих: «Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого… Его черты были грубее, вся фигура угловатее, – но тем резче выступало сходство…» [с. 219]. Желчность и озлобленность отчасти передаются Петру, изменяют его мироощущение: «Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Пётр глубоко задумывался, и на лице его ложилось впечатление какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и (…) сильно напоминало слепого звонаря» [с. 225]. В ходе повествования писатель психологически достоверно и убедительно показывает, как изменяется душевное состояние Петра под влиянием тех или иных людей и обстоятельств в разные периоды его жизни: «Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы ещё не обращаем внимания. Встреча со слепым звонарём придала этой боли остроту осознанного страдания» [с. 229]; после встречи со слепыми нищими и болезни «он сильно изменился, изменились даже черты лица, – в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть (…) Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетавшее врождённую энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому» [с. 240–241]. Отказ от индивидуализма, от эгоистического переживания собственных страданий, осознание своей социальной значимости, ответственности за жизнь тех людей, которых общество обрекло на страдание, помогает ему преодолеть своё отчуждение и обрести смысл жизни в музыке, в служении людям.
Наряду с портретом главного героя в повести «Слепой музыкант» представлены развёрнутые лирически окрашенные портретные характеристики Максима (гл. 1, III) и Эвелины (гл. 3, III; гл. 5, IV). Причём они сопровождаются пространными размышлениями автора-повествователя о свойствах человеческой личности, о смысле жизни, о месте человека в обществе и т. п., которые также имеют лирическую природу и образуют лирический сюжет, способствуя выражению гуманистического начала в творчестве В. Короленко. В частности, авторский комментарий к портретной характеристике Эвелины («Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединённой с печалью и заботой, – натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность…» [с. 188–189] вводит в повествование лирико-романтические мотивы любви и самопожертвования.
Отметим, однако, что мотив любви у В. Короленко ослаблен и не относится к центральным8. Пётр, сосредоточенный на эгоистическом переживании своих страданий, не сразу отдаёт себе отчёт в тех чувствах, которые он испытывает к Эвелине: «Да, он никогда об этом не думал. Её близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим…» [с. 213]. Нельзя сказать, что любовь поглощает Петра всецело после того, как к нему приходит осознание силы чувства, которое связывает его с Эвелиной, – В. Короленко значительно больше внимания уделяет описанию мучительных поисков героем своего места в жизни («к вопросу: «зачем жить на свете?» – он прибавлял: «зачем жить именно слепому?»» [с. 230]), чем изображению развития отношений между влюблёнными.
Эмоционально насыщенная речь автора в повести «Слепой музыкант» является основой повествования. С её помощью описывается пейзаж, портреты действующих лиц, она же определяет проникновенный лиризм, эмоциональный тон всего повествования. Своеобразный эмоциональный накал в повести В. Короленко создаётся за счёт подбора лексических средств, содержащих в своей семантике элемент возвышенности, высокой экспрессии (даль, печаль, грусть, гармония), за счёт употребления ярких эпитетов (необъятная тьма, непроницаемый мрак, заколдованный круг, горькая ошибка), типично романтических метафор (шёпот черёмухи, мраморные виски, зеркало души) и сравнений (один толчок – и всё душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала…; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя…), лексики, заимствованной из украинского языка (панич, доля, думка, рушница, бандура, кобзари) и т. п.
Однако немаловажную роль в раскрытии характеров героев, движении сюжета играет и их собственная речь, для которой также характерна взволнованность интонации, насыщенность экспрессивной лексикой, метафоричность. Так, обострённый лиризм звучит в монологе слепого, который через несколько дней после посещения монастыря на вопрос Эвелины: ««Зачем ты мучишь меня?», – с яростью отвечает: «Мучу? Ну, да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю, и я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я ещё не родился, вложила в меня эту злобу… Мы все такие, рождённые слепыми..»» [с. 231]. А признание Петра: «Мне кажется, что я совсем лишний на свете» [с. 205], в свою очередь, воспринимается как приговор эгоцентризму героя, который вырос, как «тепличный цветок, ограждённый от резких сторонних влияний далёкой жизни» [с. 195].
И все же ощущение трагической безысходности, отчаяния от невозможности изменить свою судьбу, постепенно нарастающее в ходе повествования и с наибольшей силой выраженное в одной из реплик Петра в разговоре с Эвелиной («Я хочу видеть – понимаешь? хочу видеть и не могу освободиться от этого желания» [с. 231]), в эпилоге сменяется чувством духовного прозрения, внутреннего просветления героя, так что центральный лирико-психологический мотив произведения в финале получает логическое завершение.
Своеобразное композиционное обрамление повести В. Короленко создают размышления Максима о смысле жизни из первой главы и эпилога: «…изувеченный боец думал о том, что жизнь – борьба и что он навсегда выбыл из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат (…) Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?» [гл. 1, III, с. 153]; «Кто знает, – думал старый гарибальдиец, – ведь бороться можно не только копьём и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбой подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я не даром проживу на свете, изувеченный старый солдат…» [гл. 1, VIII, с. 160] и «…старый солдат всё ниже опускал голову. Вот и он сделал своё дело, и он не даром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой. Максим опустил голову и думал: «Да, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных…»» [эпилог, с. 249].
Если в первом фрагменте из экспозиции косвенная речь переходит в несобственно-прямую, а во втором представлен внутренний монолог героя, то в концовке эпилога используется и форма внутреннего монолога, и переход косвенной речи в несобственно-прямую, что, несомненно, многократно усиливает лиризм повествования. Заключительная фраза повести: «Так дебютировал слепой музыкант» [с. 249], выдержанная в подчёркнуто нейтральном, лишённом каких-либо эмоциональных оттенков ключе, снимает лирическое напряжение и служит созданию эффекта открытости финала. Лирическое напряжение, эмоциональный накал произведения также несколько снижаются и уступают место более чёткой, лаконичной и сжатой образности в главах, действие которых переносится из мира переживаний к реальным событиям жизни (например, споры о назначении человека, которые ведёт приехавшая в гости молодёжь – гл. 5, III–IV и др.).
Завершающий повесть В. Короленко «Слепой музыкант» эпилог-послесловие содержит оценку происшедшего, подведение итогов и, казалось бы, придаёт финалу законченность. Однако это впечатление оказывается в значительной степени мнимым, поскольку эпилог «Слепого музыканта», строго говоря, не является эпилогом9. По существу, от традиционного эпилога у В. Короленко остаётся только один признак – временная дистанция. Ни темп повествования, ни стиль не изменяются. Эпилог, включив в себя завершение сюжетной коллизии, её развязку, становится прямым продолжением сюжета и, завершая его, намечает перспективу будущего: герой оставлен на пороге нового этапа его жизни.
Открытые финалы в произведениях В. Гаршина и В. Короленко преобладают не случайно. В современном литературоведении сложилось представление, что эволюция финалов в направлении всё более нарастающей открытости выступает как устойчивая закономерность развития европейской литературы XIX – ХХ вв.: «Конфликты всё реже исчерпывают себя в изображаемом действии, перипетии оказываются не такими уж значимыми, финалы выступают как многоточия…»10
Подчёркнуто открытым финалом с излюбленным у В. Короленко многоточием завершается и лирико-символический рассказ «МГНОВЕНИЕ» (1900). Концовка («Сверкающие волны загадочно смеялись, набегая на берег и звонко разбиваясь о камни…» [с. 258]) переводит повествование из медитативного плана в изобразительный и одновременно из крупного – в общий. У читателя возникает ощущение пространственно-временной перспективы, позволяющее охватить в своём сознании всё происшедшее в контексте прозвучавшей в предваряющем концовку диалогическом эпизоде реплики-сентенции («…кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябанья!..» [с. 258]) и вкрапления в речь автора-повествователя несобственно-прямой речи («Офицеры переглянулись… Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?.. Ответ ли это на вопрос об участи беглеца?.. Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?.. Ответа не было…» [с. 258]).
Несмотря на то что судьба героя рассказа В. Короленко до конца не прояснена, финал «Мгновения» воспринимается как романтический гимн «безумству храбрых» и, в отличие от финалов гаршинской «Ночи» или «Attalea princeps», выдержан целиком в оптимистическом ключе. Впрочем, даже вероятная гибель героя не в состоянии изменить что-либо в общем настроении произведения: пессимизм В. Гаршина чужд В. Короленко, – как и в других произведениях писателя, в «Мгновении» утверждается романтическая вера в конечное торжество справедливости и свободы. При этом, как отмечает В. Гусев, притчевая конструкция рассказа не нуждается в документальной достоверности: действия и события, изображаемые в нём, «служат прежде всего для выражения лирического содержания и не имеют самостоятельного значения» 11.
Формально рассказ «Мгновение» состоит из семи глав, но условно его можно разделить на четыре части, каждая из которых включает в себя один из элементов сюжета:
1-я часть гл. 1–2: описание приближения бури (экспозиция);
2-я часть гл. 3–4: пребывание Диаца в тюрьме (завязка конфликта);
3-я часть гл. 5–7: побег из тюрьмы (кульминация);
4-я часть гл. 7: финал: поиски Диаца (развязка).
Контур сюжета составляют мотивы усыпления (за время пребывания в тюрьме) и пробуждения сознания героя. Тема сна нагнетается в повествовании до середины четвёртой главы: «Понемногу всё прошлое становилось для него, как сон. Как во сне дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нём прозрачные тени давно прошедшего…» [с. 253]; «И ещё годы прошли в этой летаргии…» [с. 253]; «Время сна не существует для сознанья, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжёлым и бесследным…» [с. 254] и т. п.). С середины четвёртой главы вводится мотив пробуждения усыплённого сознания» («Душа просыпается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания…» [с. 255] и т. п.).
Лирические мотивы усыпления и пробуждения сознания героя подготавливают развитие центральной лирико-психологической темы рассказа, связанной с основной линией сюжета: Диац в конце концов преодолевает тупое равнодушие: «Диац почувствовал, что всё внутри его дрожит и волнуется, как море… И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад… Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы… Это было восстание!..» [с. 255]. Он пытается бежать из тюрьмы («Диац кинулся к решётке и, в порыве странного воодушевления, сильно затряс её…» [с. 255]), но в какой-то момент страх смерти в его душе оказывается сильнее, чем стремление к свободе («Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдёт в свою тихую келью, наложит решётку, ляжет в своём углу на свой матрац и заснёт тяжёлым, но безопасным сном неволи…» [с. 256]). Однако устыдившись собственной слабости, он всё-таки совершает побег, во время которого испытывает чувство «радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни» [с. 257].
С движением сюжета рассказа, без которого невозможно верно проследить развитие характера героя, прочно связано авторское присутствие в произведении: автор-повествователь направляет развитие сюжета, эмоционально оценивает и комментирует изображаемое, вводит лирически окрашенные описания (портрет, пейзаж), романтическую символику и др., что позволяет ему постоянно держать читателя в плену авторских мыслей и чувств.
Отметим, что в организации повествования В. Короленко использовал приём композиционного параллелизма: характеристика психологического состояния героя рассказа постоянно соотносится с изображением моря. Наиболее отчётливо эта соотнесённость прослеживается в третьей главе «Мгновения», где описывается пребывание Диаца в тюрьме на протяжении многих лет: «Он знал, что его держит здесь не решётка… Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое море…» [с. 254], – и настроение героя прямо связывается с состоянием моря («…когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, u волны начинали шевелить камнями на откосе маленького острова, – в глубине его души, как эти камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая…» [с. 253]; «…когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, он также успокаивался и забывал минуты исступления…» [с. 254]). Однако и в других главах изображение характера героя, как впрочем и лирическая напряжённость, эмоциональное движение повествования, прямо соотносится с описанием моря, которое в этом рассказе доведено В. Короленко до высот подлинно поэтического искусства. При этом следует подчеркнуть, что описание моря даётся в рассказе по-разному: в одних случаях В. Короленко остаётся в рамках реалистического метода отражения действительности, в других – обращается к принципам романтической поэтики.
Так, в экспозиции, где точными, лаконичными штрихами писатель рисует приближение бури, преобладающей оказывается реалистическая манера изображения: «…близилась буря. Солнце садилось, ветер всё крепчал, закат разгорался пурпуром, и, по мере того, как пламя разливалось по небу, – синева моря становилась всё глубже и холоднее (…) Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближающегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озарённому горизонту» [с. 251, 252]. Здесь бросается в глаза отсутствие ярких, экспрессивных эпитетов и преобладание относительно простых синтаксических конструкций. Характерно, что Т. Маевская, выделяя в рассказе В. Короленко реалистический и романтический пласты повествования, указывает на двоякую функцию этого пейзажа: «…он предваряет романтическую историю трагической судьбы узника и символизирует надвигающуюся бурю, вернее, надежду на социальные перемены в общественной жизни»12.
Иным предстаёт пейзаж в основной части повествования и в финале. Здесь описания моря предельно насыщены романтическими метафорами и сравнениями, на смену точности и лаконичности приходит проникновенный лиризм и напряжённая эмоциональность: «Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощён тяжёлою мглою. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный, затуманенный месяц. Далёкие, неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли… Остался только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий…» [с. 255]; «…наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись ещё по небу; море стихало, колыхаясь и, как будто, стыдясь своего ночного разгула… Синие, тяжёлые волны всё тише бились о камни, сверкая на солнце яркими, весёлыми брызгами. Дальний берег, освежённый и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи» [с. 258]. При этом в лирически окрашенных пейзажах метафоры и сравнения служат не столько для уточнения представлений о море или других явлениях природы, сколько для выражения определённого настроения героя и автора-повествователя, в результате чего предметный ряд насыщается субъективным, лирическим содержанием. Романтический колорит пейзажей, в свою очередь, вносит в повествование субъективно-лирическое начало.
Выражением субъективно-лирического начала в рассказе В. Короленко являются и многочисленные вкрапления в речь автора-повествователя несобственно-прямой речи героев произведения, главным образом, центрального персонажа. Это, например, размышления Диаца: «Диац только повёл плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит, что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запоздалая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабьего берега… Ему нет дела ни до неё, ни до голосов моря…» [с. 254]; «Диац поднялся и, точно побитая собака, пошёл к этому огоньку… Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдёт в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своём углу на свой матрац и заснёт тяжёлым, но безопасным сном неволи. Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль… Могут ещё подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь… Нет, он не хочет бежать… На море гибель…» [с. 256] и т. д.). Это эмоционально насыщенные вопросы: «Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку… К чему?..» [с. 253]; «И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжёлым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием… Это он? Тот Диац, который вошёл сюда полным сил и любви к жизни и свободе?..» [с. 257], и восклицания: «И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад… Ведь это был не сон!
Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы… Это было восстание!» [с. 255] и т. д.
С помощью несобственно-прямой речи В. Короленко подчёркивает, выделяет те этапы борьбы узника с самим собой, которые особенно важны для развития центральной лирико-психологической темы рассказа. При этом повествование приобретает подчёркнуто субъективный, лирический характер: в авторском рассказе о чувствах, мыслях и переживаниях героя раскрывается не только его внутренний мир, но и проясняется отношение повествователя к своему персонажу. Автор-повествователь словно сам переживает то или иное состояние своего героя. Взволнованный голос автора звучит открыто, его сознание свободно проникает в сознание персонажа, сливается с ним.
Повышенная эмоциональность, взволнованность повествования выражается и в повышении ритмичности авторской речи. Рассматривая функции ритма в прозе, М. Гиршман подчёркивает, что ритмическая организация «выполняет экспрессивную функцию, эмоционально «заражая» читателя, пробуждая его к сопереживанию, к сотворчеству» 13. Так, в глубоко лиричных, наполненных истинно романтическим пафосом фрагментах из четвёртой главы рассказа В. Короленко своеобразное эмоциональное настроение создаётся повторением неопределённых местоимений (что-то), прилагательных (тихое, ласковое, незнакомое) и существительных (грохот, шипенье, свист). В размеренную, привычную жизнь узника вплетается мечта, хотя и неясная, о чём-то лучшем, несбыточном, желаемом – мечта о свободе («За окном неслись в темноте белые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипеньем и свистом… Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает, замирает вдали… Хотя такие бури бывали не часто, но всё же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипенье, и подземное дрожанье каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул стал убывать, под ним послышался ещё какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое, незнакомое… Налетел ещё шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипенья и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решётке и… сильно затряс её…» [с. 255]).
Таким образом, для повышения ритмичности повествования В. Короленко, наряду с различными формами грамматико-синтаксического параллелизма, широко использует звуковые и лексические повторы, хотя это и противоречит основным принципам прозаической речи, придавая ей искусственную напевность14, на что, в частности, указывал В. Жирмунский: «Основу ритмической организации прозы всегда организуют не звуковые повторы, а различные формы грамматико-синтаксического параллелизма»15.
Примером нарастания в прозе В. Короленко ритмической организованности в самых напряжённых моментах сюжета может служить и фрагмент из шестой главы рассказа «Мгновение», включающий краткое описание внешности героя, его психологический портрет, отдельные выразительные черты которого служат характеристике душевного состояния Диаца в заключительной части повествования: «Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепко сжал руль, натянул парус и громко крикнул… Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни… Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку… Она поднималась, поднималась… казалось, целую вечность… Хозе-Мария-Мигуэль-Диац с сжатыми бровями, твёрдым взглядом глядел только вперёд, и тот же восторг переполнял его грудь…» [с. 257]. Характерно, что портретная характеристика героя в этом фрагменте повествования завершается обобщающим, лирически окрашенным высказыванием автора: «Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни… А он… Он хочет только свободы» [с. 257].
Как видим, нагнетание однородных сказуемых и определений в лирически напряжённых моментах сюжета позволяет В. Короленко создавать взволнованный и прерывистый ритм повествования, по отчётливости приближающийся к стихотворному. Однако следует подчеркнуть, что писатель «нигде не переходит грань, отделяющую белый стих от ритмизированной прозы. Чутко поддерживая равновесие между лиризмом и повествовательным началом, он избегает и частого повторения синтаксико-ритмических сочетаний, которые могли бы привести к возникновению чёткого собственно стихотворного ритма», на что, обобщая наблюдения над ритмикой «Мгновения», справедливо указывает В. Гусев16. Тем не менее ритмизация прозаической речи в «Мгновении», несомненно, усиливает её экспрессивность, создаёт особый эмоциональный настрой, определяющий напряжённую и взволнованную интонацию повествования.
Наряду с лирически окрашенными изобразительно-описательными и ритмизированными фрагментами, в рассказе В. Короленко значительную роль играют не столь многочисленные драматизированные эпизоды. Их всего три: диалоги между часовым и капралом (гл. 1), между часовым и рыбаком (гл. 2) и между испанскими офицерами (гл. 7). Они выполняют двоякую функцию: с одной стороны, драматизация повествования активно вовлекает в действие читателя, а с другой – усиливает в произведении реалистическое начало, на что, в частности, обращает внимание Т. Маевская: «…диалог между капралом и часовым в первой главе и сцена во второй главе между часовым и рыбаком, которого приближающийся шторм заставил причалить лодку к испанскому форту, написаны в реалистической манере»17. Однако и здесь элементы романтического стиля органично сочетаются с общим реалистическим тоном повествования и настолько с ним переплетаются, что грани между реалистическим и романтическим зачастую едва уловимы.
С романтическим началом в рассказе «Мгновение» непосредственно связан постоянно встречающийся в произведениях В. Короленко лирико-романтический мотив одиночества, отчуждения. Герой рассказа обречён на одиночество: каменные стены башни, железные решётки на окнах тюремной камеры и море на многие годы оградили его от человеческого общества. Но здесь, в отличие от повести «Слепой музыкант», лирико-романтический мотив одиночества разрабатывается не в связи с психологической характеристикой героя (как сознательно выбранный образ жизни), а в связи с романтической фабулой. При этом мотив одиночества («В его каморке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углублённая дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке» [с. 253]) в художественной структуре произведения непосредственно подготавливает введение центрального лирико-психологического мотива стремления к свободе, который в данном контексте воспринимается как естественный протест против насилия над личностью героя.