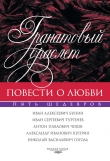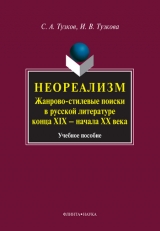
Текст книги "Неореализм. Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX – начала XX века"
Автор книги: Инна Тузкова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Характерно, что в описании коммерческого сада так же проступает авторская ирония (имеется в виду фраза «В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семёнычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле чёрный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи…» [с. 186]), но здесь точка зрения А. Чехова совпадает с позицией Коврина, настроенного по отношению к коммерческой стороне деятельности Песоцкого столь же иронично, как и автор-повествователь. В результате уже в начале рассказа обозначается ироническая дистанция между автором и главными героями, которая в ходе повествования постепенно преобразуется, не исчезая окончательно, в элегичность сострадания22. Следовательно, абсолютно правы исследователи, полагающие, что авторский идеал в «Чёрном монахе» не совпадает ни с позицией Коврина, ни с позицией Песоцкого: авторская позиция в рассказе А. Чехова раскрывается через сложное сплетение позиций главных героев23. Таким образом, с точки зрения А. Чехова, постижение истины становится возможным только в диалоге различных сознаний: авторская ирония в данном случае указывает на то, что «правда» каждого героя относительна и недостаточна.
Иронический характер авторской речи проявляется и в постоянных указаниях на суетность жизни героев произведения. В частности, портретная характеристика Песоцкого заканчивается ремаркой автора-повествователя («Вид он имел крайне озабоченный, всё куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!» [с. 188]), иронический эффект которой распространяется и на повторяющиеся реплики героя, – своеобразные эмоциональные константы его художественного образа: «Боже мой! Боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!» [с. 188]; «Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!» [с. 203]. Ту же ироническую функцию здесь выполняют контрастные восклицания («Боже мой!» – «Черти!») и авторские неологизмы («перемерзили», «пересквернили»).
Ироничность тона авторского комментария заметно усиливается в шестой главе рассказа:
• в описаниях, связанных с подготовкой к свадьбе Коврина и Тани («А тут ещё возня с приданым, которому Песоцкие придавали не малое значение; от звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюгов и от капризов модистки, нервной, обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы…» [с. 202]);
• в характеристике внутреннего состояния Тани («То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться богу, а то… бог весть откуда, придёт мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, – и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов…» [с. 202]);
• её отца («В нём уже сидело как будто два человека: один был настоящий Егор Семёныч, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову, и другой, не настоящий, точно полупьяный» [с. 203]);
• Коврина («А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масла в огонь. После каждого свидания с Таней он, счастливый, восторженный, шёл к себе и с тою же страстностью, с какою он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись» [с. 203])
• и, наконец, в описании свадьбы («Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наёмной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни в дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы» [с. 204])24.
Характерно, что именно в этих фрагментах рассказа наиболее чётко обозначено – прежде всего интонационно – отделение авторской точки зрения от кругозора Коврина.
Заключительный абзац седьмой главы («В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору…» [с. 206]) переводит Коврина на положение больного: сначала он утрачивает внутреннюю свободу, а вместе с ней – постепенно – и смысл жизни. Описание парка и сада Песоцких в восьмой главе рассказа («Он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду…» [с. 207]) исчерпывающе отражает перемену, произошедшую в мироощущении Коврина после того, как и он сам, и окружающие стали воспринимать его как психически больного человека: если в период болезни жизнь Коврина «была полна красок, поэзии, красоты природы», то после его выздоровления «она превращается в унылое, бесцветное прозябание». Это особенно остро ощущается по контрасту с первыми главами, наполненными цветом: цветы, краски, природа в «Чёрном монахе» знаменуют радость и смысл существования.
Характерно, что в последней главе к Коврину возвращается способность адекватно воспринимать красоту природы: «Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зелёным; местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту, а в общем какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение!» [с. 212], – ведь перед смертью душа героя вновь пробуждается, и он от состояния унылого равнодушия снова поднимается к радости.
После выздоровления реальная действительность воспринимается Ковриным в искажённом виде, как некая параллель к тому, что было прежде, словно отражённая в «кривом зеркале». Вместо абсолютного счастья и полноты жизни он переживает постоянный душевный дискомфорт, живёт прошлым, без цели в настоящем и без веры в будущее.
Портретная характеристика Коврина в восьмой главе рассказа («…голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо сравнительно с прошлым летом, пополнело и побледнело» [с. 207]) – своего рода ремарка повествователя к описанию пейзажа («Угрюмые сосны с мохнатыми корнями (…) не узнавали его»), – акцентируя внимание читателей на изменении внешнего вида Коврина, автор иронически переосмысливает перемену в его внутреннем состоянии. Отсутствие указаний в тексте рассказа на то, что во время болезни Коврин носил длинные волосы, лишь усиливает эффективность этой детали. А её повторение в конце восьмой главы («… она замечала, что на его лице уже чего-то недостаёт, как будто с тех пор, как он подстригся, изменилось и лицо» [с. 210]) усиливает авторскую иронию и порождает дополнительные смыслы, утверждая читателя в мысли, что с утратой иллюзий Коврин лишился и собственной индивидуальности, – ведь эта, на первый взгляд незначительная, случайная деталь явно соотносится с многочисленными указаниями на незаурядность Коврина в предыдущих главах рассказа («… все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень интересен» [с. 192] и т. п.). Здесь необходимо отметить инверсированность чеховской иронии. Писатель обращает читателя к уже прочитанному, заставляет увидеть в новом свете тот или иной фрагмент повествования, переосмыслить, углубить его. Итак, одной из важнейших форм выражения лирического начала у А. Чехова служит иронический подтекст, скрытый вид иронии, который обнаруживается в ходе повествования в результате сопоставлений и ассоциаций, возникающих в читательском восприятии. Известная краткость, фрагментарность чеховского повествования заставляют читателя ощутить важность, неслучайность подтекстных элементов.
Ещё одно средство выражения авторского лиризма у А. Чехова – это экспрессивность символики. Концентрация лирико-символических тем и мотивов в «Чёрном монахе» необычайно высока, причём исследователи справедливо указывают на двойственность основных понятий и символов рассказа: через всё повествование проходят лирико-символические темы парка, сада (декоративного и коммерческого) и Чёрного монаха26. Двойная лирико-символическая перспектива образа сада, который является одним из основных источников лирического плана произведения, намечается уже в первой главе рассказа: если декоративная часть сада дана как воплощение красоты, идеального начала и включена в хронотоп парка, то коммерческий сад связан с материальными интересами героев, с объективной реальностью и входит в хронотоп дома. В этой связи следует отметить, что с самого начала повествования противопоставление Коврина и Песоцкого намечается через их отношение к разным частям сада: Песоцкий декоративную часть сада «презрительно обзывал пустяками», в то время как на Коврина она производила «сказочное впечатление», и напротив, коммерческий сад для Песоцкого был делом всей его жизни, а у Коврина вызывал скуку. Таким образом, между коммерческой частью сада и декоративной, между домом и парком проходит невидимая, но реально существующая ценностная граница, – по терминологии М. Бахтина, её можно обозначить как хронотоп порога.
Хронотопы парка и дома контрастны. В парке герои мечтают о будущем, объясняются в любви, переживают «светлые, чудные, неземные минуты»; в доме же господствует бытовое, циклическое время: точками его отсчёта служат еда, сон, работа («Однажды после вечернего чая…», «После ужина…», «Под утро…», «Под Ильин день вечером…» и т. п.). Связующими звеньями между домом и парком становятся открытые окна, сквозь которые в дом проникает аромат цветов, мотивируя ожидания и раздумья героя («… в открытые окна нёсся из сада аромат табака и ялаппы» [с. 209]), терраса и балкон, куда Коврин выводит Таню, чтобы рассказать ей легенду о Чёрном монахе («Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон…» [с. 190]).
Составляющие чеховского символа мироустройства Дом – Парк в восприятии читателей ассоциируются соответственно с упорядоченной, повседневной жизнью людей и стихийной жизнью природы. Объединяет их лирико-символический мотив циклического движения, образ которого становится в произведении метафорой человеческой судьбы. Осмыслению этой метафоры в значительной мере способствует ритмическая организация повествования, основанная на повторении лирических мотивов, символических образов, изобразительных деталей и др. Исследователи неоднократно отмечали, что «в каждой новой главе рассказа мы как бы возвращаемся к содержанию предшествующей»27. Ритм повторения особенно ощутим в заключительной, девятой главе «Чёрного монаха», где А. Чехов вводит в повествование все мотивы и символы предшествующих глав:
• письма от Тани как обрамление истории любви героев: «Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить» [гл. 1, с. 184] и «… он получил от Тани письмо… и мысль о нём приятно волновала его» [гл. 9, с. 211];
• символический образ «чужого человека» как угроза гибели сада: «…первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ и не мороз, а чужой человек» [гл. 3, с. 193] и «Наш сад погибает, в нём хозяйничают уже чужие…» [гл. 9, с. 212];
• разорванные Ковриным письмо от Тани и диссертация как отражение гибнущей любви и несостоявшейся жизни: «Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря лёгкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику» [гл. 9, с. 213] и «…он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы» [гл. 9, с. 211];
• повышенная работоспособность, бессонница, пристрастие к вину и табаку, оказывавшим на него возбуждающее действие, как проявления болезненного состояния Коврина: «Он много читал и писал. Он спал так мало, что все удивлялись (…) Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары…» [гл. 2, с. 189] и «Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился (…) Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них – это работа…» [гл. 9, с. 211, 213]28;
звуки скрипки и поющие голоса (звуковой лейтмотив), вызывающие у Коврина сонливость, как знак скорого появления Чёрного монаха: «Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову набок…» [2 гл., с. 189] и «Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка, и запели два нежных женских голоса…» [гл. 9, с. 213];
• серенада Брага, полная таинственного, мистического смысла, как отражение лирической темы Чёрного монаха: «…вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса» [2 гл., с. 190] и «В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная…» [гл. 9, с. 213–214];
• портрет Чёрного монаха как пример кольцевой симметрии, несущей в себе огромную силу эмоционального воздействия на читателя: во второй и девятой главах портрет Чёрного монаха выдержан в стремительном ритме, отличается повышенной динамикой и напряжением, а в пятой главе та же, в сущности, портретная зарисовка даётся – по принципу контраста – в подчёркнуто спокойных, буднично-сниженных тонах: «На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий чёрный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой (…) Монах в чёрной одежде, с седою головой и чёрными бровями, скрестив на груди руки, пронёсся мимо…» [гл. 2, с. 191–192]; «…из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытою седою головой, весь в тёмном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мёртвом лице резко выделялись чёрные брови…» [гл. 5, с. 198] и «Чёрный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он с страшною быстротой двигался через бухту (…) Монах с непокрытою седою головой и с чёрными бровями, босой, скрестивши руки на груди, пронёсся мимо…» [9 гл., с. 214];
• лирический мотив счастья, радости, связывающий все три легенды, включённые в рассказ (серенада Брага, легенды о Чёрном монахе и Поликрате), как символ постижения героем смысла жизни. Обогащаясь лирическими ассоциациями, этот мотив приобретает множество значений (гармония, красота, природа, любовь, наука и др.), сконцентрированных вокруг символа-знака человеческого счастья – Поликрата, с которым сравнивает себя Коврин: «Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую всё его существо…» [гл. 3, с. 195]; «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив! Счастлив!» [гл. 5, с. 201]; «… меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить моё счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства» [гл. 7, с. 205] и «… чудесная, сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди» [гл. 9, с. 214].
Итак, одним из основных принципов построения «Чёрного монаха» являются повторы, при этом авторское отношение к изображаемому выражается посредством сюжетно-композиционных элементов, сопоставлений и контрастов – через «переклички» отдельных эпизодов, реплик, описаний и т. д. Повторение ситуаций, образов-символов, деталей пейзажа и т. п., с одной стороны, позволяет А. Чехову избегать описательности, делает повествование предельно лаконичным и ёмким, а с другой, выполняет роль подтекстных «знаков», благодаря которым автор и без прямых оценок-комментариев даёт читателю почувствовать своё отношение к изображаемому.
Тема Чёрного монаха как важнейший источник лирического плана в художественной структуре чеховского рассказа передаёт движение от объективного к субъективному, от реального к идеальному: Коврин постепенно утрачивает способность ориентироваться в окружающей действительности и оказывается в собственноручно созданном солипсическом мире. Лирико-символический образ Чёрного монаха оценивается исследователями, как правило, двойственно: с одной стороны, как двойник Коврина, его неудовлетворённая потребность жить осмысленно, одухотворённо, иметь высокую цель в жизни (апостольский план), а с другой стороны, как олицетворение болезни, предвестник смерти (апокалипсический план)29.
Диалоги Коврина с Чёрным монахом (5, 7 и 9 гл.) – своеобразная анатомия его души: «…ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, – сказал Коврин. – Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли…» [с. 200], – воспринимаются прежде всего как свидетельство того, что он тонет в своей субъективности. Содержательная сторона этого «раздвоенного монолога» до сих пор оценивается крайне противоречиво. Некоторые исследователи полагают, что беседы Коврина с Чёрным монахом полностью объектны, автор не имеет с ними ничего общего, дистанцируется от них. Другие усматривают в речах Чёрного монаха прямую связь с чеховским словом и оценкой30.
Действительно, в диалогах Коврина с Чёрным монахом затрагивается целый комплекс мотивов, которые в разной степени близки автору: проблемы бессмертия, избранничества, счастья и др. (сама настойчивость обращения к ним разных чеховских героев свидетельствует об этой близости). Однако отношение А. Чехова к содержанию диалогов Коврина и Чёрного монаха не проявляется в форме прямых оценок и комментариев и может быть выяснено только в художественной структуре рассказа в целом, в сцеплении диалогов Коврина и Чёрного монаха с другими композиционными компонентами повествования.
Особое внимание исследователи уделяют финальной сцене рассказа: «Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна…» [с. 214], – полагая, что именно здесь, в потоке сознания умирающего Коврина, звучит голос самого повествователя, даётся авторское понимание идеала, нормальной, здоровой жизни31. Нам же представляется, что в этом лирическом периоде, выделяющемся из окружающего текста интонационно и стилистически, автор-повествователь подводит читателей к мысли, что Коврин променял реальность живого человеческого контакта на воображение, мечту, воспоминания, и усматривает в данном состоянии героя трагедию.
Ключ к чеховскому мировоззрению, очевидно, следует искать в одном из заключительных фрагментов первой главы рассказа, который, несомненно, соотносится с финалом произведения: «Коврин вспомнил, что ведь это ещё только начало мая и что ещё впереди целое лето, такое же ясное, весёлое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями – и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нём впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо» [с. 189]. Если поток сознания героя в финале рассказа определяет вневременный мир Коврина, где всё потеряло реальное значение, то его первоначальная интуиция о гармонизирующем синтезе прошлого и настоящего, движущихся в будущее, приближает читателей к пониманию чеховского идеала. С точки зрения А. Чехова, смысл жизни находится не в изолированности, а в общении, человек должен быть не только погружён в себя, но и открыт вовне; прошлое должно течь в настоящее и направляться к будущему; объективное и субъективное должны пребывать в равновесии, – мечта о гармоничной личности была главным и постоянным источником лиризма А. Чехова32.
Таким образом, анализ лирического плана рассказа «Чёрный монах» показывает, что А. Чехова прежде всего интересуют границы субъективности в мировосприятии героя и опасность, сопряжённая с его бегством от объективной реальности32. Субъективизация реальности закономерно приводит Коврина к отчуждению от окружающих: в конечном счёте он отступает в прошлое, в мир воспоминаний и воображения, – уходит в солипсический, безумный мир и умирает подобно герою гаршинской «Ночи» с блаженной улыбкой на лице. Вместе с тем, как справедливо отмечает Э. Полоцкая, «романтическое звучание финала «Чёрного монаха» не заглушается мотивом душевной болезни… И символы, и подтекст, совмещая в себе противоположные эстетические свойства (конкретного образа и абстрактного обобщения, реального текста и «внутренней» мысли в подтексте), отражают общую тенденцию реализма, усилившуюся в творчестве А. Чехова, – к взаимопроникновению разнородных художественных элементов»33.
В отличие от «Чёрного монаха» рассказ А. Чехова «Дом с мезонином» никогда не называли «загадочным», но тем не менее в центре внимания практически всех исследователей, которые обращаются к его анализу, наряду с такими аспектами чеховской поэтики, как деталь, лейтмотив, принцип контраста и др., оказывается проблема специфики авторской позиции34. Одни интерпретаторы сводят её суть к развенчанию Лиды, к осуждению теории «малых дел», другие – к несостоятельности утопической программы Художника, третьи – к связанной с концепцией В. Катаева идее «равнораспределённости» позиции А. Чехова («равнораспределённость не позволяет видеть в рассказе намерения одну сторону обвинить, а другую оправдать»). В самом деле на уровне «идеологического спора», который ведут герои рассказа, трудно говорить об авторском предпочтении той или иной системы идей: позицию А. Чехова можно назвать диалогической, и с этой точки зрения концепция В. Катаева представляется наиболее приемлемой35. Однако поскольку повествование в рассказе ведётся от первого лица, т. е. сознание повествователя вносит существенные коррективы в изображаемое, нельзя не согласиться и с утверждением И. Сухих, который полагает, что читательские симпатии к непрактичному, мечтательному Художнику и неприязнь к красивой, деятельной Лиде «жёстко запрограммированы в художественном тексте»36. Более того, если попытаться абстрагироваться от сути спора между Художником и Лидой, то несложно заметить, что отдельные главы рассказа объединены лирико-философской темой осуждения узости воззрений и утверждения необходимости их широты для общественного и личного счастья. Столь же очевидно и то, что персонифицированный рассказчик в «Доме с мезонином» весьма близок автору, хотя, конечно, не тождествен ему, – их этические критерии совпадают37. Этим, на наш взгляд, во многом объясняется мягкий лиризм чеховского рассказа: лирическая стихия заполняет его от начала и до конца.
Контур сюжета «Дома с мезонином» образует история несостоявшейся любви Художника. Рассказ делится на четыре главы, каждая из которых содержит один из элементов сюжета, и эпилог:
глава 1 —характеристика внутреннего состояния Художника, его знакомство с семьёй Волчаниновых (экспозиция);
глава 2 —развитие взаимоотношений Художника с Лидой и Женей (завязка художественного конфликта);
глава 3 – спор между Художником и Лидой об отношении интеллигенции к народу (кульминация);
глава 4 – объяснение в любви, неожиданная разлука с Женей (развязка);
глава 5 —эпилог: осознание невозможности счастья…
В плане лирическом уже в экспозиции узость, догматизм отрицаются А. Чеховым с помощью поэтического пейзажа, создающего своеобразную увертюру к произведению: «Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрёл в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею…» [с. 57–58]38. Указание на субъективную близость Художнику этой картины («… на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве» [с. 58]) удаляет его от дома Белокурова, атрибутами которого являются бесцветность, неестественность, непрочность, неуютность, и приближает к дому с мезонином, который от усадьбы Белокурова отличается целым рядом контрастных признаков39.
В целом всё повествование в рассказе построено на контрастах, оттеняющих симпатии автора. Уже в самом начале рассказа обозначен скрытый контраст между сестрами Волчаниновыми, причём их сопоставительное описание включает не только портретную, но и психологическую характеристику: «А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем ещё молоденькая – ей было 17–18 лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась…» [с. 58]. При этом сходство (тонкость, бледность) лишь оттеняет различие: Лида подчёркнуто неконтактна, строга, она сознательно прячет свои чувства; Женя, напротив, вся открыта миру и не умеет скрывать эмоций.
Характерно, что почти все подробности короткого «двойного портрета» сестёр Волчаниновых в ходе повествования превращаются в лейтмотивные детали, которые, как обычно у А. Чехова, становятся главным характеризующим и оценочным средством: с их помощью в характере Лиды постоянно подчёркивается категоричность суждений, громкая речь, исключительный интерес к земским делам, а в Жене – детскость, непосредственность чувства и мыслей, преданность и подчинённость.
В свою очередь, неотъемлемой чертой психологического состояния Художника, ищущего в жизни цельности, устроенности, покоя, является отказ от работы, праздность. Лирический мотив праздности, возникнув в самом начале рассказа («Обречённый судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего…» [с. 57]), проходит, варьируясь, через первые главы и долгое время не получает никакого объяснения. Интересно, что по главному контрасту с Лидиной деятельностью повествователь и в облике Жени выделяет праздность («…не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я» [с. 62]). При этом из текста второй главы интонационно и стилистически выделяется лирический период – своего рода апология праздности, которая как бы отталкивает Художника от Лиды и связывает с Женей: «Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зелёный сад, ещё влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодёжь только что вернулась из церкви и пьёт чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою…» [с. 62–73].
Этот фрагмент парадоксально сориентирован по отношению к позиции автора: герой так лирически проникновенен, что кажется, будто иронически нарисованная картина всеобщей праздности близка и автору. Между тем здесь позиции повествователя и автора расходятся в наибольшей степени, – автор дистанцируется от своего героя, чтобы затем снова сблизиться с ним («Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни» [с. 68]).
С приведённым фрагментом из второй главы рассказа контрастно соотносится и лирический период из четвёртой главы – внутренний монолог Художника о любви к Жене: «Я любил Женю. Должно быть, я любил её за то, что она встречала и провожала меня, за то, что, смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были её бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, её слабость, праздность, её книги. А ум? Я подозревал у неё недюжинный ум, меня восхищала широта её воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил её сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для неё, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарёю, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадёжно одиноким и ненужным» [с. 71–72]. В порыве увлечения герой говорит о своём желании работать, писать: возникшая любовь стимулирует творчество, придаёт жизни смысл. Характерно, что в следующем эпизоде образ дома с мезонином, влекущий к себе Художника обещанием гармонии и умиротворённости, сохраняя всю свою жизненную конкретность, приобретает символический смысл. В глазах героя он лирически преображается, одухотворяется, оживает: «… милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал всё» [с. 72].
Но в финале рассказа, после того, как надежда на счастье рухнула, герой возвращается к своему первоначальному состоянию («Трезвое, будничное настроение овладело мной…» [с. 74]), которое контрастирует с центральным в его рассказе состоянием влюблённости. При этом грусть рассказчика, осознающего непоправимость потери любви, выражена и в ритмическом слоге «стихотворения в прозе», и в лирико-символическом образе дома с мезонином, и в заключительном пейзаже, овеянном настроением прощания.
Эпилог, в особенности его концовка: «Мисюсь, где ты?» [с. 74], – переводит сюжетный смысл рассказа в лирико-символический план. Полуриторический вопрос повествователя не предполагает конкретного, «географического» ответа: скорее он заключает в себе ожидание любви, способной привнести в серую будничную жизнь героя высший смысл, и, очевидно, осознание невозможности вернуть утраченное счастье. Пронзительный лиризм и открытость концовки, выход за пределы текста ещё больше усиливают значимость лирических фрагментов в художественной структуре рассказа (пейзаж, портрет, лирико-символические описания и др.), поскольку сознательная недоговорённость автора (лучше не досказать, чем пересказать) приводит к появлению сюжетных ситуаций, которые невозможно объяснить однозначно.