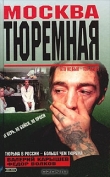Текст книги "Не верь зеркалам"
Автор книги: Инна Гофф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– Еще расскажи, бабушка, – просит Танька, боясь, что сейчас ее отправят спать – час уже поздний. – А потом что было?
– А потом отзывают меня у Томск и ставят завстоловой стройбата – строительный батальон, одним словом. Народ пожилой – с бору, с сосенки… В ватничках ходили, с котелочками. Дали мне столовую на две с половиной тысячи. Это ж какая ответственность, внучушка! А время какое – война, карточки на хлеб, на сахар, на жиры. Народ кругом голодный, есть такие, что и совесть потеряли, а через мои руки продукты пищевые идут ящиками, мешками… Тады я у партию заявление подала… Меня уже знали там. Приняли единогласно… Год кормила я стройбатовцев, не обижались. Тады опять за мной – назначают в столовую Военной академии связи, тоже на две с половиной тысячи… Академия ленинградская, в войну туда была переведена. Слушатели – офицеры, фронтовики недавние, отозваны для усовершенствования… А тут как раз погоны ввели, в феврале сорок третьего… Ничего, думаю, такие же люди, как те мои, в ватничках. Накормлю и этих! Ну, не герой твоя бабушка? А у нас в академии этай одних генералов семь человек. Они отдельно обедали, к ним официантка одна и директор, я, значит, а больше никто не мог заходить… все были довольны, и благодарили все… Ну, какая, скажи, может быть человеку еще награда?.. Звали меня с собой в Ленинград, когда война кончилась… А я им: «Нет, поеду на родину, у свою Беларусь». Сколько сердце мое по ней болело. Солнце на запад, и глаза мои туда… Но не пришлось еще сразу ехать. Война кончилась, а мне новое задание от райкома партии – организовать инкубаторную станцию у городе. Говорят: «Двое уже брались, но у вас, мы знаем, получится». Инкубатор «Пионер». Он уже привезен, свален, а никто не знает, что с ним нужно делать. И читаю – на две с половиной тысячи яиц… Моя ты рыбочка! Как прочла цифру – и покатилась от смеха. Они глядят – баба рехнулась. А я им: «Эта цифра для меня счастливая. Ладно. Берусь наладить». И что ты думаешь, внучушка? Нашла инженера, подвели высоковольтную проводку. Три счета наших у государственном банке… Собрали этот инкубатор, сделали закладку яиц. И запищали наши цыплятки…
Танька слушает, и душа ее наливается гордостью. Не у каждого есть такая бабушка!.. Ни в книгах, ни в учебниках не прочитаешь того, что она расскажет. Не каждому есть что рассказать своим внукам. Иной жизнь проживет, а вспомнить нечего. А бабушка еще молодая. Она и теперь работает, делает печенье на бисквитной фабрике. Вкусное печенье. Бабушка Таньке покупала его в магазине, на главной улице. Бисквитное, с шоколадом. «Это нашей фабрики», – сказала тогда бабушка… Танька различает печенье по сортам – затяжные сорта, сахарные, розница. Так называются цехи на бисквитной фабрике. Один только бабушкин цех выпускает четыре тонны печенья в смену… На фабрике печенье называют скучным словом – продукция…
– И сейчас… – говорит бабушка. – Хоть бы какой яшчик того маргарина у меня пропал или мешок сахара… Я за сырье по цеху отвечаю, за каждый грамм моя расписка стоит. Через мои вот эти руки его тонны и тонны прошли… А этай старик, мозгляк этай, говоре, что я жить не умею – добра не нажила. Ну, не гадость? Вот оно, мое добро, годами нажитое, – мое имя доброе… И ты, внучушка, какое дело ни поручат тебе, делай по чести и совести… А что это твой батька долго не иде? – спросила вдруг бабушка. – Может, заблудился? Пора ему уже дома быть…
В небе звезды высыпали – яркие, большие. Только на юге бывают такие звезды. Ветерок подул ночной, холодный, с запахом моря.
Танька давно в постели лежала, а все ей не спалось. Большая бабушкина жизнь, как будто прожитая и ею, Танькой, странно близкая и понятная, волновала ее. Бабушкино прошлое сливалось с ее, Танькиным, будущим – еще неизвестным, загадочным – в одну общую бесконечную цепь, именуемую человеческой жизнью… Не постигая этого умом, Танька сердцем чуяла этот огромный, кипящий вокруг нее простор жизни – с кубанской степью и горами Кавказа, с сибирской тайгой и белорусским затяжным дождиком, с облаками – перистыми, кучевыми и слоистыми. Незнакомые голоса окликали ее – этих людей она еще не знает, а только узнает в будущем. И почему-то среди них Сашка, не похожий на себя, совсем взрослый. Он ей говорит: «Я офицер связи» – и спрашивает: «Где пропадала?» А что это за девочка такая знакомая, хотя Танька ее видит впервые? Это мама, такая, как на детских карточках. С белыми косками вразлет, в сарафанчике маками… «Товарищи бойцы, выручайте – ести нема чего…» Танька любит эту карточку, где маме, как ей, двенадцать лет. Когда Танька была маленькая, она сказала даже: «Зачем ты выросла? Осталась бы такой. Мы бы с тобой дружили!» И мама долго смеялась и рассказывала своим знакомым, и те смеялись тоже. Теперь Танька понимает, что сморозила глупость. А с мамой они и так дружат!.. Только мало разговаривают – маме всегда некогда. «Когда мне поручат сделать о тебе репортаж, тогда побеседуем», – шутит мама. Такая уж профессия! А кем будет Танька? Может быть, правда полетит на Луну. Вполне возможно. Главное – она будет жить честно, по совести.
В конструкторском бюро его называли сокращенно, с оттенком дружеской фамильярности – Граф. В техническом паспорте у Графа значилось: «Компрессор ГрВП двадцать дробь восемь с графитовыми уплотнениями представляет собой поршневую двухступенчатую машину крейцкопфного типа двойного действия с угловым расположением цилиндров: цилиндр первой ступени – вертикальный и цилиндр второй ступени – горизонтальный. Компрессор оборудован промежуточными и концевыми холодильниками и имеет водяное охлаждение».
Танька пришла в дикий восторг, поймав обрывок телефонного разговора о цилиндрах для Графа. Когда он положил трубку, она долго теребила его, расспрашивая о Графе и цилиндрах. Он смеялся, отмахивался, наконец принялся объяснять, но почувствовал – дочке уже скучно слушать его. Потом он жалел, что не сумел заинтересовать Таньку, воспользоваться случаем и рассказать ей о своем заводе, о трудовой гордости, о тропических машинах, идущих на экспорт в дальние страны – на Кубу, в Индонезию, в Индию, на Цейлон.
Что поделать, он не был говоруном. Теперь с Графом покончено – из Усть-Каменогорска, где головной образец, изготовленный на заводе по рабочим чертежам их КБ, проходил испытания, получена телеграмма – испытания завершены успешно. Теперь можно выпить за Графа, за его долгую жизнь. Для этого и собрались они сегодня в маленькой квартирке у лаборантки Симы Белокриницкой. Муж Симы, инженер отдела главного технолога, один из создателей графитного компрессора, был послан на Кубу в качестве инженера-наладчика с партией компрессоров.
Сима предложила, чтобы собрались у нее. Вино и закуски купили в складчину, при этом с вином явно перестарались. Вскоре за столом стало шумно, а к потолку потянулось голубое марево папиросного дыма. Пили за Графа, кто-то, вконец распоясавшись, именовал его уже «ваше сиятельство» и даже – Лев Николаевич, видимо в честь графа Льва Толстого.
Потом запели «Куба, любовь моя. Куба, ты слышишь, Куба», и Сима заплакала. Он смотрел на Симу и думал: «А если бы я уехал на Кубу тогда вместе с Женей Белокриницким – ведь меня чуть не послали, – плакала бы Вера вот так, сидя в своей компании?» И почему-то никак не мог представить себе плачущую Веру… Впрочем, и Сима вскоре утешилась. Слезы быстро высохли на ее круглом миловидном лице с несимметричной ямочкой на одной щеке, с капризными детскими губами. И платье на ней было милое, рябенькое, в каких-то рюшечках, оборочках, с открытой шеей. Обычно он не замечал, кто во что одет, и женщин это обижало. Особенно Клару Семенову, чертежницу из их отдела. Клара не умела скрывать своего расположения к нему. Он уставал от ее внимания, многозначительных взглядов и вздохов. И сейчас, сидя напротив него за столом, она не сводила с него глаз, и он нарочно стал смотреть на Симу и, когда стали танцевать, пригласил опять же Симу. Три пары топтались на узком пятачке между столом и диваном. Кто-то вспомнил о новом танце, который танцуют, не сходя с места, – танце, рожденном теснотой квартир… Он не очень умел танцевать и, будь в комнате побольше места, ни за что бы не решился. Водка и теснота придали ему смелости, он даже стал выделывать коленца, в завершение подкинул Симу в воздух, и его удивило, что она такая легкая и маленькая, – с Верой они были одного роста. Ему стало весело, он потерял счет времени и не заметил, как стали расходиться. Еще оставалось человека три за разоренным столом, когда Сима, наклонившись к его уху, сказала:
– Клара плачет, пойдите к ней…
– Почему я должен к ней идти? – спросил он, поймав Симу за руку.
– Потому что вы ее обидели, – сказала Сима раздельно, как маленькому, и отняла руку.
– Обидел? Чем? Да я не сказал с ней ни слова!
– Значит, именно этим. Пойдите к ней, прошу вас!.. Она там, на крыльце.
– Ну, если вы просите… – Он сделал ударение на «вы».
Клара стояла на крыльце, задрав голову в небо. Кажется, она в самом деле плакала.
– Пошли танцевать, – позвал он. – А я вас ищу… Клара всхлипнула и взглянула на него искоса, недоверчиво.
– Не натанцевались еще? – спросила она не без ехидства. – Нет, спасибо. Мне что-то не хочется. Лучше здесь постоим. А потом вы меня домой проводите. Хорошо?
Стоять с Кларой на крыльце было совсем уж скучно. Вдобавок он вспомнил, что в одной бутылке еще осталось. И ему хотелось еще побыть с Симой, с этой маленькой женщиной, в ее уютной тесной квартирке, из которой Жене Белокриницкому, наверно, ох как не хотелось уезжать.
Чернота неба была над ними, пахло свежестью, травой, цветами. Крыльцо выходило во дворик, типичный для этого южного города – с потрескавшимся асфальтом и колонкой для воды. Южные дворики – продолжение домов. Здесь стирают, сажают цветы, судачат под вечер. В этот поздний час во дворике уже никого не было. Здесь, как и всюду, что-то цвело – алыча или абрикос, во тьме не разобрать. Ночь была теплая по-летнему. «Да, – подумал он, закуривая, – эти декорации из какой-то другой пьесы. Нам с Кларой тут делать нечего».
– Ладно, я провожу вас домой, – согласился он. – А пока пошли потанцуем.
Ему и правда хотелось танцевать, но не с Кларой, а с Симой. «Может, я влюбился? – мелькнуло в голове. – А почему бы и нет? Разве я не живой человек? Это она так думает (о Вере). Но она ошибается. „У нас все такие семейные…“ Ах, хорошо бы влюбиться! По-настоящему. И пропади все пропадом…»
Наверно, он все же не только «добрал», но и перебрал немного, потому что потом не мог вспомнить, как они очутились на улице втроем – он, Клара и Сима. Позвал он Симу или она сама вызвалась пройтись, подышать воздухом. Они проводили молчаливую, надутую Клару и остались вдвоем на тихих пустеющих улицах. Фонари просвечивали сквозь густую зелень, придавали улицам сходство с подводными гротами. По этим гротам, в зеленоватом освещении, молча двигались запоздалые пары, все больше молодежь – южные красивенькие мальчики и девочки с трудными растрепанными прическами и глазами, фосфоресцирующими от возбуждения. Он вел Симу под руку по старой моде, не решаясь обнять ее за плечи, и этим они отличались от молодых пар, попадающихся навстречу. Было странно идти по улицам в такой поздний час под руку с женщиной, удаляясь в сторону от своего дома.
Сима тоже, видимо, чувствовала неловкость и от этого много говорила – о заводе, о том, что Ереван задерживает поставку бронзы, а так как бронза идет для сальников тропических машин, сборка задерживается. Как бы не погореть с планом в этом месяце!.. Она говорила, о чем придется, боясь его молчания. Внезапно она спросила:
– У вас жена ревнивая?
– К сожалению, нет, – ответил он. – Не к кому ревновать.
– Ну и напрасно. Вы женщинам нравитесь.
– Например? – спросил он. – Кларе Семеновой?
– Хотя бы…
– Вы сказали «женщинам»…
Она засмеялась и ничего не ответила.
Они шли по главной улице, местному «броду», красный отблеск витрин мешался с зеленым светом листвы в какие-то карнавальные тона.
Они замолчали, и молчание их становилось все значительнее и глубже. Казалось, еще немного, и они не смогут из него выбраться. Они приближались к ее дому. Он почувствовал, что она замедляет шаги, как бы сомневаясь в чем-то. Он заметил, что по пути она ни разу не заговорила о своем муже, и он не спрашивал о Жене, как будто это была запретная тема и они договорились молчать, забыть о том, что где-то далеко, на Кубе, есть некий Женя Белокриницкий, славный малый с большими умелыми руками и привычкой подергивать левым плечом. Приближаясь к ее дому, он почему-то больше думал о Белокриницком, чем о Вере, и чувство вины перед ним нарастало. Может быть, потому, что он уже знал, что сегодня войдет в его дом.
А дальше что? Дальше он будет последним подлецом. Интересно, что чувствуют подлецы? Даже те, кто становятся ими впервые? Мучает их раскаянье или они привыкают к своей подлости, находят какую-то форму сосуществования? Сима молчала. Он не знал, о чем она молчит. С Верой было по-другому. Он не всегда знал, что она сделает и какого «выкинет коника», но о чем Вера молчит – он знал. Маленькая чужая рука лежала сейчас в его руке, чуть выше плеча незнакомо шевелились по ветру светлые локоны. У Веры волосы тонкие, легкие, как у всех истинных белорусов. Они вошли в дворик и остановились у крыльца. Теперь здесь было совсем тихо, из дома не доносилось ни звука, и на асфальтовую дорожку не падал свет из окон. А в остальном декорация была та же, что и несколько времени тому назад. Черное небо в звездах, смутная белизна деревьев в глубине двора. Что-то твердо шлепнулось о деревянные ступеньки. – Майский жук, – сказала Сима. Это были ее первые слова после долгого молчания. Она наклонилась, чтобы поднять жука, и, когда выпрямилась, он протянул руку и дотронулся до ее волос. Они были жесткие, должно быть от завивки. Сима не отвела его руку. Она вообще не торопила его уходить, не гнала, как он ожидал. Она, плакавшая о муже, когда пели про Кубу, теперь как будто начисто забыла о нем. «А Вера, – подумал он, – могла бы так стоять с кем-то, если бы я уехал? Вести кого-то к себе в дом?..» От этой мысли ему стало нестерпимо больно. Он почувствовал, что трезвеет. Сима, плакавшая о муже, была ему близка и понятна, потому что позволяла поверить, что и Вера могла бы плакать. Эта, новая, загадочно-молчаливая Сима была чужда и неприятна ему, потому что заставляла скверно думать о Вере. Он стоял на крыльце, и сердце его замирало в ожидании: сейчас она позовет его в дом. «Неужели она позовет меня?» – думал он почти со страхом. Неужели Вера позовет его? Он не знал, кого и когда позовет Вера. Кого-то, когда-то. Не все ли равно? Как будто за то, как поведет себя эта женщина, переживающая разлуку, отвечали все женщины мира. Ему пришла в голову фраза из заводской газеты «Компрессорщик», из передовицы в день Восьмого марта: «У нас на заводе трудится восемьсот женщин…» Та, что стояла рядом с ним, была одной из этих восьмисот. Только и всего. Сейчас она пыталась разглядеть майского жука, лежавшего на ладони.
– Подарить вам его? – сказала Сима. – Для вашей дочки. У вас ведь дочка?
– Да, у нас дочка, – сказал он. – Танька. В пятом классе.
– Я помню себя в пятом классе, – сказала она. – У меня была двойка по арифметике. И еще я мечтала стать летчицей. Тогда многие девчонки об этом мечтали.
– Нынешние мечтают стать космонавтами, – сказал он. На душе было легко оттого, что она не звала его в дом и – он был уверен – не позовет.
– Ну нет, – засмеялась Сима. – Теперь они в лучшем случае мечтают стать стюардессами…
Видно было, что и ей стало легко, как бывает, когда примешь наконец трудное решение. Жуки мелькали над их головами, шлепались о землю, падали на крыльцо, но она их больше не подбирала.
Они попрощались за руку. Он испытывал к ней нежное благодарное чувство за то, что она – или Вера? – выдержала испытание. И ее маленькая холодная рука не показалась ему сейчас чужой.
– Будете писать на Кубу, – сказал он, – Евгению привет!
Возвращаясь домой, он насвистывал. Он подумал, что похож на мальчишку, который доволен свиданием. Когда-то он думал, что можно быть счастливым, услышав «да». Но мог ли он знать, что счастье приносит и слово «нет»? Для этого надо, чтобы пришла зрелость.
Мир вокруг казался ему уравновешенным, почти совершенным. С войны он остался сиротой, не знал, где похоронены отец и мать. Он не умел вспоминать. Он просто все помнил. Все, чем дорожил. И он возвращался в свой дом, где спал его ребенок и не спала, ожидая его, женщина с много видавшими голубыми подозрительными, как у его Веры, глазами.
В свободные часы она ходила одна по незнакомым улицам, в незнакомой пестрой толпе. Садилась на скамейку где-нибудь в скверике и сидела, прислушиваясь к постороннему шуму южного города. Она уже устала от этой жаркой чужой весны и помнила, что ее ожидает еще одна весна, своя, в родном городе, где сейчас только набухают почки на вербах и на холодной земле показалась прошлогодняя трава. Эту чужую весну она как бы ненароком подсмотрела и суеверно думала о том, что человеку две весны в один год не положено. Ей хотелось уже домой, в свой город. Когда она уезжала, там еще только сошел снег. Она и Степан шли на вокзал через детский парк. Ей запомнилась черная с серебром, как со ртутью, вода в речке, в ней отражались четкие наклонные стволы берез. Степан нес ее чемодан. В своей поношенной кепке и синем прорезиненном плаще поверх коричневого свитера, худой, неспокойный из-за разлуки с ней, он был ей близок и дорог в те минуты, и она забыла о том, что каждый из них прожил отдельную большую жизнь, а не одну общую.
Степан до войны работал радистом на экспрессе Минск – Владивосток. Передавал объявления, крутил для пассажиров музыку – «Маши», «Саши», «Андрюши», ну и, конечно, свою любимую – классику. Замечательный был экспресс – от края до края, как в песне. Из Минска ехали – стоянка в Москве сорок минут, а на обратном пути – сутки.
Незадолго перед войной женился Степан, жену звали Олей. Была она художницей – рисовала афиши в кино. Родила Степану мальчика, назвали Петькой. А он все ездил. Из рейса придешь, жену повидаешь, с мальчишкой поиграешь – и назад. Не прожил Петька на земле и года – началась война. В первую же бомбежку остались Оля с сыном под развалинами. Степан в рейсе был. Вернулся в Минск – ни жены, ни сына, ни дома. Ничего. Пошел в военкомат, на фронт просился. А фронт уже тут, рядом, к Минску подступает. И оставляют его, радиста, в городе для связи. Записали адрес – он к своей сестре перебрался жить, сказали: «Ждите. К вам придут». Не раз позавидовал Степан партизанам, перетаскивая по ночам рацию из одного разбитого дома в другой, боясь, что запеленгуют немцы.
Что передавал, что отстукивал своим ключом, про то сам не ведал. Все было зашифровано. Не знал и кто приносил и кому передавал и рад был своему незнанию – вдруг попадется, пытать начнут и язык сам развяжется… Знал лишь, что через него идет связь партизан с Большой землей. И как же далеко казалась она, эта земля, которую он изъездил всю от края до края… Официально работал электромонтером, на самом виду у немцев, – наши, уходя, велели ему там устроиться. Боялся – придут свои, не разберутся, скажут – зачем на немцев работал? Напрасно боялся. Как освободили Минск – его сразу на электростанцию, дежурным на распределительный щит… Ответственная работа. Нет, хорошо наши знали, кто и зачем в городе оставался. А вот ему часто хотелось теперь узнать тех людей, что приходили к нему безымянные и молча протягивали листок закодированного текста. Узнать и тех, кто слушал его морзянку в чаще лесов. Тех, к кому он взывал из каменного леса городских развалин, где главным врагом его была луна. С тех пор он не любит лунный свет – как предательский. До войны он был веселым, балагуристым хлопцем. Не раз веселил пассажиров экспресса своими прибаутками. Война научила его молчанию. Молчит он и с ней, с Анной. Смотрит и молчит. Скажет слово и опять молчит. Любит, чтобы она ему рассказывала…
Анна хорошо помнит, как она с дочкой вернулась в Минск после войны и не нашла города – одни фасады под луной насквозь светятся, один кирпич да камень. Центр весь побитый, немцы пленные строем ходят – гоняют их на строительные работы. Анна тогда впервые немцев этих в лицо увидела И ее удивило, что похожи они на людей, даже с виду есть симпатичные. Какое же горе принесли они на ее землю! Разглядывая иного немца, грузившего кирпич на носилки, думала: «Не ты ли убил моего Бориса?» И не одна Анна так думала. Как-то пришла в лазню. Все толпятся в предбаннике, разделись уже, а мыться не заходят. «В чем дело, женщины?» – «Испортилось что-то, – отвечают, – слесарь чинит». И вдруг одна, рябая такая, грубая: «Бабоньки, так то ж немец!» – и шагнула первая, все за ней. Так презрением казнили женщины пленного врага, отказывая ему даже в своей природной стыдливости.
Вспоминая теперь тот разбитый Минск, надписи на немногих уцелевших домах: «Мин не обнаружено. Сапер Белов», пустыри и развалины, мимо которых ей жутко было ходить, возвращаясь с вечерней смены, она хорошо представляла себе Степана, как он хоронился где-то тут с передатчиком. И жалела его, и любила сильней.
Ей нравилось воображать, как они поженятся, и она будет провожать его утром на работу, и готовить ему кандыбчик, чтобы закусил среди дня, – булку, разрезанную вдоль, с колбасой или с джемом. И вечером, закрыв ставни, он не уйдет, а вернется в дом, и они будут вместе пить чай и слушать музыку по радио до позднего вечера…
И сейчас ей очень хотелось кому-нибудь сказать о нем, когда его хмурое худое лицо вдруг всплывало посреди воспоминаний с отчетливой настойчивостью настоящего, всегда более сильного в сравнении с прошлым. Кому сказать? Вере она не решалась. Как она сказала там, на Старой Кубани: «В тебя еще можно влюбиться», а у самой глаза смеются. Проще сказать Диме, но он Вере сразу доложит. А Таньке – малая еще, не поймет, – как это бабушка и вдруг за радиста собралась? Ну, не комедия?
Чем дальше жила она здесь, вдали от Степана, тем чаще его лицо прорывало густую сеть воспоминаний, как солнце прорывает облака на какое-то мгновение, и ей делалось радостно… Но она привыкла сомневаться во всем, не доверять судьбе – слишком часто была она ею обманута. «Доверять можно только прошлому, – думала она. – Его никто уже не отнимет, худое ли, хорошее ли, а все мое…»
Танька приводила подружек, просила опять рассказать о войне, о бомбежках, о том, как жили в Сибири. Девочки слушали, широко раскрыв глаза, как сказку. Она начинала нехотя, но потом увлекалась сама, и Танька переводила девочкам белорусские слова. Как-то Анна рассказала им про Степана. Она не называла его по имени. Просто был такой человек, оставался в Минске всю войну, работал связным. Она думала, что им будет интересно про это послушать, – ведь они знают войну по книжкам… Когда подружки ушли, Танька спросила:
– Бабушка, почему ты мне раньше никогда не говорила про этого радиста? Как его зовут?
– Степан Лукич, – сказала она. И ей приятно было произнести это имя.
– А какой он из себя? – продолжала спрашивать Танька. – Ты меня с ним познакомишь?
– Может, и познакомлю, – сказала она как могла безразлично.
От Таньки не так просто было отделаться. Вечером, пряча книги в портфель, Танька спросила:
– А кем он сейчас работает?
– Кто? – Она сделала вид, что не поняла.
– Ну, Степан Лукич!
Анна уже не рада была, что произнесла при Таньке это имя. С другой стороны, ей и самой хотелось поговорить про Степана.
– Сейчас он, внучушка, работает в лаборатории высокого напряжения, – сказала она. – Тоже опасное дело. Степан говорит: как саперы ошибаются только раз, так и мы, высоковольтники… – И вдруг сердито: – Дался тебе радист этой!
Танька слушала ее задумчиво, и Анне вдруг показалось, что Танька хитрит и отлично все понимает, иначе почему не спрашивала при Диме. И ее бросило в жар от этой мысли.
Порой ее охватывали сомнения. И чем больше хотелось вновь увидеть Степана, тем сильней сомневалась. Опять давать сердцу волю? Опять лепить – в который раз – наново свое побитое бурей гнездо? Опять находить и терять? Не вынесет сердце новой потери. Самой отказаться хоть раз.
И Анна заходила на почту, покупала конверт и листок почтовой бумаги. Садилась за шаткий столик в углу, возле кадки с фикусом.
«Здравствуй, Степан! Не жди меня, не надейся. Все думано-передумано, и вижу – жизни не будет у нас с тобой. Слишком поздно, Степан…»
Слова отказа легко складывались в голове, но на бумагу ложиться не хотели. Она отчетливо видела, как он берет ее письмо, как разрывает конверт смуглыми пальцами, как пробегают строку за строкой его доверчивые глаза… Анна рвала листок, на котором стояло «Здравствуй, Степан!» – и выходила на чистый весенний воздух. Вздыхала с облегчением. Вокруг нее шумел, звенел молодым смехом и обрывками фраз этот южный город, свидетель ее счастливых сомнений. Она никогда не была здесь в молодости, не знала, как выглядели его зеленые улицы в грозные военные годы. Они впервые встретились теперь, на склоне ее жизни, лицом к лицу, и она приняла этот город таким, каким он предстал ее глазам, с его белыми домиками, зелеными прямыми улицами, с его ослепительной жаркой весной и запахом невидимого моря. Эта встреча была похожа на встречу ее со Степаном, которого она тоже не знала молодым, без которого прожила полвека своей отдельной жизни, а, встретив, приняла таким, каков он есть. И все же эти длинные южные улицы были ей как будто обещаны и ждали ее, чтобы помочь в минуту раздумий шелестом светло-зеленой листвы. И Степан терпеливо ждал ее на пути и, может быть, знал, что она придет. И Анна ждала его. Иначе где же брала она силы двадцать лет возвращаться в свой пустой дом, отмыкать неподатливую дверь, топить печку, ставить чайник… И все – для себя одной.
Гуляя по городу, она не разглядывала молодые пары, зато замечала стариков. Ей запомнился один, в выцветшей стиляжьей рубашке под распахнутым ватником. Наверно, сыну стала тесна и подарил батьке. Нет, Степану она не позволит носить такую, перед людьми срамиться…
Увидела седого казака с вислыми усами, из кармана галифе торчало горлышко поллитровки. И тут же подумала – Степан, слава богу, не охотник. Конечно, вино они будут покупать, но только по праздникам..
И вдруг – снова сомнения. На этот раз из-за Веры. Где ее ветер носит? Дитё одно, Дима где-то стал загуливать. Говоре – на работе, а не похоже. Приде домой и ести не хоче, а сразу спать… При Вере она такого не замечала. И как это держится еще семья непутевая? На каком клею?
Решила порядок навести, поговорить с Димой строго. В тот день он рано вернулся. Она ему щей налила. Он в кухню вошел, глянул на нее и за стол не садится. Бумажку ей протягивает.
– Извините, Устиновна. Я раскрыл, думал, от Веры. Телеграмма вам…
У нее ноги отмерли. С телеграммой у нее всегда вязалось что-то пугающее, тревожное. Где-то в глубине сердца она считала, что в покое и радости люди пишут друг другу письма, а в горе и беде шлют телеграммы. Неверными пальцами взяла бумажку и прочла, отведя подальше от глаз – она была дальнозорка:
«Сообщи когда приедешь вагон поезд буду встречать у нас все зеленеет Степан».
Поезда с севера приходили в К. ночью и уходили из К. тоже за полночь. В одну из теплых, свежих от прошедшего дождя ночей они проводили мать.
С утра лил дождь, настоящий весенний ливень с коротким мощным, как пушечные залпы, громом. Когда он стихал ненадолго, в окно было видно, как жадно пьет дождевую влагу густая, уже пышная зелень, пронзительно яркая в сером полумраке.
За прощальным обедом мать была весела, смеялась, шутливо перебранивалась с Димой, покрикивала на Таньку.
– А ну доешь, что в тарелке! Уедет бабушка, кто тебе таких щей наварит? Белорусская наша еда простая, грубая, но здоровая, калорыйная – щи с мясом, бульба, курица, яичница… Нияких там ласиков!..
– Мама, – сказала Танька, – а правда, бабушка была ворошиловским всадником?
– Была, – сказала Вера.
– И верхом ездила?
– Пеших всадников не бывает.
Она хорошо помнила мать в сером казакине и синих брюках, в хромовых сапожках, прямую, стройную, красиво державшуюся в седле. За мужьями вслед выезжали на первомайский парад жены командиров – ворошиловские всадники. Кони держали строй, нетерпеливо перебирая тонкими ногами. После парада – джигитовка. Мать на своем Зяблике легко брала стеночку, прыгала через ров с водой…
– А ты бабушке не веришь? Разве хорошо это, бабушке не верить? Когда я тебя обманывала?..
Вера смотрела, как мать – ловкая, румяная от плиты, с косой, уложенной киксой на затылке, в зеленой вязаной кофте – хлопочет у стола. Наверно, нет ничего удивительного, что кто-то встретился ей сейчас, на закате жизни. Дима сказал Вере о телеграмме, пришедшей из Минска в ее отсутствие, и Вера подумала: значит, тогда, гуляя, мать пыталась перешагнуть границу скрытности. Пыталась и не смогла. Возможно, Вера сама отпугнула ее неосторожным словом. Теперь мать молчала. Пусть молчит, если ей так нравится. Вере тоже так легче. К этой мысли надо привыкнуть, сжиться с нею. К мысли о том, что в судьбу матери, а значит, и в твою судьбу войдет новый, совсем чужой человек.
К вечеру внезапно дождь кончился, и на горизонте, над неразличимыми горами, протянулась оранжевая полоска вечерней зари. К последнему троллейбусу они шли под мокрыми деревьями. С листвы время от времени скатывались и падали крупные тяжелые капли. Желтый свет фар и красные тормозные огни растекались, дрожали на влажной мостовой.
Дима нес чемодан. Он шел впереди, Вера с матерью отстали. Мать все оглядывалась на темные окна дома, где уже крепким сном спала Танька.
– Ты с ней больше разговаривай, дочушка, – сказала мать. – Твое же дитё. Растет она. Детская душа как грядка. Что посеешь на ней, то и вырастет.
– А ты со мной много разговаривала, когда я росла?
– Тады война была, дочушка, – сказала мать. – А тепер войны, слава богу, нема. Как-то уже найди время. Конечно, она пионерка, в школе ее учат. А только школа мать не замене…
– Ладно, – соглашается Вера. Выделю ей родительский час…
– Так-так, – приговаривает мать и смотрит на Веру близко, сощурясь. – Таньке час, Димке час… Такой был и батька твой. Час дома, а сутки где-то.
Троллейбус, почти пустой, покачиваясь, скользит вдоль темных улиц, оставляя позади белые дома за белыми каменными оградами, дворики, усыпанные облетевшим цветом яблонь и урюка. Мать думает о чем-то, смотрит в темное стекло. В темном стекле, как в зеркале, видны ее прищуренные глаза с тем знакомым мгновенным напряжением в зрачках, возникающим, когда мать силится что-то понять. Высокий крутой лоб, упрямый подбородок. Вот мать поправила косу и чуть заметно улыбнулась в темное стекло… Чему улыбнулась она? Кому?