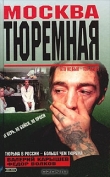Текст книги "Не верь зеркалам"
Автор книги: Инна Гофф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Инна Гофф
Не верь зеркалам
Роман
Время от времени она уходила от него – навсегда. Забирала дочь. Так и сейчас – она уже три дня жила у подруги на окраине города.
Сойдя с автобуса, душного, с резким запахом пролитого бензина, он уже минут десять шел по тихим, почти деревенским улицам окраины. Фонари здесь горели редко. Тонкий серпик молодого месяца был высоко подвешен в черном апрельском небе. Чернота неба и земли смутно подсвечивалась белизной цветущих садов. Цвели абрикосы и алыча, яблони и вишни. Это было как праздник, как выпускной бал. Кто-то приходил раньше всех, кто-то запаздывал. Абрикос являлся на праздник в розовом. Цветы унизывали его голые, дрожащие на весеннем ветру, еще безлистые ветки, трогательные, как плечи Наташи Ростовой.
Это были ее сравнения. Она любила природу юга любовью северянки. Она и его наделила этой любовью, потому что, живя рядом с ней, он переставал различать границу между собою и ею. И всякий раз, когда она забирала дочь и уходила от него – навсегда! – он думал: «Что, если правда – навсегда?» Он легко мог представить себе жизнь с другой женщиной. С какой-нибудь Кларой Семеновой из своего отдела. Она часто подходит к его столу и просит объяснить непонятную схему. Она смотрит на него круглыми кошачьими глазами, почти не мигая, не слыша того, что он говорит.
Клара носит прозрачные блузки и поливает себя духами, такими крепкими, что ему приходят на память правила пвхо.
Кларе двадцать девять лет, – критический возраст для девушки. Она ищет слабое звено. Есть такая игра – разрывные цепи. Все держатся за руки, а один норовит с разбегу разнять соединенные руки. Найти слабое звено – главное в этой игре. Кларе кажется, что она нашла его. Возможно, она и права. Но как знать! Разрывные цепи – обманчивая игра… Жизнь с Кларой он легко мог себе представить. Зато с Верой он никогда не знал, что будет завтра.
Ясно светились в глубине садов окна. Был поздний час, и окраина уже готовилась ко сну. Кое-где из-за калиток слышались негромкие спокойные голоса.
Он шел уверенно, потому что бывал здесь не раз. И потому, что знал: Вера здесь. И здесь Танька. Где им быть еще?
И все же, приближаясь к дому, где – он точно знал – вот уже три дня, скрываясь от него, жили его жена и дочь, он ощутил волнение и жалость к себе. «Надо кончать эту игру, – подумал он. – К черту. Если бы не телеграмма…»
Он дернул кольцо калитки и вошел во дворик.
Дом Людмилы стоял среди цветущих яблонь, свет из бокового окна падал на отдельные близкие ветки, и они белели так ярко, словно были зажжены изнутри.
Он поднялся на крыльцо, пересилив желание подойти к окну. Дверь была заперта. Он постучал негромко. После небольшой паузы послышались шаги, и настороженный голос Людмилы спросил:
– Кто там?
Он ответил. И она стала возиться с засовом и греметь цепочкой. Ему казалось, что возится она слишком долго. «Прячутся», – подумал он.
Наконец дверь открылась. Людмила в халате и тапочках на босу ногу, кутаясь в платок, стояла перед ним.
– Дима? – спросила она, изобразив удивление.
Узкая полоска света падала из комнаты в коридор за ее спиной. И в этой полоске стояли Танькины ботики. Те самые, на «молнии», о которых она мечтала и которые он купил ей, когда был в командировке.
– Прости, что не приглашаю тебя, – лживым голосом сказала Людмила. – Волик в командировке, а мы с Юркой уже спим…
Она стояла, закрыв собой амбразуру двери. Стояла насмерть. Как будто он собирался вломиться в чужой дом. Оттого, что здесь прячутся, могут прятаться от него жена и дочь, дом этот стал для него еще более чужим.
Он прислонился к дверному косяку и закурил.
– Значит, их у тебя нет, – сказал он. – Я так и знал. Все же передай ей, что завтра приезжает ее мать. – Он достал из кармана сложенный листок телеграммы и протянул Людмиле.
Она машинально взяла листок из его рук, но тут же опомнилась.
– Как же я…
– Бери, бери, – сказал он и усмехнулся. – Поезд приходит завтра ночью… Я говорю достаточно громко?..
– Напрасно ты думаешь, – начала Людмила, но он опять перебил ее:
– Если хочет, пусть возвращается. Так и скажи. Встретит мать по-человечески, в своем доме. А потом – пожалуйста, на все четыре. Удерживать не буду…
Он представил себе на миг Веру, как она, босая, где-то совсем близко, в закутке стоит, прислушиваясь к его словам. Ему показалось, что он даже слышит ее дыхание… Захотелось оттолкнуть Людмилу, ворваться в дом и вытащить Веру из закутка, где она притаилась. Тряхнуть за плечи, крикнуть в лицо: «Долго ты будешь валять дурака? Сколько лет маюсь с тобой! Жена ты мне или нет?»
Может быть, так и надо было. Может, этого она и ждала затаив дыхание. Но он так не умел. Это была ее привилегия – шуметь, кричать, плакать, доказывать свою правоту, хлопать дверьми и уходить «навсегда»… Он не бегал за ней. Не разыскивал. Не звал назад. Он ждал. Спустя несколько дней она сама возвращалась, притихшая и покаянная, и в два счета добивалась прощения, как добиваются те, кого любят…
Его достоянием была гордость. «Проклятая гордость», как говорила она. Если бы не телеграмма…
Он шел насвистывая, спрятав руки в карманы. На душе было легко, почти весело. Может быть, потому, что он знал – завтра она придет. И приведет Таньку. Танька бросится к нему, повиснет на шее, виновато заглядывая в глаза… Когда-то она уходила безропотно и, подражая матери, смотрела волчонком.
Теперь ей двенадцать лет. В этот раз он нашел записку под сахарницей, на кухонном столе. «Папочка, не скучай! Мы скоро вернемся. Ты же знаешь!..» Что-то новое, взрослое было в этом «ты же знаешь».
Он нашел записку не сразу, только вечером, вернувшись с завода. В квартире был разгром – «противник отступал в беспорядке, продолжая нести потери в живой силе и технике»: вещи валялись на полу и на стульях, дверцы платяного шкафа были растворены, как бы затем, чтобы он видел – она ничего не взяла из того, что они нажили вместе. Вот оно, все осталось ему. А ей ничего не надо. Ушла, «как стояла», в одном платьице!
Вернувшись с завода в тот вечер, он подошел к шкафу, который далеко не был еще заполнен. Ее нарядное платье и его выходной костюм, ее плащ и его макинтош – не много же нажили они добра. Да они за добром и не гнались!..
Вещи в шкафу висели дружно, плечом к плечу, напоминая о прожитых вместе годах. Казалось, вещам дано больше помнить, чем людям. Но что могли помнить вещи! Ведь тогда, в том далеком году, у него была только гимнастерка с пластмассовым подворотником, а у нее голубое платьице, которое мать купила ей по случаю на барахолке… Ни гимнастерки, ни этого платьица давно не было в помине. А любовь? Осталось что-то от той любви или тоже нет уже ничего?..
Он вскипятил чайник и, подняв сахарницу, увидел записку. Прочел, и горло перехватило. Он думал, что плачет от жалости к дочери. Но плакал он от чего-то другого, и слезы его были сладки, как слезы радости…
На автобусной остановке было пусто, – должно быть, автобус ушел только что. Звезды стали крупнее к ночи, белые сады благоухали в темноте. Где-то очень далеко лаяла собака, и это еще больше придавало сходства с деревней этой тихой окраине, и было странно думать, что через пятнадцать – двадцать минут он окажется в центре большого южного города, где в этот поздний час еще кипит жизнь, звучит музыка и по главной улице – местному «броду» – в красноватом отблеске витрин гуляют молчаливые пары, все в одинаковой «модной» позе – рука парня лежит у девушки на плече…
Мир был создан для счастья. Он был готов поверить этому, потому что сам был почти счастлив. Завтра он увидит их. Веру и Таньку. Сейчас они шепчутся с Людмилой, решают, как быть. Нашла советчицу! Подругу! Бывают друзья по противоположности. Эти – именно такие. Людмила – хозяйственная баба. Благополучная. Такие, благополучные, любят давать советы. Обожает своего Волика. Что за имя дурацкое – Волик? Владимир, должно быть.
Но все зовут его Волик. Смешно. Мужику под сорок, весит девяносто два кило.
Он взглянул на светящийся циферблат часов – одиннадцать. Автобуса все не было. Хоть иди пешком. По одной из улочек беззвучно прошла машина, свет фар скользнул и исчез.
И вдруг он услышал женские шаги. Женщина шла быстро, почти бежала. Он узнал эти шаги сразу.
– Димка!
Она так запыхалась, что не могла говорить.
– Так это правда? – сказала она. – Мама приезжает? Я так рада. Ты хорошо сказал. Пусть все будет по-человечески, да? Ты согласен? Она же здесь не была у нас. Для нее это все так важно. Как я живу, понимаешь? Как мы живем…
Она подошла к нему, взяла за руку. Ее рука была холодная. Близко, у самых его глаз, доверчиво сияли ее глаза.
– Замерзла? – спросил он и с сожалением услышал тарахтение автобуса.
– Да я не взяла ничего теплого, – сказала она. Как будто речь шла о курорте, а не о том, что она ушла от него. Навсегда. – Мы завтра придем, – сказала она. – С утра.
Автобус приближался, слепя глаза и переваливаясь на немощеной улице.
Он больно сжал ее руку.
– Нет уж, – сказал он. – Домой так домой. Сейчас. Или никогда.
Скулы его напряглись, сердце стучало. Автобус уже тормозил с шипеньем.
– Я не могу, Димка, – сказала Вера. – Завтра.
– Сегодня, – сказал он. И подтолкнул ее к подножке автобуса.
– А Танька?
Двери сомкнулись за ее спиной. Они уже ехали.
– Прибежит, – сказал он, разглядывая ее. Они были одни в автобусе. Совсем одни, потому что автобус был без кондуктора. После темной улицы свет резал глаза, приходилось щуриться, но оба были рады этому, – прищуренные глаза не так выдавали их. – Прибежит, – повторил он. – Что ей, привыкать?
Он смотрел на Веру, и она казалась ему красивой. Как в те давние дни, когда они любили друг друга, таясь от всех, а потом расписались, никому не сказав ни слова. «Выкинули коника», как называет это до сих пор ее мама.
Она путала имена. Называла Веру – Танькой, а Таньку – Верой. Иногда ей казалось, что обе они ее дочери и даже Танька в большей степени, чем Вера. Может быть, потому, что детство Веры, как и вся ее собственная молодая предвоенная жизнь, вспоминалось порой, как сон, оборванный на середине, или как фильм из чьей-то жизни, странно знакомой, почти своей. Если бы они с Верой жили вместе и виделись чаще… Но они уже долгие годы жили врозь, и потому порой ей стоило усилия соединить эту рослую, яркую тридцатилетнюю женщину с той худенькой белоголовой девочкой, которую она когда-то в своей молодости качала на руках.
Ближе и понятней была Танька, приезжавшая каждое лето погостить к бабушке Анне в Белоруссию. С Танькой они дружили – пели песни, пололи грядки на огородике, позади дома, ездили в лес по ягоду. Танька отвыкала от белорусского говора за зиму, и иное слово ее смешило, она заставляла повторять целые фразы, переспрашивая: «Бабушка, как ты сказала – „нема нияких ласиков“? Что такое „ласики“?»
Ее удивляло незнакомое правописание, при котором буква «а» пишется там, где ее слышишь, – «калбаса», «пасуда». Как будто попал в такую веселую сказочную страну, где нет никаких правил грамматики.
Вскоре Танька перенимала заразительный местный говор и начинала разговаривать певуче, твердо произнося звуки «эр» и «че».
Потом из К. писали, что Таньке пора возвращаться. Она провожала внучку на самолет, – их города связывала авиалиния. Там, в аэропорту, она высматривала среди пассажиров женщину с добрым лицом и поручала Таньку ее заботам: «Дите одно летит». Потом долго из-под ладони смотрела, как Танька, выросшая за лето, голенастая, с чемоданчиком в одной руке и эмалированным бидоном с вареньем из лесной малины – Верино любимое – в другой, в толпе пассажиров, пересекая летное поле, направляется к самолету. Самолет катился по траве, наконец взлетал и, набрав высоту, таял в голубом небе. Она исподволь, оглядываясь, не видит ли кто, – с третьего года войны она состояла в партии – крестила небо и растаявший в нем самолет и возвращалась в свой опустевший дом. Обнаруживала забытые Танькой туфли или вязаную кофточку и, припав к ним лицом, давала волю слезам.
На бисквитной фабрике, где она работала в рецептурном цехе, сразу замечали ее плохое настроение. Помощница Дина старательно, молча подсчитывала расход сырья. Тестомес Михась рассказывал новый анекдот из жизни сумасшедших или про армянское радио.
Все они много лет работали вместе, пережили многих директоров, сменившихся на фабрике за двадцать послевоенных лет. Вместе осваивали новую рецептуру, новое оборудование. Но когда на праздничной демонстрации фотографировалась их колонна, всегда снимали идущую в первой шеренге Анну Устиновну. Ее лицо как бы и было лицом фабрики.
Прошлым летом Танька к ней не приехала – была в пионерском лагере. И Анна Устиновна с пристрастием расспрашивала в письмах, где ей больше понравилось, у бабушки в Минске или в лагере. Танька хитрила. Отвечала, что у бабушки было лучше, но в лагере веселее. Этим летом Танька снова мечтала поехать в пионерский лагерь.
И теперь, получив на фабрике отпуск, Анна Устиновна поехала к дочери. Вера давно звала ее. И самой хотелось посмотреть новые края, своими глазами увидеть, как живет дочка, – она мало верила письмам, зная характер Веры. Повидать Таньку, по которой очень скучала… Была и еще одна причина. Самая главная. Она не знала, решится ли сказать о ней или так и уедет, не сказав ни слова.
Есть свадебные путешествия. Путешествие Анны Устиновны в этот южный город, в гости к дочери, было предсвадебным. Ей предстояло выйти замуж. В третий раз. Как будто все было решено. И все же ей необходим был этот весенний месяц отсрочки. Здесь, в кругу близких людей, вдали от того, с кем нежданно столкнула ее судьба, ей хотелось в последний раз оглянуться назад, вспомнить и пережить заново всю негладкую, неспокойную жизнь…
Да, не думала, не гадала, сказал бы кто – не поверила. И сны уже снились ей иные – не те, неясные и жгучие, от которых плачут, не просыпаясь, или просыпаются с бьющимся сердцем и долго потом не могут заснуть. Нет, сны давно уже снились простые, странно реальные. Снилось, что она идет в магазин перед закрытием, но ничего не покупает и, лишь выйдя за дверь, вспоминает, что ей нужно купить. Она возвращается, но магазин уже закрыт, и ей приходится упрашивать девчонку-продавщицу в белом халате, чтобы та ее впустила. Девчонка строит ей рожицы, но потом впускает, и она покупает две пачки вермишели, которая почему-то стоит пятьдесят четыре копейки одно кило.
Ей снились вещи, животные, птицы. Почему-то именно в таких простых и реальных снах люди ищут особый, скрытый смысл. И она, женщина строгая и партийная, но с детства твердо помнившая, что кровь снится к родне, хлеб – к письму, мука́ – к му́ке, размышляла, проснувшись, к чему может сниться вермишель. И, поразмыслив, решала, что поскольку вермишель изделие тоже мучное, то будет ей если и не му́ка, то все же какие-то мелкие неприятности…
Нет, никому бы не поверила, рассмеялась бы в лицо… Но вот ее жизнь, перевалив за полвека, озарилась тихим радостным светом. Она не смела назвать это любовью, да и не хотела, полагая, что любить в жизни можно только раз, редко – два… Она не знала названия своему чувству и с удивлением следила за собой какими-то посторонними, безжалостными, насмешливыми глазами. И все же весна в этом году была прекрасна и ослепительна. Давно не помнила она такой весны.
Доехала она хорошо. Вера и Дима встретили ее, – поезд приходил ночью, и она боялась, что дети проспят. Ее ждал ночной город с фонарями сквозь черную зелень, мелькание белых стен, пустынные улицы и – после этого – квартира Веры, просторная, с новой мебелью из светлого дерева. На столе торт с розами из крема и бутылка вина. Дима согрел чайник, нарезал хлеб, колбасу. Вера командовала: «Димка, солнышко, подай то, достань это». И он привычно, покорно делал все, что она велела ему. Проснулась Танька и вышла к столу, сонная, нечесаная, в новом вышитом платье. И все они в пятом часу утра пили чай, ели торт с розами и чокались рюмками с красным кисловатым вином, от одной рюмки которого у Анны Устиновны пошла кругом голова. Она сидела, глядя на детей – все они для нее были дети – счастливыми, недоверчивыми глазами, и спрашивала: «Ну, как же вы тут живете, а?» И, слушая, приговаривала: «Так-так…»
К. ей понравился. Война сохранила большую часть города, белые приземистые домики прятались под сенью высоких акаций и тополей, трепетала на ветру их светлая клейкая листва.
«Погоди, – говорила Вера. – Вот зацветут катальпы!..»
Вера жила на главной улице, длинной, пересекающей город от окраины до окраины. Дом был большой, новый, построенный уже после войны. Напротив окон возвышался холм. На нем был заложен камень – будущий памятник освободителям города от немецких захватчиков. С балкона пятого этажа открывался далекий вид. Танька уверяла, что ранним утром в ясную погоду, если очень вглядеться, можно различить вдали горы Кавказского хребта. После застенчивой белорусской весны короткая, похожая на стремительный штурм южная весна слепила глаза. И если разглядеть горы Анне Устиновне пока не удалось, зато она отчетливо слышала запах моря, которое было где-то там, далеко, позади этих гор. Пахло даже не морем, а свежей чищеной рыбой, влагой больших водных просторов. Там и тут, за окнами и на балконах, серебрились связки вяленой тарани.
Утром, когда все разбегались из дому – Вера на радио, где она работала, Дима на завод, а Танька в школу, – Анна Устиновна любила постоять на балконе, под которым, как волны моря, касаясь решетки своими вершинами, шелестели от ветра пирамидальные тополя. В такие минуты она чувствовала себя совсем молодой и сильной. Тяжелая коса, сохранившая свой золотистый цвет спелой пшеницы и только у самых корней как будто выгоревшая до белизны, уложенная «киксой» на затылке, гордо оттягивала голову. Она давно знала о себе, что внушает уважение и даже робость, – на фабрике ее многие побаивались. Но она не знала, что способна еще заставить чье-то сердце сильнее забиться…
Двадцать лет не думала она о себе, как о женщине, – не украшала себя, не смотрелась опасливо в зеркало, не глядела по сторонам. Личная, женская жизнь ее осталась далеко позади, как бы приотстала где-то на полдороге. Ей хватало и без того. Она была матерью, работником фабрики, бабушкой, председателем месткома, народным заседателем, хозяйкой… Раз в году, Восьмого марта, на фабрике ей напоминали о том, что она женщина: тестомес Михась дарил ей букет подснежников, а дирекция премировала бесплатной путевкой или чайным сервизом и отмечала в приказе.
Она сказала ему, что подумает. Решит все на свободе. А вернется – скажет свое решение. Он поправил ее – «приговор». Он стоял на перроне, курил. Он боялся отпускать ее. Она знала это, и радовалась, и слегка дразнила его, – она была женщиной. Он стоял, отделенный от нее вагонным стеклом. Разговаривать уже нельзя было – только смотреть друг на друга. Она вспомнила его хмурое худощавое лицо, серьезный взгляд из-под старой, поношенной кепки.
«Дочушка ты моя! Сказилась твоя мамочка. И смех и горе! Совестно людям сказать – жаниться надумала в третий раз…»
Ох эти материнские глаза – серые, светлые, недоверчивые. Как будто говорящие: «Брешешь, дочушка!» Такое знакомое мгновенное напряжение в зрачках, когда мать силится проникнуть в самую суть ее слов и тихонько приговаривает «так-так», одновременно размышляя о чем-то своем, взвешивая, проверяя. Так было всю жизнь. Говорят – яблочко от яблоньки. Вера в шутку жаловалась друзьям, что, видимо, тут вмешался старик Мичурин – привил на яблоньку грушу. Мать и дочь любили друг друга, но мало понимали. Вера была «вся в батьку, одно лицо». Этому приходилось верить на слово: отец погиб, когда Вере не было двух лет, фотокарточки его в доме не осталось. Где-то в Рогачеве, у материнской родни, была одна, да все недосуг туда съездить. Так и выросла Вера, не зная своего отца, только слыша от матери, что он «красивый был, волос черный-черный, а глаза синие, нос прямой, долгенький – не то что у меня, трошки бульбочкой». Вера часто, смотрясь в зеркало, старалась представить себе отца, с которым была «одно лицо», хотя волосы у нее были светлые, в мать, и нос тоже матери – «трошки бульбочкой». Мать говорила также, что у нее отцовские ноги и даже «клетка тела» его. Это последнее признание поражало Веру больше всего. Как же надо любить человека, чтобы помнить спустя столько лет, какая у него была «клетка тела».
Они сидели на кухне, залитой солнечным светом, и завтракали. В это утро Вере не надо было спешить на работу. Накануне она сдала материал в очередной выпуск – очерк о строителях, собравших дом за десять дней. В редакции очерк понравился, сказали, что его берут и на московское вещание. Она рассказала об этом матери. Не затем, чтобы похвалиться, – просто чтобы мать порадовалась, поверила наконец, что из нее вырос стоящий, дельный человек. Доказать это матери почему-то всегда было трудно. И в то же время нужно, необходимо, – ведь сама мать больше всего хотела бы этому верить. И сейчас она слушала дочь, недоверчиво щурясь, со своим вечным «так-так». И вдруг спросила:
– Ну, а по совести… Нравится тебе служба такая, а? Все на работе, а ты дома. Все дома, а тебя черти несут на край света, а? Женское это дело?
Мать сготовила на завтрак любимое Верино кушанье – белорусскую «мачанку». Готовилось оно просто – в растопленное, со шкварками сало макали блины, «мачали», как говорят на их родине. Взамен блинов годилась и отварная горячая картошка. Они наварили бульбы и теперь «мачали» по очереди в золотое, еще шипевшее на горячей сковороде сало. Голубоватый чад висел в воздухе, не желая уходить в открытое настежь окно, от него знакомо першило в горле.
– Я тебе говорила, як мы с Якимом сало прятали? – спросила вдруг мать и засмеялась, откинув назад голову с тяжелой, свисающей до пояса косой, и Вера вдруг с удивлением подумала о том, что мать еще молода. Что за время разлуки разница в годах между ними как будто уменьшилась.
– Ну расскажи, – сказала Вера.
Она любила, когда мать вспоминала старое. Отца. Это были лучшие минуты, роднившие их. И мать становилась другой – исчезал этот взгляд, недоверчивый, пристрастный.
– В тот год мы поженились с ним. Он агентом в уголовном розыске… Тебя еще на свете не было. Вот однажды приезжает с задания – цыгане сельпо ограбили. Приезжает, значит. Привозит сало. «Откуда у тебя?» – «Мы с начальником один мешок на двоих разделили». Это, значит, он, начальник, его подбил. А годы голодные. Бульбы и той не уродилось. Начальнику фамилия была – Перапелка. Вот эта Перапелка подбил твоего батьку взять сало. А Яким этаго не умел. Поели сала по шматочку, легли, а он не спит. «Ты, говарю, чего не спишь? Сало стерегешь?» А он: «Не могу спать. Пойдем, подымайся». Ну, поднялись серед ночи. Стали яму копать на огороде. Зарыли этая сало. Поспала часок – опять будит. «Пойдем перепрячем». Зарыли у другом месте. А он не спит. «Давай за колодцем закопаем». И так всю ночью копали да прятали, а как засветлело – на свалку выкинули, собакам… И вроде с души что скинули. А начальник свою долю целый месяц жарил, пахло по всей хате, как сейчас, и мы тем запахом сыты были…
Мать говорила чудно, на той смеси русского с белорусским, которая как бы стала у нее каким-то новым, самостоятельным языком. Чем больше мать волновалась, тем больше ее родного, белорусского, было в этой смеси. Вера слушала этот говор, как слушают музыку, знакомую с детства. Все эти «он», «этай», «гавару» как будто хранили вкус родины, липничка, который бабушка, пока была жива, заваривала в старом синем чайнике с отбитым носиком.
Мать макнула картофелину в остывающее сало, но есть не стала – задумалась.
– А Перапелку этаго убили-таки бандиты. Стреляли через окно. Такое, дочушка, время было. Бандиты кругом. Нам тогда его квартиру дали, и Якима поставили начальником розыска.
На этом история с салом заканчивалась. Было у матери и еще несколько историй, сохранившихся в памяти от тех далеких лет. Вера знала их все наизусть, но каждый раз слушала с новым интересом, и чем взрослее становилась, тем с большим волнением. С годами и она стала называть отца просто по имени, – ведь она была уже старше, чем он в год своей гибели.
Погиб Яким загадочно. Поехал с оперативным заданием на село, заночевал в какой-то хате на печке, а утром нашли его мертвым. Фельдшер поставил диагноз – разрыв сердца, но мать до сих пор не верила: на сердце Яким никогда не жаловался. Село было богатое, кулацкое, вот и опоили его, подсыпали какого-то зелья.
Но лучше всего была история их знакомства. Сквозь всю свою жизнь мать пронесла ее, сберегла, как берегут драгоценную реликвию, редкую картину. Но и реликвии плесневеют, и картина выгорает, и зеркало блекнет от времени. Только это воспоминание не потускнело с годами. Не тронули его ни второе замужество, ни война, ни годы.
…Синим летним утром пошли они в поле, в рожь – Анна и ее подружка, Раечка хроменькая. Арендаторка, аптекарша, что жила на хуторе, послала их обрывать лепестки васильков, посулила двадцать копеек за килограмм. Солнце светит ярко, рожь созревает, ходит на ветерке волнами. Нарвали девушки васильков по целой охапке, решили – потом у обочины, там, где кряжи стоят, сядем да лепестки пообрываем. Нарвали этих васильков и идут по борозде. Рожь – стеной. Вдруг два всадника прямо на них. Кони на дыбы – испугались. Успокоили всадники коней, смотрят на девушек и молчат. Молчат и девушки. На всадниках фуражки военные, козырьки лакированные блестят. А на переднем всаднике рубашка черная бархатная, рубчиком, на тонкой талии перетянута ремешком. Этот, передний, видать главный из них, спрашивает: «Что, девушки, веночки плесть будете?» Анна отвечает: «Веночки, как же». – «Ну, плетите, мы поглядим». Сам на Анну глядит – глаз не отводит. А глаза синие-синие, как те васильки. Потом спрашивает: «В школу проедем так?» – «По шляху поезжайте, там будет школа…» Поскакали всадники дальше, а у девушек на весь день только и разговору. Смехом поделили их между собой – Анна себе переднего выбрала…
А поздним вечером стук в дверь. Вышла Анна на крыльцо, а там брат ее и рядом с ним всадник этот, синеглазый. Брат говорит: «Собрание в школе кончилось, вот товарищ заночует у нас…» А сам посмеивается. Уже после сознался – рассказал Яким про встречу во ржи, спросил: «Чья такая может быть красавица?..» Яким расписал ее, и признал брат свою сестру Анну.
Ночь теплая была. Сели Яким и Анна на лавочку в саду и проговорили до зари. А на заре Яким спрашивает: «Что, пойдешь за меня?» – «Пойду».
Через две недели поженились. На свадьбе гуляла вся милиция. Было Анне тогда девятнадцать лет. А в двадцать один осталась вдовой с годовалой дочкой…
Был человек, Яким Межонок. Уже и косточек его не сыскать в земле. Но сидят за столом две женщины – Анна Межонок и Вера Межонок, его жена и дочь, и говорят о нем. Как дорогую картину из драгоценных кладовых памяти достают и разглядывают то утро в далеком июне, ту встречу на борозде во ржи.
– А Раечка так и осталась в девушках, – говорит мать и вздыхает. – Хроменькая была.
Вера Межонок была самым оперативным корреспондентом в своей редакции. Ей ничего не стоило собраться в дорогу, отбросив будничные мелочи, которые сильней всяких цепей приковывают человека к месту. Легкость, с которой она передвигалась в пространстве, не изменяла ей и теперь, в тридцать лет, – возраст, когда многие женщины прирастают к дому и словно превращаются в улиток.
Видно, было в ней что-то от Якима. Не только синие глаза и «клетка тела». Что-то очень важное, коренное в самом ее характере, более удобном для мужчины – шумном, порывистом, с постоянной потребностью в людях, друзьях, с жаждой каких-то новостей, перемен.
И сейчас, мчась в редакционном «газике» с новым заданием – взять интервью у бригадира комплексной бригады колхоза «Поля Кубани», – она жадно вдыхала утренний воздух полей, сиявших по обе стороны шоссе, ведущего на Кропоткин.
Дорога! Опять дорога! Иногда ей кажется, что город, где она живет, – это огромный вокзал или аэропорт, а ее квартира – всего лишь зал ожидания.
По словам матери, Яким тоже был непоседа. Она думала об отце с нежностью, не похожей на дочернюю, – как о брате. Отцом называла она другого. Тот, большой и добрый, носил ее на плече, дарил ей шоколад. Она легко назвала его папкой, хотя знала, что не он ее отец. Ей было тогда около семи лет.
Она назвала его папкой раньше, чем мать решилась назвать мужем. Он дарил ей шоколад и игрушки, в выходной день гулял с ней и матерью по улицам военного городка. Пять лет он был ей отцом – до того страшного, суетного дня – второго дня войны. В тот день она видела его в последний раз – он подсадил ее в кузов грузовика, набитого женщинами и детьми так, что, казалось, не сможет тронуться с места. Она торопливо поцеловала его небритое, осунувшееся лицо, каждый мускул которого странно подергивался.
Спустя полгода в сибирский город, где они с матерью жили, пришло извещение о том, что Шмелев Борис Петрович геройски пал в первые дни войны в бою под городом Слуцком.
Мать говорила, что она знает, в какой день и час он погиб. Ее разбудил ночью голос, звавший: «Анна! Анна!» Это был его голос. Она проснулась и долго не могла заснуть от непонятной тревоги.
«Газик» мчал мимо белых станичных домиков с разноцветными ставнями, мимо колхозных садов, где цветущие яблони стояли ровными шеренгами, как на параде. Промелькнула птицеферма. В прошлом году Вера делала репортаж о двух комсомолках-птичницах, и сейчас в ее памяти так же стремительно промелькнули румяные, словно молоком умытые, личики этих славных девочек, мечтающих о медицинском.
А «газик» уже летел дальше – шофер Володя любил ездить с ветерком. Кроме Веры и шофера в машине были еще звукооператор Петя, скептик и молчун, со своей аппаратурой и спецкор из Москвы Кругликов. Спецкор жил здесь уже месяц, он приехал, чтобы освещать в московских выпусках ход весеннего сева на Кубани. Это был маленький, жалкий человечек, из тех, кто готов встать на цыпочки, чтобы выглядеть выше. Он говорил беспрерывно. Кажется, он хвастал. Он показал ей потрепанный блокнот с автографом космонавта Павла Поповича. Он сыпал именами известных людей – писателей, артистов, называя их запросто – Женя, Миша, Костя, что позволяло предполагать, что он с ними близко знаком.
Осталась позади станица Васюринская со своей знаменитой чебуречной, которой не минует ни один шофер. Притормозил возле нее и Володя, но, взглянув на часы, решил не останавливаться: до Усть-Лабинской – цели их поездки – было еще далеко… И опять замелькали по дороге встречные линейки, брички, велосипеды. Миновали надпись на щите, знакомую Вере по прошлым поездкам: «Водитель! Останови машину и возьми детей». И скамеечка возле щита. Здесь ребята ждут попутную машину, чтобы добраться до школы. Скамейка была пуста – занятия в школах уже начались. На полях под голубым небом нежно зеленела озимая пшеница «безостая один» – гордость Кубани. Володя крутил баранку, виртуозно объезжая выбоины на шоссе. Иногда ему это не удавалось, и тогда, подпрыгивая на скамье, они почти доставали головами брезентового верха…