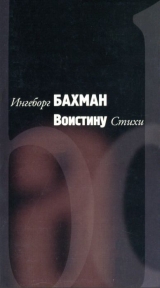
Текст книги "Воистину"
Автор книги: Ингеборг Бахман
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Choreographie: Tatjana Gsovsky
Musik: Hans Werner Henze
МОНОЛОГ КНЯЗЯ МЫШКИНА{7}[23]23
Перевод Е. Соколовой.
[Закрыть]
из балета-пантомимы «Идиот»
Двигаясь, словно куклы, на сцену выходят все участники представления – Парфен Рогожин, Настасья Филипповна, Тоцкий, Ганя Иволгин, генерал Епанчин и Аглая. Пантомима прекращается с последними тактами интрады,[24]24
Интрада – небольшая инструментальная пьеса, выполняющая функцию вступления к различным церемониям или музыкальному произведению.
[Закрыть] на середину выходит князь Мышкин. Он произносит свой монолог без музыкального сопровождения.
Есть слово у меня, я взял его
из рук печали, недостойный,
ибо с чего бы мне
достойней быть других —
сосуд для облака, что пало
с неба и погрузилось в нас,
ужасное, чужое,
в нем отблеск красоты
и ужас весь земной.
(О мука света, мука
жара, похожего на все другие, жара,
которым мы обязаны недугу
и общей боли!)
Пускай по сердцу мчится поезд безъязыкий
покуда не стемнеет,
и все, что светом было мне,
вновь не вернется
во владенья Тьмы.
Наверно, из-за этой самой боли
у вас внутри все то, что вы
для счастья своего творите,
не служит счастию, все то,
что вы во имя чести делаете, вовсе
не служит вашей чести.
Ведь демонами чести смех сожжен,
увы, бездонна чаша
горькой жизни,
дарованной нам, чтоб испить до дна.
Нет отклика на встречу,
нет ответа, пока текут без остановки
слезы, без слов, без
остановки, без
причины, когда как будто
никакой причины
им наш тревожить слух.
О немота любви!
Берет за руку каждого, кого называет.
Парфен Рогожин, сын купца,
про миллион не знает ничего.
Ночами зимними упряжку тормозит,
не доезжая до рядов торговых,
и дальше не желает ехать.
Швыряет деньги в снег,
ведь снег сродни
щекам твоим, Настасья
Филипповна, опасную кривую
вычерчивает рот, твое назвавший имя,
говорят, снег побелил лицо твое,
а в волосах – пристанище ветров
(я не могу сказать, они капризны),
глаза твои – глубокие овраги,
и в них нередко гибнут экипажи,
в снег обратившись, этот снег —
источник белизны
твоих ланит.
А, Тоцкий – это чересчур, и прежде,
чем обрести покой: мгновенье детства,
миг прошлого держа в руках, теперь же
настало время взглядов, время
губ для вас обоих наступило.
Ты, Ганя Иволгин, признайся, сплетены вы все
одною нитью,
у тебя в руках узлы ее, и ты
их стягиваешь крепче,
с недоброю ухмылкой на лице.
Ты слишком много хочешь от других,
но строгостью к себе не обладаешь.
Тобою движет лишь одно стремленье:
глядеть во все глаза, как исчезают
в оврагах тех чужие экипажи,
смотри, не попади под колесо.
Нет, не случайно, генерал Епанчин,
судьба нас часто сталкивает с теми,
кого мы избегаем. От детей
мы отдаляемся, влекомые страстями,
и у чужих дверей стоим на страже,
самих себя не в силах устеречь.
Что ж ускользает? Белый, ледяной
сон юности, которая не ищет,
не хочет снисхожденья?
Совершенство? И красота,
да в облике таком, что мы
довольствуемся тайною? Аглая,
в тебе я узнаю
посланницу совсем иного мира,
куда мне не дозволено войти,
и обещание, какого не сдержать мне,
и счастие, какого не достоин.
Поворачивается и теперь стоит лицом к публике.
Проснитесь же для жизни, освещенной
сияньем искусительниц-планет,
которые от нас хотят поступков.
Но вижу только танец бессловесных
под музыку без слов и без границ.
Его монолог постепенно перерастает в неуклюжий кукольный танец.
Шаги, шаги – они лишь отдаленно
напоминают редкостные звуки,
которые мы слышим.
Мышкин постепенно вовлекается в танец, который призван подчеркнуть глубокое одиночество каждого из участников.
Интерьер, воссоздающий атмосферу цирковой арены. Настасья Филипповна вздорно понукает Тоцкого, Ганю, генерала, в мощном трагическом и опасном танце выплескивает свою власть над ними. Появляется Рогожин. Настасья, кружась, скользит мимо всех четверых. Постепенно, по одному предмету, с нее спадают одежды – в конце концов она оказывается под золотым шаром в одном лишь белом трико. Одну руку поднимает к шару, другую протягивает Рогожину, который в ожидании стоит в сторонке. Тут к ней подходит Мышкин.
Остановись! Молю тебя,
лицо моей единственной любви,
останься светлым, чтоб из-под ресниц
на мир глядели два прекрасных глаза,
лицо моей единственной любви,
пускай твой гладкий лоб
возвысится над бурями сомнений.
Они твои разделят поцелуи,
и осквернят твой сон, и оклевещут —
ах, не глядись ты в эти зеркала,
тебя в них вожделеет каждый!
Мышкин выводит Настасью на авансцену, становится вместе с ней на трапецию, которая опустилась из колосников. Вдвоем они поднимаются вверх. Звучат несколько тактов нежнейшей мелодии.
Будь справедлива, снегу года верни,
кто ты сама, пойми, и пусть снежные хлопья
тебя случайно коснутся.
Да, таков этот мир:
и звезда, где мы жили детьми,
ныне в колодцы
дождем часов пролилась,
их застывшим весельем.
Это лишь жалкая тень
в прошлом веселой игры:
ветер, качели и смех,
но не то теперь время,
и сам для себя – никто,
всякая цель – пуста,
и музыка только сбивает:
не попадая в тон,
вторишь упорно
песне старинной,
что нас поманила счастьем.
Только не лезь в толпу, не лезь в оркестр,
в котором нас проигрывает мир.
Ты рухнешь, только выпустишь смычок,
заговоришь на языке телесном,
на бренном языке.
Настасья соскальзывает с трапеции прямо в объятия Рогожина.
Перед огромной красной иконой стоит стремянка, на ней сидит Мышкин. Рогожин лежит на нарах и с нарастающим возбуждением слушает рассказ Мышкина, напряженно наблюдая, как тот спускается вниз.
Ко всем своим мгновеньям прибавляю одно чужое,
не мое мгновенье, мгновенье человека,
которого всегда ношу в себе;
его лицо и в этот самый миг
со мной – мне не забыть его, пока живу.
(Нет, не мираж, не порожденье сумерек вечерних!)
Покрыто инеем тюремной ночи,
зеленой изморосью тянется к утру,
глядевшими когда-то в небеса
глазами – сквозь решетку.
По ледяным проходам рук и ног заключенного сон покидает.
Охранника шаги в груди рождают эхо.
Ключ отпирает стон.
Слов у него уже нет,
и никто его не поймет,
но несут ему мясо, вино,
в милосердии упражняясь.
Только он погружен целиком
в церемонию облачения,
не видит ни щедрых даров,
ни глупой
жестокости правил.
Начинается долгая жизнь,
дверь открылась, осталась открытой,
а снаружи все улицы слились
в общий гул голосов
всех на свете, кто гонит его:
все ближе кровавое море,
напоенное смертными
казнями
всех преступных
судов на земле.
Что-то общее есть между нами
и судьями – их приговор:
человек с неподдельным лицом
доберется до сути в тот миг,
когда голову склонит на плаху
(хоть лицо его
бело, недвижно,
мысли, если он мыслит вообще,
не имеют значенья, он видит
только ржавую кнопку
на плаще палача).
Сходство есть между нами и
осужденным – он нас убедил,
что убийству, которое мы готовим,
и убийству, нам уготованному,
предшествует истина.
И вот некто предстал предо мной,
я предстал перед кем-то —
и знаю, как постичь эту истину:
жить вашей жизнью и
принять нашу смерть.
Но я смертен и, значит,
ничему научить не смогу:
если б мог, то лишь
в эту секунду – только
в эту секунду и мне бы
нечего было сказать.
Рогожин вскакивает и сталкивает Мышкина, который как раз спустился на самую нижнюю ступеньку, на пол. Снова звучит нежнейшая мелодия. Рогожин преображается, подходит к Мышкину, поднимает его с пола и некоторое время держит на руках. Они обмениваются нательными крестами.
На пустой темной сцене тонкими белыми контурами проступают очертания дома, напоминающего замок. Через всю декорацию тянется балетный станок, возле него стоит Аглая в белоснежной пачке. Мышкин, стоя лицом к публике, читает вариации на тему пушкинской Баллады о бедном рыцаре и ни разу не поворачивается в ее сторону. Всякий раз, когда текст перебивается музыкой (звучит ритурнель[25]25
Ритурнель – инструментальная тема, служащая вступлением к песне или арии. Может повторяться между разделами, а также завершать произведение.
[Закрыть]), Аглая виртуозно проделывает одно и то же хореографическое упражнение. В начале звучит музыка.
Хочу поведать вам о странном человеке,
он жил на свете много лет назад,
слыл чудаком, но рыцарь
был бы славный,
когда б не бедность,
был дворца достоин.
Был бедно он одет,
и с плеч порой
свисала бахрома, впуская свет,
но в том кругу
позора не терпели,
и он в смирении обрел покой.
Те, кто войну проклинают,
предназначены к битве иной.
Им разбрасывать зерна
по безжизненным пашням земли,
им все лето держать оборону,
стоять насмерть на передовой,
они вяжут для нас снопы,
и ветер их валит с ног.
Звучит ритурнель. Аглая выполняет упражнение.
Пока шла подготовка, я избегал городов,
и жил я опасно, как живут те, кто любит.
После попал я как-то на светский ужин
и поведал о смертной казни. И снова меня не стало.
Первую свою смерть я принял из рук грозы
и подумал: как светел мир, и насколько себя превосходит,
там, где я омрачаю луга, треплют землю ветра
на кресте, ах, оставьте меня лежать лицом вниз!
Синие камни летели ко мне, будили меня от смерти.
Падали вниз осколки звездного лика.
Звучит ритурнель. Аглая выполняет упражнение.
Исключенный из Ордена,
вычеркнутый из баллад,
я отправился в путь в настоящем
туда, где лежит горизонт, где разбитые
солнца – в пыли,
где игра теней
на таинственных сводах небес
декорации крепит,
сплетая
их из детской
молитвы моей.
Если четки порвались,
по бусинам раскатились, если, целуя складки
синего платья мадонны,
чувствуешь привкус экстаза
долгих ночей, дуновением легким
в нишах гасится свет,
я выступаю из черной
крови неверных,
слушаю вновь лебединую песнь
нашу жертву отвергшей
истории.
Звучит ритурнель. Аглая выполняет упражнение.
Призываю недуг, призываю
безумие путь мой прервать,
отнять у меня свободу.
Захлестни, поток, вырви плоть мою
из-под ножа, занесенного мною,
чтобы ее разорвать. Дуновением,
духом, что в ней рвется ввысь,
и дыханьем своим – я его задержу
в знак того, что мой рот
не спросил ничего наперед,
что ждет меня, как и когда
на наших глазах
свершится творение.
Звучит вторая часть ритурнеля, Аглая недвижным взглядом смотрит на носки своих туфель, застыв в последней позиции упражнения.
Аллея в курортном городе, на заднем плане – павильон для оркестра. Здесь собрались птицы высокого полета – высший свет Петербурга. Занавес поднимается, дирижер оркестра застыл с поднятой палочкой в руке. Все фигуры неподвижны. Каждый в своей позе, и вся сцена производит впечатление картинки из глянцевого журнала. На авансцене – Мышкин, он чувствует себя здесь не в своей тарелке.
Летают легко, не стану
спорить, залетные птицы —
повсюду бывали, но
ныне пресыщены
даже быстрым полетом.
Мышкин уходит. Дирижер взмахивает палочкой, звучит музыка, и недвижный птичий базар превращается в обычную аллею, по которой прогуливаются отдыхающие. Когда музыка смолкает, все поворачиваются к капельмейстеру и аплодируют. Незадолго до конца танца появляются Мышкин с Аглаей. Некоторое время они прогуливаются среди прочих, потом выступают вперед. Мышкин обращается к Аглае.
Мне кажется, я словно средь камней,
она стареет, но бежит доверья.
Мне ясно, также и твое лицо
давным-давно ко мне сюда спустилось,
под этим белоснежным водопадом,
где я впервые расстелил постель
и где себе устрою ложе смерти,
перед глазами —
бездна чистоты.
Мышкин и Аглая уходят. Вечереет. Зажигаются фонари, оркестр прекращает игру, общество разбивается на пары и уходит со сцены. Все пространство заполняется спущенными сверху небесно-голубыми полотнами. Вбегает Аглая, за ней – танцоры в белом, появляется Мышкин в белом костюме – ее виденье. Но входит Настасья, встает между ними и разделяет любящих. Голубые полотна снова исчезают вверху. Аглая одна в ночном саду, она постепенно приходит в себя и с плачем бросается на скамейку. Мышкин, на сей раз во плоти, подходит к ней и опускается на колени.
А я-то поверил отказу.
Ты плачешь оттого, что я тебя желаньям предпочел?
Ты выбираешь краткую судьбу: мой миг, и я хочу
осуществленья снов, которые
ты видишь и простираешь вдаль.
Мне нечем тебя утешить.
Но мы будем рядом,
когда сдвинутся с места горы,
мы, словно камни без возраста,
будем лежать в изножье ночного страха
у истоков великого краха.
Однажды и луна осталась с носом.
В кронах наших сердец
застрял одинокий
отсвет любви.
Как холодно в мире,
как быстро сгустились тени,
что гнездятся у наших корней!
Аглая слушает Мышкина с недоумением; она разочарована, ее ожидания не оправдались. Она вскакивает, Мышкин в полной растерянности продолжает стоять на коленях. Общество снова собирается в ночном саду, на этот раз толпа окружает Настасью Филипповну, чей танец настолько красив, что у зрителей перехватывает дыхание. Обе женщины становятся друг против друга. Настасья оскорбляет Аглаю, в ответ один из сопровождающих Аглаи оскорбляет ее. Мышкин уходит, и, как испуганные птицы, собравшиеся разлетаются. Свет направлен на авансцену, кулисы уносят. На сцене теперь только черный подиум и две лестницы по бокам. Аглая и Настасья танцуют с партнерами, одетыми в черное. Будто на невидимых шпагах сражаются они не на жизнь, а на смерть. Когда возвращается Мышкин, взбираются каждая на свою лестницу и дают понять, что ждут объяснений. Заметив нерешительность Мышкина, Аглая бросается с подиума вниз, и партнер уносит ее. Мышкин хочет бежать за нею, но тут Настасья падает перед ним без чувств. Он поднимает ее и некоторое время держит на руках.
Сцена пуста, только люди в черных костюмах с канделябрами в руках стоят на ней спиной к публике. Мышкин лицом к публике произносит свой монолог.
Пришел я не с огнем —
со словом, мне внушенным,
и виноват во всем, о Боже мой!
Крестами мы обменялись,
только он свой крест не носил.
И слабый, восхваляю непреложность
Твоих Законов, верую в прощенье,
прежде чем оно даровано Тобой.
Страх колыхнулся во мне,
вспыхнул свет, я увидел:
ужас, моя вина,
во всем виноват я,
предатель, и этой ночью
должен войти в Твою,
страшного знания
совесть моя не отринет.
Пусть Ты – любовь, дрожа
как в лихорадке, я вышел из Тебя
и немощным среди дрожащих
стал. Твою слепоту читая,
из-за нее мы во тьме,
знаю, я виноват
во всем, ведь Ты нас
не видишь – Ты веришь в слово.
На сцене расстилают красный ковер. Мышкин разворачивается и теперь тоже стоит спиной к публике. Появляется Настасья, хочет прорваться к Мышкину на авансцену, но между ними несколько раз вторгается Рогожин с ножом в руке. Черные фигуры выполняют движения болеро. В конце концов Рогожину удается схватить Настасью и, повернувшись спиной к публике, он уносит ее со сцены. Черные фигуры уходят. Из колосников опускается икона. Мышкин без сил стоит перед нею.
Открой мне!
Все двери заперты, глухая ночь,
не сказано еще, что сказано должно быть.
Открой мне!
Пронизан воздух гнилью, губы – в синем
чехле, ни разу не целованные губы.
Открой мне!
Читаю, призрак, на твоих ладонях,
на лбу своем: ты хочешь, чтобы я ушел.
Открой мне!
Наконец выходит Рогожин, Мышкин делает шаг ему навстречу.
Будет завтра мой рот на замке. Я хочу
быть с тобой в эту ночь, я не выдам тебя.
Рогожин послушно ведет Мышкина за икону. На сцене совершенно темно. Обе следующие терцины Мышкин произносит в полной темноте.
На канатах тишины колокола
возвещают сон,
усни, возвещают сон.
На канатах тишины колокола
звонят покой или смерть,
приди, пусть будет покой.
Становится немного светлее. Сверху из колосников опускается белая веревка. Мышкин стоит неподвижно, веревка становится все длиннее, выходят танцоры и лаконичными торжественными движениями изображают начало безумия.
Хореография: Татьяна Гзовски
Музыка: Ханс Вернер Хенце[26]26
Хенце Ханс Вернер (р. 1926) – немецкий композитор. С 1953 года живет в Италии. Работает во всех музыкальных жанрах, но предпочитает оперу и балет. Эволюционировал от неоклассицизма к додекафонии и к новейшим системам композиции, не отказываясь, однако, от тональной музыки. Некоторое время вел совместную жизнь с И.Бахман.
[Закрыть]
DAS SPIEL IST AUS
Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß
und fahren den Himmel hinunter?
Mein lieber Bruder, bald ist die Fracht zu groß
und wir gehen unter.
Mein lieber Bruder, wir zeichnen aufs Papier
viele Länder und Schienen.
Gib acht, vor den schwarzen Linien hier
fliegst du hoch mit den Minen.
Mein lieber Bruder, dann will ich an den Pfahl
gebunden sein und schreien.
Doch du reitest schon aus dem Totental
und wir fliehen zu zweien.
Wach im Zigeunerlager und wach im Wüstenzelt,
es rinnt uns der Sand aus den Haaren,
dein und mein Alter und das Alter der Welt
mißt man nicht mit den Jahren.
Laß dich von listigen Raben, von klebriger Spinnenhand
und der Feder im Strauch nicht betrügen,
iß und trink auch nicht im Schlaraffenland,
es schäumt Schein in den Pfannen und Krügen.
Nur wer an der goldenen Brücke für die Karfunkelfee
das Wort noch weiß, hat gewonnen.
Ich muß dir sagen, es ist mit dem letzten Schnee
im Garten zerronnen.
Von vielen, vielen Steinen sind unsre Füße so wund.
Einer heilt. Mit dem wollen wir springen,
bis der Kinderkönig, mit dem Schlüssel zu seinem Reich im Mund,
uns holt, und wir werden singen:
Es ist eine schöne Zeit, wenn der Dattelkern keimt!
Jeder, der fällt, hat Flügel.
Roter Fingerhut ist's, der den Armen das Leichentuch säumt,
und dein Herzblatt sinkt auf mein Siegel.
Wir müssen schlafen gehn, Liebster, das Spiel ist aus.
Auf Zehenspitzen. Die weißen Hemden bauschen.
Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus,
wenn wir den Atem tauschen.
КОНЧЕНА ИГРА{8}[27]27
Перевод Н.Мальцевой.
[Закрыть]
Дорогой мой брат, не построить ли плот,
не пуститься ли по небосводу?
Дорогой мой брат, будет скверным исход:
оба уйдем под воду.
Дорогой мой брат, мы рисуем пути,
выбираем на картах страны.
Осторожней, грифелем не зачерти
параллели, меридианы.
Дорогой мой брат, я хочу у столба
кричать о своем бесчестье.
Но из смертной долины тебя судьба
выводит со мною вместе.
В кущи ли, в табор ли мы забрели,
от песка на зубах – досада.
Возраст мой, и твой, и возраст земли
исчислять годами не надо.
Не бойся ни клейких паучьих цепей,
ни пугал, что делают люди.
В Шлараффии не ешь и не пей —
там одна лишь пена в посуде.
Победит – кто возле златого моста
скажет фее заветное слово, —
Но боюсь, что сокровищница пуста,
оно не отыщется снова.
Наши ноги изранены сотней путей,
оттолкнемся одной – и допрыгнем
до короля в королевстве детей
и его на игру подвигнем!
Финик взойдет, отрастут крыла,
нет на свете прекрасней вести!
.. Для савана – красный наперсток, игла.
Крыты бубнами крести.
Игра окончена. Дело с концом.
Спать пора. Заколочена крышка.
В доме видят призраков мать с отцом,
если у нас передышка.
ANRUFUNG DES GROßEN BÄREN
Großer Bär, komm herab, zottige Nacht,
Wolkenpelztier mit den alten Augen,
Sternenaugen,
durch das Dickicht brechen schimmernd
deine Pfoten mit den Krallen,
Sternenkrallen,
wachsam halten wir die Herden,
doch gebannt von dir, und mißtrauen
deinen müden Flanken und den scharfen
halbentblößten Zähnen,
alter Bär.
Ein Zapfen: eure Welt.
Ihr: die Schuppen dran.
Ich treib sie, roll sie
von den Tannen im Anfang
zu den Tannen am Ende,
schnaub sie an, prüf sie im Maul
und pack zu mit den Tatzen.
Fürchtet euch oder furchtet euch nicht!
Zahlt in den Klingelbeutel und gebt
dem blinden Mann ein gutes Wort,
daß er den Bären an der Leine hält.
Und würzt die Lämmer gut.
's könnt sein, daß dieser Bär
sich losreißt, nicht mehr droht
und alle Zapfen jagt, die von den Tannen
gefallen sind, den großen geflügelten,
die aus dem Paradiese stürzten.
ПРИЗЫВ К БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕ{9}[28]28
Перевод Н. Гребельной.
[Закрыть]
Большая Медведица, сойди, косматая ночь,
облакошкурая зверюга с древними глазами,
звездоглазами;
сквозь чащу ломятся, мерцая,
твои лапы с когтями,
звездокогтями;
бдительно сторожим мы стада,
но все же отогнали от тебя и не доверяем
твоим усталым бокам и острым,
полуощеренным зубам,
старая Медведица.
Шишка еловая – ваш мир.
Вы – ее шелуха.
Я гоню ее, кружу,
поднимаю от подножия елей
до еловых верхушек,
рычу на нее, пробую ее пастью
и захватываю лапами.
Страшитесь или не страшитесь!
Наполняйте церковную кружку
и благовестите слепцу,
что Медведица у него на цепи.
И под стать ягнятам.
А возможно, что эта Медведица
вырвалась, уже не грозит
и шелушит все шишки, что попадали
под ели, под большие, крылатые,
сверху свалились – с неба.
MEIN VOGEL
Was auch geschieht: die verheerte Welt
sinkt in die Dämmrung zurück,
einen Schlaftrunk halten ihr die Wälder bereit,
und vom Turm, den der Wächter verließ,
blicken ruhig und stet die Augen der Eule herab.
Was auch geschieht: du weißt deine Zeit,
mein Vogel, nimmst deinen Schleier
und fliegst durch den Nebel zu mir.
Wir äugen im Dunstkreis, den das Gelichter bewohnt.
Du folgst meinem Wink, stößt hinaus
und wirbelst Gefieder und Fell —
Mein eisgrauer Schultergenoß, meine Waffe,
mit jener Feder besteckt, meiner einzigen Waffe!
Mein einziger Schmuck: Schleier und Feder von dir.
Wenn auch im Nadeltanz unterm Baum
die Haut mir brennt
und der hüfthohe Strauch
mich mit würzigen Blättern versucht,
wenn meine Locke züngelt,
sich wiegt und nach Feuchte verzehrt,
stürzt mir der Sterne Schutt
doch genau auf das Haar.
Wenn ich vom Rauch behelmt
wieder weiß, was geschieht,
mein Vogel, mein Beistand des Nachts,
wenn ich befeuert bin in der Nacht,
knistert's im dunklen Bestand
und ich schlage den Funken aus mir.
Wenn ich befeuert bleib wie ich bin
und vom Feuer geliebt,
bis das Harz aus den Stämmen tritt,
auf die Wunden träufelt und warm
die Erde verspinnt,
(und wenn du mein Herz auch ausraubst des Nachts,
mein Vogel auf Glauben und mein Vogel auf Treu!)
rückt jene Warte ins Licht,
die du, besänftigt,
in herrlicher Ruhe erfliegst —
was auch geschieht.








