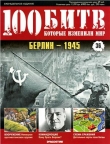Текст книги "Война. 1941—1945"
Автор книги: Илья Эренбург
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Эрнест Хемингуэй
Мадрид тех лет. Развалины домов на Пласа Дель Соль, мусор, яркие плакаты, столбы холодной пыли, детские трупы, ручные голуби, грохот снарядов и повсюду два слова: «No pasaran». Уже не призыв – заклинание.
Шумно было тогда на улице Гран Вия, где стоял небоскреб «Телефонного общества», облюбованный артиллерией Франко. Неподалеку от небоскреба находилась поврежденная фугаской гостиница «Флорида», некогда пышная и похожая в наступившем запустении на театральную бутафорию. В номерах стоял мороз, и большинство номеров пустовало, только один постоялец не хотел расстаться с «Флоридой»: Эрнест Хемингуэй на спиртовке варил кофе и писал любовную комедию. Он мог бы ее писать не в гостинице «Флорида», под бомбами и снарядами, но в земном раю, в настоящей Флориде. Почему предпочел он голодный, черный, разрушенный Мадрид? Что его привязало в те годы к Испании? Оружье. Оружье в чистой руке оскорбленного народа.
Декабрь 1937-го. На побережье цвели апельсины, а в горах не утихала метель. Я встретил Хемингуэя: он спешил к робкой, нечаянной победе; расспрашивал, как проехать к Теруэлю; боялся опоздать.
Мне привелось быть с ним у Гвадалахары. Глядя на брошенное итальянцами снаряжение, он бормотал: «Узнаю…» – он вспоминал Капоретто. Тогда он сердцем был с теми, кто бросал оружие. Теперь влюбленными глазами он смотрел на испанских солдат, которые вытаскивали из блиндажа красные гранаты итальянцев, похожие на крупную клубнику.
Он часто бывал на командном пункте двенадцатой бригады. Генерал Лукач, он же венгерский писатель Матэ Залка, объяснял Хемингуэю план атаки, и Хемингуэй говорил: «Понимаю, товарищ генерал».
Может быть, кому-нибудь придет в голову суетное предположение: писатель собирал материал для будущего романа. Убожество, глубокое непонимание того, как рождаются книги, привычка обходиться эрзацами искусства. Можно пойти в лес за ягодами, нельзя пойти в жизнь за литературным материалом. Этот «материал» обычно приходит непрошеный, как личная драма, он вытесняет все чувства, все помыслы, он душит писателя, и писатель пишет, чтобы не задохнуться. Книгу нельзя задумать по плану, книгой нужно заболеть.
Не один раз война насильно завладевала Хемингуэем. Война стала основной темой его жизни. Большой, на вид здоровый человек, чудак, который в иную эпоху создал бы вымышленный мир ужасов и радостей, был рано застигнут войной. Война его искромсала. Так родился роман «Прощай, оружье!».
Я не знаю другой книги о войне, столь горькой. А в Европе после первой мировой войны было написано много горьких книг. Сущность Хемингуэя – то, что он показывает людей не только раздетых, но и освежеванных, короткие фразы диалога, которые бьют прямой наводкой, – все это совпало с темой войны.
Мастерство Хемингуэя органично, ему нельзя подражать. Это не литературная школа, это особенность голоса, глаз, сердца. Предельная детскость многих диалогов, на самом деле – зрелость ума и чувств. Нет здесь ничего фальшивого, никакой литературщины. Предсмертный бред, любовная записка, исповедь пьяного покажутся манерными и стилизованными по сравнению с разговорами персонажей Хемингуэя. Его книги производят впечатление безыскусственности: такова сила высокого искусства. Диалоги не только новы как явление литературы, они новы вообще, их не было – так люди не разговаривают. Но каждому ясно, что люди должны разговаривать именно так.
Однако не только обнаженность придает исключительную силу роману «Прощай, оружье!»: в этой книге человек противопоставлен войне, и роман Хемингуэя с большим правом, чем многие другие прославленные книги, может быть назван исповедью поколения. В первой мировой войне карты были спутаны, праведники смешаны с грешниками, и совесть писателя страдала по обе стороны так называемой «ничьей земли». Герои Барбюса страдали в голубоватых шинелях, герои Ремарка и Ренна – в серо-зеленых, герои Олдингтона – в защитных. Как и в других книгах Хемингуэя, в романе «Прощай, оружье!» герой – американец среди европейцев. На Фреде Генри шинель итальянца. Но он, как и персонажи Ремарка или Барбюса, смятен, растерян. Им говорили о родине, а притягивала их ничья земля, некая третья правда. Оружье для них – кандалы.
Из всех героев литературы первой мировой войны Фред Генри не самый умный, отнюдь не самый храбрый, да и не самый совестливый, но он самый человечный. В первом романе Хемингуэя война – это машина, восставшая на человека, танк, ставший эпохой. Кругом итальянцы, народ живой и жизнерадостный, глубоко привязанный к простейшим и мудрейшим удовольствиям. Трудно подобрать для Фреда Генри партнеров лучше. Прибавьте к этому любовь, целомудренную и чувственную любовь англичанки Кэтрин, и Фред Генри прощается с оружьем; он говорит: «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир».
Легко сделать политические выводы: дезертир тех лет яростно сражался под Мадридом, яростно сражается теперь против фашистов, а командиры многих победоносных армий первой войны вторую начали как капитулянты и кончили ее как дезертиры. Но проблема проще и сложнее. Исповедь поколения продолжается, поскольку одному поколению достались две войны, не считая промежуточных войнушек.
С кем заключил сепаратный мир Фред Генри? Разумеется, но с двуединой монархией Габсбургов. Он думал: с жизнью; оказалось: со смертью. И смерть не насытилась первой победой. Она вскоре снова предстала перед Хемингуэем. Она предлагала ему капитуляцию на почетных условиях. Она снова соблазняла его жизнью. Хемингуэй обожает рыбную ловлю. У него есть маленький домик где-то в субтропическом парадизе. Это человек, привязанный к жизни, влюбленный в свое дело. Жить бы да жить! Разве не прожили поколения, оттеняя свое радостное существование хорошо придуманными трагедиями?
Но тема войны не отстает от Хемингуэя. Когда нет войны, смерть приходит к человеку на испанских аренах или в песках Африки, смерть ищет тореадоров или охотников. Это в паузе между двумя катаклизмами. О мировой войне в те годы начинают говорить пренебрежительно, как о далекой варварской эпохе, – она не повторится, человечество выросло.
А смерть занята примеркой. Сначала на скелет напяливается черная рубашка итальянских фашистов, – офицерики, удиравшие при Капоретто, берут приступом народные дома и рабочие клубы, а обнаглев, начинают героически травить ипритом абиссинских пастухов. Потом смерть надевает коричневую рубашку немецкого покроя. На черепе вырастают усики Адольфа Гитлера. С кем подписал сепаратный мир Фред Генри? С кем думал помириться Эрнест Хемингуэй?
Настают критические годы. Фашизм готовится истребить человечество. Три демократии Запада хотят отмолчаться: их не тронут, если они не закричат. Можно выпить со скелетом на брудершафт, можно объявить косу смерти мирным сельскохозяйственным орудием, можно принять самолет сына Муссолини, повисший над песками Эфиопии, за ангела мира. Так поступили многие. Отступили многие. Отступничество стало насморком писателей, и отступничество в тридцатые годы нашего века перестали замечать, как в тридцатые годы прошлого века не замечали условностей романтики.
Хемингуэй – по природе художник, а не идеолог, – я не хочу поэтому останавливаться на ошибочности той или иной из его политических оценок. Я только укажу, что он сразу нашел мужество назвать смерть – смертью. В 1936 году он выступил против итальянского фашизма, напавшего на Абиссинию. Статья называлась «Крылья над Африкой». Хемингуэй любит итальянский народ, но еще сильнее он любит жизнь: он разглядел тень бомбардировщика над Аддис-Абебой. Зачем он прощался с оружьем? Зачем люди кричали на узких улицах: «Viva la pace»?
И вот – Испания. Хемингуэй приехал в Мадрид. В первую осень он пережил с Испанией ее надежды, горе, отчаянье. Он писал в американские газеты очерки: как многие другие, он не хотел поверить в торжество отступничества. Потом, уже в Америке, он написал роман «По ком звонит колокол». Фред Генри стал Робертом Джорданом. Хемингуэй, развенчавший некогда героику, живет мужеством испанских партизан. Его поколение – наше поколение, – двадцать лет тому назад распрощавшееся с оружьем, приветствует и охотничье ружье кастильского пастуха, и танки свободы.
В чем сила нового романа Хемингуэя? Роберт Джордан не говорит: «Война», – война войне рознь. Он не заключает сепаратного мира. Он воюет против фашистов, – следовательно, против смерти. Роман – длинная повесть о нескольких днях во вражеском тылу. Американец Роберт Джордан и кучка испанских партизан взрывают мост, чтобы помешать фашистам подкинуть подкрепление. Есть в этом романе утверждение жизни. Любовь за день до смерти еще убедительней, еще телесней, еще глубже, чем в «Прощай, оружье!». Испанка Мария, горькая и нежная, как сьерра, еще отчетливее женщина, нежели нежная Кэтрин. Но Роберт Джордан ни за что не простится с оружьем: знает, почему он воюет. Есть войны, которые чище и выше величайшего блага – мира. Хемингуэй сказал об этом накануне второй мировой войны, среди общего смятения умов и сердец. Нет сейчас иного пацифизма, кроме лакейской угодливости Жионо. Круг замкнут: писатель, написавший «Прощай, оружье!», пуще любви, пуще искусства благословляет ручной пулемет.
Я не знаю ничего оптимистичней последних страниц печального романа «По ком звонит колокол». Партизаны, взорвав мост, пробираются к республиканцам. Роберт Джордан лежит на дороге с раздробленной ногой. Он прощается с Марией – с любовью, с жизнью, он прощается с боевыми товарищами: «Идите. Спешите». Когда девушка упирается, он говорит: «Ты уйдешь за себя и за меня…» Он остается один. Он не хочет покончить жизнь самоубийством: ему предстоит еще один глубоко жизненный поступок – убить врага. Он пересиливает боль: пуще всего он боится потерять сознание. С ручным пулеметом он ждет, когда покажется на дороге фашистский отряд, посланный вдогонку партизанам. Вот последняя страница этой изумительной книги:
«Скорей бы они пришли, сказал он. Пришли бы сейчас, а то нога начинает болеть. Должно быть, распухает.
Все шло так хорошо, когда ударил этот снаряд, подумал он. Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Коротковолновые передатчики – вот что нам нужно. Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, хорошо иметь запасную ногу.
Он с усилием улыбнулся на это, потому что нога теперь сильно болела в том месте, где был задет нерв. Ох, пусть идут, подумал он. Скорее бы они шли, сволочи, подумал он. Скорей бы. Скорей бы шли.
Нога теперь болела очень сильно. Боль появилась внезапно, после того как он перевернулся, и бедро стало распухать, и он подумал: может быть, я сейчас сделаю это. Я не очень хорошо умею переносить боль. Послушай, если я что сделаю сейчас, ты не поймешь превратно, а? Ты с кем говоришь? Ни с кем, сказал он. С дедушкой, что ли? Нет, ни с кем. Ох, к дьяволу, скорей бы уж они шли.
Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что, если я потеряю сознание, я не смогу справиться, и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо. Лучше не допустить до этого. Так, может быть, все-таки сделать это сейчас, и все будет кончено? А то, ох, слушай, да, слушай, пусть они идут скорей.
Плохо ты с этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляешься. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу. Но ты – плохо. Именно ты – совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора сделать это. А по-твоему?
Нет, не пора. Потому что ты еще можешь делать дело. До тех пор пока ты знаешь, что это, ты должен делать дело. До тех пор пока ты еще помнишь, что это, ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут! Пусть идут!
Так думая о тех, которые ушли, сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как они едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо. Думай, как они едут всю ночь. Думай, как они завтра приедут в Гредос. Думай о них. К черту, к дьяволу, думай о них! Дальше Гредос я уже не могу о них думать, сказал он.
Думай про Монтану. Не могу. Думай про Мадрид. Не могу. Думай про глоток холодной воды. Хорошо. Вот так оно и будет. Как глоток холодной воды. Лжешь. Оно будет никак. Просто ничего не будет. Ничего. Тогда сделай это. Сделай. Вот сейчас сделай. Уже можно сделать это. Давай, давай. Нет, ты должен ждать. Ты знаешь сам. Вот и жди.
Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание. Я знаю, потому что к этому уже три раза шло и я удерживался. Я удерживался, и оно проходило. Но теперь я не знаю. Наверно, там, в ноге, внутреннее кровоизлияние, ведь эта кость все разодрала кругом. Когда поворачивался, тогда особенно. От этого и опухоль, и слабость, и начинаешь терять сознание. Теперь уже можно это сделать. Я тебе серьезно говорю, уже можно.
Но если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить. Поступок, сделанный вовремя…
Ладно, сказал он. И он лежал совсем спокойный и старался удержать себя в себе, чувствуя, что ползет из себя, как иногда снег с горной вершины, и сказал теперь совсем спокойно: только бы мне додержаться, пока они придут.
Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу. Отряд остановился возле серой лошади и крикнул что-то офицеру, и офицер подъехал к нему. Он видел, как оба склонились над серой лошадью. Они, конечно, узнали ее. Этой лошади и ее хозяина недосчитывались в отряде со вчерашнего утра.
Роберт Джордан видел их на половине склона, совсем близко от него, а внизу он видел дорогу и мост и длинную вереницу машин за мостом. Он теперь вполне владел собой и долгим, внимательным взглядом обвел все. Потом он посмотрел на небо. На небе были большие белые облака. Он потрогал ладонью сосновые иглы рядом на земле и потрогал кору дерева, за которым он лежал.
Потом он устроился как можно удобнее, облокотился на кучу хвойных игл и дуло пулемета упер в сосну.
Рысью поднимаясь вперед, по следам ушедших, офицер должен был проехать ярдов на двадцать ниже того места, где лежал Роберт Джордан. На таком расстоянии тут не было ничего трудного. Офицер был лейтенант Беррендо. Он только что вернулся из Ла-Гранхи, когда пришло известие о нападении на нижний дорожный пост, и ему было предписано выступить со своим отрядом туда. Они мчались во весь опор, но мост оказался взорванным, и они повернули назад, чтобы перевалить через гору и выйти к теснине кружным путем. Лошади их были все в мыле и даже рысью шли с трудом.
Лейтенант Беррендо поднимался по склону, приглядываясь к следам; его худое лицо было сосредоточенно и серьезно. Его автоматическая винтовка торчала поперек седла. Роберт Джордан лежал за деревом, сдерживая себя очень бережно и очень осторожно, чтобы не дрогнула рука. Он ждал, когда офицер выедет на освещенное солнцем место, где первые сосны леса выступали на зеленый склон. Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную хвойными иглами лесную землю…»
* * *
Так умер Роберт Джордан, истребив перед смертью фашистский отряд. Так встретил писатель Эрнест Хемингуэй вторую мировую войну. Он сразу узнал врага. Он не колебался. Он приветствовал народы, поднявшие оружье для защиты жизни.
Сейчас мы думаем об этом прекрасном писателе в Москве, – в Москве, к которой зимой подходили фашисты, в Москве, которая не сдалась и не сдастся. Есть у Роберта Джордана русские братья и сестры. Вспомним двадцать восемь. Вспомним хрупкую девушку «Таню». Сколько русских перед смертью повторяли слова Роберта Джордана: «Если ты задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить…» Не было и нет лучших читателей у Хемингуэя, чем народ, который показал миру таран и дал бойцов, взрывавших на себе немецкие танки.
Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой, всеевропейской Гвадалахары фашизма. Мы защитим жизнь: в этом призвание нашего злосчастного и счастливого поколения. А если не удастся мне, многим из нас, увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в роковой час американца с разбитой ногой на кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце?
16 августа 1942 г.
Ненависть и презрение
Немцы продолжают на юге наступать. Они знают, что август на исходе. Они страшатся новой зимы. Они делают все, чтобы сломить наше сопротивление. Они рвутся к Грозному – к нашей нефти. Они приблизились к Волге, они грозят Сталинграду. Здесь каждый километр стоит сотни. Здесь нельзя отходить.
Удачи на юге подбодрили немцев. Они повеселели на кубанских харчах. Они лихо поплевывают: они хотят прикинуться бесстрашными. Но на душе у них смутно: за бочками вина им мерещатся кресты, за победными сводками – снежные сугробы.
Палачи не бывают героями. Нет мужества у грабителей. Немцы наступают, но мы ни на минуту не должны забывать, что немцы – трусы.
Солдат Иозеф пишет своей сестре Сабине: «Совсем недавно несколько русских женщин закололи навозными вилами двух немецких солдат». Немка Лила Павличек пишет из Бремена своему мужу Францу: «Позавчера был налет англичан. Это такой ужас! Я слегла. Весь вчерашний день у меня был понос». Такие не пойдут с вилами на солдат, такие восторженно мяукают от «трофейных» посылок и воют от первой сирены.
Мужья не лучше. Танк старшего лейтенанта Макшанцева шел на двенадцать немецких танков. Макшанцев снарядами зажег три немецкие машины. В самом разгаре боя у нашего танка заклинило башню. Тогда Макшанцев пошел на таран. Он лбом ударил по ходовой части немецкой машины. Остальные танки немцев пошли наутек. Что сказал победитель, старший лейтенант Макшанцев? Одно: «Немцы трусы».
Они не трусы, когда они воюют против детей. Нет, тогда они «герои». Недавно рота немцев сожгла деревню Ламовы Горки, Дедовического района, Ленинградской области. Немцы вопили: «Всех перебьем». Они действительно всех перебили. Они расстреляли из пулемета Саню Михайлова, одиннадцати лет, Ваню Иванова, тринадцати лет, Васю Рыхлова, пятнадцати лет, Васю Петрова, одиннадцати лет, и Анну Теплякову, трех месяцев от роду. Они не отступили и перед стариками, они «отважно» убили Савелия Егорова, семидесяти трех лет, Василия Рыжкова, восьмидесяти пяти лет, Ивана Антонова, восьмидесяти семи лет, и Анну Рожкову, девяноста лет. Когда партизаны поймали одного из участников этого расстрела, немец валялся в ногах и вопил: «Я никого не трогал! Это Гитлер виноват, а я только чистил картошку…»
Григорий Котов огнем ручного пулемета сдержал напор немцев. Три часа он косил немцев, он опорожнил тридцать дисков и убил сто гитлеровцев. Немцы не выдержали, побежали. Что говорит Котов? Он только усмехается: «Фриц нахал до поры до времени, а если дать ему по зубам, фриц драпает как миленький…» Скажите Григорию Котову, что немцы прошли от Бретани до Кавказа, он ответит: «Значит, их не сдержали. А их можно сдержать. Против меня шло двести, а я был одни…»
«Почему вы воюете?» – этот вопрос я задавал многим пленным. Немцы отвечали: «Потому что Гитлер приказал», или: «Потому что нам нужно пространство», или: «Потому что нам нельзя жить, не воюя». Кажется, скотина и та мычит человечней. Почему немцы воюют? Чтобы грабить. Вор может быть нахальным. Вор не может быть храбрым.
Политрук Кузьмин шел впереди роты. Он был дважды ранен в бою. Его хотели отправить в санбат. Он ответил: «Нет. Крови я много потерял, это правда. Но я не потерял ни капли ненависти. Пустите – хочу бить немцев!» Есть ли сила, которая удержится перед такой ненавистью? Кто жил на этой земле? Подлец Курт Шурке или Кузьмин? Чей дом позади? Чьи дети не спят, разбуженные пушками? «Грабь пространство», – хрипло кричат немцы, и в ответ раненый Кузьмин отвечает: «Друзья! Братья! Родные мои бойцы! За Россию!»
Под Сталинградом убили фельдфебеля Ганса Готтрей. На нем нашли неотправленное письмо: «Это сплошное безумие! В моей роте одиннадцать человек. Если бы русские знали, в каком мы состоянии! Жара, пожары, непрерывный огонь. Никто у нас на родине не подозревает, что такое война в России…» Немцы наступают на Сталинград крупными силами. Но это не та война, о которой мечтали немцы. Они решили убивать. Они не подумали, что им придется и умирать. Фельдфебель Ганс Готтрей восклицает: «Если бы русские знали!..» Мы знаем, что происходит в сердце всех этих фельдфебелей и солдат. У орла Германии клюв стервятника и сердце курицы.
Бойцы юга должны остановить обнаглевших трусов. Бойцы Западного и Калининского фронтов должны помочь бойцам юга. Не считать врагов: счет делу не поможет. Бывает, один удерживает сотню, бывает, сотня бежит от одного. Не рассчитывать на горы и на реки: у немцев есть и горные танки, и понтоны, но русские не раз останавливали немцев среди чистого поля. Нужно понять, что у немцев много всего – и танков, и генералов, и вассалов, и автоматов, у них нет одного: русского мужества.
20 августа на Западном фронте боец Кандрашев уничтожил пять немецких танков. Среди крупных военных событий это прошло незамеченным, но над удачей Кандрашева стоит задуматься.
Кандрашев отрыл круговой окоп возле толстой сосны и залег. Из леса один за другим выползли немецкие танки. Кандрашев рассказывает: «Что-то у меня в груди заколотило. Хотелось сосчитать сколько, но не стал считать. Жду…» Приблизился средний немецкий танк. Кандрашев пропустил его и кинул в хвост бутылку с горючим. Из люка, как обожженные крысы, стали выскакивать немцы. Они не успели опомниться: Кандрашев подстрелил их.
К засаде подошел следующий легкий танк. Едва он миновал окоп, как Кандрашев гранатой распустил по швам гусеницу. Танк завертелся на месте, будто ему отдавили лапу. Немцы выбежали. Для каждого у Кандрашева нашлось по одной пуле.
Третий танк. Кандрашев берет бронебойное ружье. Танк закорчился. Четвертый. Пятый. Один человек – и кладбище танков.
Выстоять можно. Выстоять необходимо. Немцы хотят удушить нас, захватив Волгу. Волга в наших руках – артерия жизни. Волга в руках немцев станет веревкой на шее родины. Немцы хотят доконать нас, захватив нефть Кавказа. Они не могут остановить наши танки. Они не могут сбить наши самолеты. Они решили забрать нашу нефть. Бой идет за ключ к победе. Каждый шаг назад несет родимой земле горе и слезы. Немцы наступают, наглые и трусливые. Они лихо грабят захваченные города, и они истерически вопят под русским огнем. На немца, на презренного труса! – кричит Россия. Мы их ненавидим, и мы их презираем. Мы не растратили ненависть, не расплескали ее. Мы не потеряли нашего презрения. Нам трудно было отступать, и все же мы повторяем: трусы, трижды трусы эти проклятые захватчики. Друзья, покажите презренным немцам, что такое вечная Россия!
28 августа 1942 г.