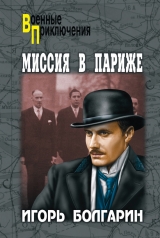
Текст книги "Миссия в Париже"
Автор книги: Игорь Болгарин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Немногим отличалась и соседняя деревня Сели-ан-Бьер. Только здешний замок Куранс был красивее и древнее, платановый парк больше, каналы шире и глубже.
Взявшись за руки, они гуляли по парку, любовались его каналами, скульптурами дельфинов и каменных купальщиц.
Таня упросила Павла зайти в замковую церковь Сент-Этьен, постояли здесь в каменной прохладе.
Откуда-то с высоты на них тихо струилась умиротворяющая органная музыка.
Таня отпустила руку Павла, за которую все время держалась. Краем глаза он заметил, что ее губы беззвучно шевелятся. Затем она, едва заметно, мелко перекрестилась.
Когда они снова вышли на солнце, она сказала:
– Я помолилась, чтобы мы больше никогда не расставались.
– Ты ведь знаешь, что это невозможно. И никакой бог не в силах это изменить.
– Бог, он все может, – возразила Таня. – Но я так его попросила: «Господи, если по каким-то твоим причинам сейчас это невозможно, сделай так, чтобы мы вскоре еще встретились и уже больше никогда не расставались».
– Глупенькая ты моя, – ласково сказал он.
– Я знаю, вы, большевики, все атеисты. Ни во что не верите, – она подняла на него свои большие карие глаза. – А ты – верь! Я знаю, вам запрещают верить. Ленин запретил, или кто там еще. А ты через «нельзя» верь! Никому это не показывай, просто душой, сердцем – верь! – умоляюще шептала она. – Я тоже буду молиться за тебя, за нас. И все сбудется. Обязательно сбудется. Только верь.
Глава одиннадцатая
В Флёри-ан-Бьер они вернулись в сумерках, и еще издали увидели стоящий у ворот знакомый «фиат».
– Кажется, наше время уже истекло, – грустно сказал Павел.
– Нет-нет! Илья Кузьмич обещал мне четыре дня, – со слезой в голосе капризно пролепетала Таня.
– К сожалению, они уже уплыли.
– Я считала. У нас еще восемнадцать часов, – настаивала Таня.
– Они тоже прошли. Ты ошиблась, девочка. Ровно на один день.
– Нет. Вот посмотришь: Илья Кузьмич приехал, чтобы просто проведать нас.
Во дворе их ждали все трое: Елизавета Кузьминична, Жан-Марк и сам Болотов. По тому, как молчаливо и печально они их встретили, и Павел и Наташа поняли: им предстояло вернуться в Париж.
– Я должен был приехать за вами еще вчера, – сказал он, словно бы оправдываясь. – Но я взял грех на душу, соврал, что автомобиль не в порядке.
– Что-то случилось? – спросил Павел.
– Как сказать. Есть кое-какие новости, – уклончиво ответил Болотов. – Словом, ты нужен в Париже.
Таня безмолвно слушала их разговор, и по ее щекам катились слезы.
Елизавета Кузьминична обняла ее за талию, тихо сказала:
– Пойдем, девонька, собираться. Такая у нас бабья доля: провожать да встречать.
В Париж они добежали часа за полтора. Болотов все время молчал либо говорил на какие-то посторонние темы: про дорогу, про погоду. Павел понял: новость, которую он привез с собой, не для посторонних ушей.
Таня всю дорогу держала Павла за руку, время от времени к нему прижималась и с тихой надеждой шептала:
– Ты любишь меня? Мы еще увидимся здесь, в Париже? Правда?
Вместо ответа Павел молча гладил ее руку. Что он мог ей пообещать? Быть может, уже завтра его не будет здесь. Да и не с руки ему эти пешие прогулки по Парижу. Вон сколько знакомых встретил он здесь! Фролова, Миронова, Таню! Ладно, эти – свои, их не нужно опасаться. Но ведь здесь, по этим улицам, вернувшись из командировки в Россию, не сегодня-завтра вновь будет ходить полковник Щукин. Не исключена также его встреча с Микки Уваровым, который часто навещает Париж по служебным делам. И все эти случайные встречи могут для Павла закончиться печально.
– Не знаю, – искренне ответил ей Павел. – Я очень тебя люблю, и ни на день не хотел бы с тобой расставаться. Или, на крайний случай, хотя бы изредка с тобой видеться. Но, к сожалению, не все в моей власти.
– Дай мне хоть знать, если тебе придется уехать, – попросила она.
Все время молчавший, но слышавший весь их разговор Болотов, сказал:
– Если Павел Андреевич внезапно покинет Париж, я вас об этом извещу. Но будем надеяться, что вы еще встретитесь.
– Я вам очень благодарна, – ответила Таня и, немного помолчав, добавила: – За все. За ваше участие.
– Да чего уж там! – смутился Болотов. – Разве не понимаю. Сам еще совсем недавно был молодым.
На рю Колизе Болотов остановил «фиат».
– Не хочу возле самого дома, – пояснил он. – На всякий случай.
Таня тепло попрощалась в Болотовым.
Павел взял из автомобиля ее сумку, пошел ее проводить. Идя рядом, она снова и снова, как заклинание, повторяла:
– Пожалуйста, не забывай меня! Я очень тебя люблю! Не забывай!.. Господи, неужели ты не услышишь мои молитвы?
Потом она остановилась.
– Дальше не надо. Вон там я живу, – она показала ничем не примечательный дом с высокими венецианскими окнами на первом этаже. – У нас небольшая квартирка.
Они еще раз обнялись. Она целовала его и, навзрыд плача, приговаривала:
– Я буду ждать! Я буду очень тебя ждать!
Перейдя через пустынную в эту ночную пору улицу, она остановилась в световом овале под фонарем, обернулась, что-то сказала Павлу.
Он не расслышал.
Тогда она показала рукой: «уходи».
Он вернулся к автомобилю, а она все стояла и глядела ему вслед. И когда автомобиль проезжал мимо ее дома, она все еще продолжала стоять, прислонившись к стене своего дома. Когда они поравнялись, она взмахнула им рукой.
– Ну и куда теперь? – спросил Кольцов, когда ее дом уже исчез за поворотом.
– Туда же, на Маркс-Дормуа.
– Почему вы не говорите о том, ради чего за мной приехали. Что случилось?
– Нашелся Миронов.
– И вы до сих пор молчали! – упрекнул Болотова Павел. – Что он говорит? Какие у него новости?
– Никаких.
– Как это: никаких?
– Так. Ни-ка-ких. Нашел его я. Уже ни во что не веря, я в очередной раз зашел в ваше кафе и увидел человека, по приметам похожего на него. Подходить не стал. Осторожно понаблюдал за кафе. Он сидел там еще больше часа. Ни с кем не общался, явно кого-то ждал. Потом пошел через пустырь в сторону Монтрее. Я огляделся, вроде нигде никого. Один идет. Окликнул его на русском языке. Он остановился. Я спросил, не он ли Миронов? Он так подозрительно на меня посмотрел, и сказал: «Ну, допустим. Что вам надо?» Я ему отвечаю: «Ничего. Вас уже больше недели разыскивает один ваш знакомый», – обстоятельно отчитывался Болотов. – Вашу фамилию я не назвал. Мало ли что.
Нетерпение Кольцова зашкалило за все мыслимые отметки:
– К чему все эти подробности! – почти закричал он. – Саквояж! Он нашел саквояж?
– Откуда я знаю?
– Но вы же с ним разговаривали!
– Я не смог ничего из него выдавить. Он был молчалив, как египетская мумия.
– И вы его отпустили?
– А что я мог сделать?
– Ну хоть что-то же он сказал?
– Сказал. Ну да. Сказал: «Кто меня ищет, тот знает, где меня найти». И все. И ушел. Надеюсь, завтра он снова появится в том вашем кафе.
– Какое «завтра»? Я до завтра не доживу! – взволнованно сказал Павел. – Поворачивайте, едем в Монтрее.
– Нормальные люди в эту пору уже досматривают второй сон, – проворчал Болотов, но все же притормозил и стал разворачиваться.
Только знакомыми ему улочками Илья Кузьмич выехал на бульвар Вольтера, по нему – до площади Наций, и затем до Монтрее. Всю дорогу он угрюмо молчал, выказывая свое недовольство сумасбродством Кольцова и этим, с его точки зрения, бессмысленным ночным путешествием.
На окраине Монтрее Болотов сухо спросил:
– Ну, и куда теперь?
Павел пристально вглядывался в тускло освещенную улицу. Ему казалось, он хорошо запомнил путь к кинофабрике и надеялся либо там застать Миронова, или у кого-то узнать его домашний адрес. Но сейчас, в ночной темноте, он никак не мог сориентироваться. И, наконец, сказал Болотову:
– Надо бы у прохожих спросить, как проехать к кинофабрике.
– Уж не думаете ли вы, что на кинофабрике кто-то ночью работает? – ожидая, когда на пустынной улице кто-нибудь появится, ворчал Илья Кузьмич.
Парочка молоденьких влюбленных подробно рассказала, как проехать к кинофабрике. И вскоре они въехали через уже знакомые Кольцову ворота и остановились возле ярко освещенного павильона. Отбрасывая на асфальт причудливые тени, вокруг павильона сновали люди.
– Это, верно, все русские? – спросил Болотов. – Среди французов таких сумасшедших нет.
Павел не стал слушать его брюзжание. Он торопливо вошел в павильон, издали увидел ярко освещенный уголок декорации, направился туда. Здесь снималась очередная фильма, что-то из русской истории. Под ослепительным светом прожекторов сидели рядышком бородатые дородные ряженые в расшитых золотом кафтанах. Видимо, они изображали в новой фильме бояр. Киносъемщик направлял на них свою, похожую на чемодан, громоздкую кинокамеру. Тут же толпились помощники в рабочих комбинезонах, они что-то замеряли рулеткой. Съемка только готовилась, и поэтому все – и статисты, и пока не занятый работой киношный персонал – были расслаблены, спокойно наблюдали за творческими муками киносъемщика и его помощников.
Присмотревшись ко всему происходящему, Павел увидел знакомого: тощего парубка с вислыми запорожскими усами. Кажется, он работал здесь помощником режиссера. Вспомнил, что это он не так давно уговаривал Миронова изобразить какого-то ездового или ямщика.
Кольцов подошел к парню, взял его выше локтя за руку, спросил:
– Извините, уважаемый! Не подскажете, где сейчас можно отыскать Миронова?
– Юрку? Да он где-то здесь! – парень огляделся по сторонам, кому-то крикнул: – Семен! Где Юрка?
– Был здесь. Должно, спать отправился, – отозвался широколицый толстый парень неестественно тонким бабьим голосом.
– Домой?
– Никак нет. Я пока никого не отпускал. Иван Ильич сказали, что под утро еще понадобятся стрельцы, – обстоятельно отчитался Семен.
– Его вот ищут, – объяснил помощник режиссера..
– Из полиции? Опять что-то натворил?
– Нет, я его земляк, – успокоил всех Павел.
Помощник режиссера принял к сведению слова Кольцова, приказал Семену:
– Приведи его.
– Как же! Приведешь! Мы с ним не в контакте. Норовистый, зараза, как необъезженная коняка. Вчера меня за здорово живешь по физии съездил, – пожаловался Семен.
– Ну отведи вот их. И тут же назад. Скоро Иван Ильич придут, сымать бояр будем.
Болотова, заинтересовавшегося киношной суетой, Кольцов оставил наблюдать за подготовкой к съемке, а сам вслед за Семеном отправился в поисках Миронова в другой конец павильона. Шли уже знакомым Кольцову путем. Он предположил, что если Миронов никуда не сбежал с кинофабрики, то, скорее всего, спит сейчас в своем закутке, во всеми забытой до поры до времени капитанской рубке.
Там его и нашли.
– Юрка! К тебе пришли? – еще издали прокричал Семен.
В ответ была тишина.
– Норовистый, гад. Чуть что, сразу кулаками машет, – снова пожаловался Семен и, подойдя к самой лесенке, ведущей в капитанскую рубку, опять прокричал: – Слышь, Юрка! За тобой пришли!
– Кто? – донесся из рубки голос Миронова.
– Кто-кто! Полиция!
– Скажи полиции, у меня сегодня не приемный день. Пускай завтра приходят, – лениво, сонным голосом, отозвался Миронов.
– Понимает, гад, шутки! – восхищенно улыбнулся Кольцову Семен. – Вы тут теперь сами. Может, выпил. Так вы его малость по щекам. Не любит.
И Семен исчез в лабиринте перегородок. А Павел поднялся по шаткой лесенке к двери капитанской рубки. Увидел на вращающемся стуле развешанную одежду Миронова, а потом и его самого. Он лежал на полу рубки, на вымощенной из различного киношного тряпья, постели.
Миронов поднял голову, попытался в павильонных сумерках разглядеть, кто посмел его потревожить. Пошарил рукой по полу, нащупал спички и зажег стоящий на полу рядом с ним керосиновый каганец. Разгораясь, он постепенно осветил капитанскую рубку.
– Вы? – удивленно сказал Миронов, узнав Кольцова. – А я уж подумал: пропала моя работа. Подумал, видать, вам этот саквояж, как козе пятая нога.
– Где он? – спросил Кольцов.
– Триста франков пришлось отдать, – канючил Миронов. – Не, не за него, конечно. На обмен. Уперлись рогами: настоящая кожа, хорошая работа, новый, красивый. Пришлось купить им еще красивее.
– Потом подробности! – нетерпеливо сказал Кольцов.
Но Миронов продолжал монотонным скаредным голосом отчитываться:
– В Ниццу за ним ездил. Этим молодоженам взбрело в голову в Ницце провести медовый месяц. Пришлось ехать. Сто сорок франков билет. Туда и обратно. Сплошное разорение.
– Слушайте, Миронов! Я вас сейчас убью! – закричал Кольцов. – Дайте мне в руки саквояж, и после этого я готов хоть сутки слушать ваш свинячий бред.
– Саквояж – вон там, под тряпьем, – указал Миронов на кучу какой-то ветоши.
– Вы сумасшедший, Миронов! – Кольцов стал разгребать старые занавески, до дыр заношенные рубахи, вытертые бушлаты и шинели, остатки каких-то ковриков и подстилок. Наконец, нащупал ручку саквояжа. Потянул за нее. Саквояж был пустой и легко высвободился из-под наваленной на него ветоши. Сердито сказал: – Его же здесь могли украсть.
– В мои апартаменты никто ни ногой. Четверо суток здесь хранился – и ничего.
Чемодан стоял на полу перед Кольцовым. По подробным рассказам шорников еще там, в Москве, и по недавним воспоминаниям Старцева и Бушкина, это, похоже, и был тот самый саквояж. Добротный, из толстой бычьей кожи, перехваченный двумя широкими ремнями, с изящными круглыми рантами, прошитый шелковым шнуром мелкими ровными стежками.
Павел провел рукой по коже, слегка придавил пальцами рант, изящной тонкой колбаской опоясывающий крышку, и почувствовал под пальцами едва ощутимые бугорочки. По всей видимости, это и были бриллианты.
– Видите, я сдержал свое слово, – не преминул напомнить Миронов, одеваясь. – Надеюсь, потраченные мной деньги вы вернете? Вкруговую семьсот франков. Гостиница, питание, то, се. Деньги – это вода, – сказал какой-то мудрец. Я бы уточнил: деньги – это воздух. Они находят крошечную дырочку и незаметно улетучиваются. Аванс, если помните, был всего лишь четыреста франков.
Кольцов сунул руку в карман, извлек пятисотенную бумажку.
– Вот вам еще пятьсот. Четыреста и пятьсот, по-моему, это и будет семьсот.
– У вас в гимназии был хороший учитель арифметики.
Павел был щедр и расточителен. С его души спадала тяжесть, отступала нервотрепка, колотившая его все последние дни. Свершилось то, на что он никак не рассчитывал. Нет, он не поедет сейчас на Маркс-Дормуа. Он все равно не сможет нынешней ночью спать. Он разбудит Жданова и Фролова, и пусть они при нем, ночью же, взрежут эти проклятые ранты и выложат на стол то, что отобрало у него, по меньшей мере, десять лет жизни. Никак не меньше. И на этом он ставит точку! К чертям собачьим эту работу, это постоянное хождение по лезвию бритвы. Не тот возраст, не те нервы.
– Вы правильно тогда подумали, саквояж действительно прихватил Раймон. Точнее, кореша его. Раймон-то сам раненый был. Вот они и принесли его ему домой, – сбивчиво и бестолково рассказывал Миронов. Он хотел во что бы то ни стало до конца изложить свою поисковую эпопею Кольцову. Ждал восхищения, похвалы, – Это когда у них завязалась там драка, на саквояж свалилась оборванная занавеска. Поэтому ажаны его не заметили. А то прихватили бы и этот.
Кольцов стал вслушиваться. Все эти дни они строили различные предположения о судьбе этого саквояжа. А ларчик открывался совсем просто.
– С Раймоном я легко договорился, – продолжал Миронов. – Я, сказал мне Раймон, без всякой жалости отдал бы его тебе. На кой хрен он мне. Я не какой-нибудь банкир, что б с такой богатой коробкой по Парижу ходить. А дальше Парижа я нигде не бываю. Но, сказал мне Раймон, к сожалению, я его уже подарил. Корешу. У того дочка замуж выходила, и он Раймона в гости пригласил. У них, как и у нас в России, на свадьбе принято что-то молодым дарить. И не какую-то там дребедень, а что-то путное. Что? А тут, в аккурат, перед глазами Раймона стоит этот дармовой саквояж. Сотни на две тянет, не меньше. Раймон и отнес его. Гости, говорит, писались кипятком от такого подарка. У них у каждого, то ли деревянный, то ли фанерный. А тут настоящий буржуйский.
– А в Ницце как оказался? – все еще ничего не понимая, спросил Кольцов.
– За ним же, за этим саквояжем, и поехал. Молодые туда на медовый месяц отправились. Я – за ними. Еле в Ницце их нашел. Сколько мне перед ними пришлось на старости лет Ваньку валять, чтоб подозрение не вызвать! Поначалу ни за что не хотели отдавать. Свадебный подарок, все такое. А я им: папаша мой шорником был, перед самой смертью этот саквояжик мне сладил. Что б помнил, сказал. А они – ни за что! Я уж и слезу пустил: папаша, говорю, в скором времени преставился, только и памяти о папаше – этот саквояж. Еле уговорил. Я им шикарный чемодан купил. За триста франков.
– Это мы уже проехали, – напомнил Кольцов. – Мне осталось только сказать вам спасибо. От души.
– И это все? – разочарованно спросил Миронов. – А обещали золотые горы.
– Все, что обещал, выполню. В этом не сомневайтесь. Вероятнее всего, уедем уже в ближайшие дни. И, кстати, я должен постоянно знать, где вы, как с вами связаться.
– Здесь, – сказал Миронов. – Пока что это мой дом. Присмотрел тут, в окрестностях Парижа, небольшой рыцарский замок, но пока на него не хватает самой малости денег. Да! С часа до двух я, как правило, бываю в знакомом вам кафе.
Миронов пошел провожать Кольцова. На полпути остановился:
– Вы бы все же проверили саквояж. Я дно хорошенько прощупал, вроде как нет там никаких бумаг.
– В них уже отпала надобность.
– Выходит, зря старался. Так может вы это… Может, подарите мне его на память?
– Нет, – покачал головой Кольцов и весело продолжил. – Мой папа не был шорником, но все равно я оставлю его себе.
– На память о Париже?
– О Париже у меня останется на память кое-что другое. Рубцы на сердце. Саквояж износится, и я его в конце концов выброшу, а рубцы останутся до конца жизни.
Миронов не совсем улавливал, о чем говорит Кольцов. Ему только показалось, что говорит он не о саквояже и не о Париже, а о чем-то только ему одному понятном.
– До чего же вы мне нравитесь, товарищ Кольцов. У вас есть что-то от настоящего одессита. Тот же одесский юмор и та же одесская печаль! – и, немного помолчав, добавил: – Очень не хотелось бы в вас разочароваться.
– Не беспокойтесь, Юрий Александрович! Я не разочаровался в вас. Постараюсь отплатить вам той же монетой.
Глава двенадцатая
Уже было за полночь, когда они подняли с постели Фролова. Он жил пока, временно, совсем недалеко от банка, в небольшом уютном отеле на бульваре Мадалены. Банк находился на площади Согласия, и Фролов предпочитал ходить на работу пешком.
Жданова пока решили не будить. Саквояж положили посредине небольшой комнаты, точнее, кабинета Болотова, и каждый из них уже не один раз провел пальцами по рантам, чтобы убедиться, что в них что-то спрятано. Внешне ничего нельзя было разглядеть, но если жестко помассировать рант, под пальцами угадывались бугорки.
– Предлагайте, как лучше? Выпороть рант или разрезать? – спросил Фролов.
– А это, как в том анекдоте. Пришли к раввину муж и жена. Выдают дочку замуж. Просят у мудрого раввина совета: как одеть дочку на первую брачную ночь? В беленькую сорочечку с красной полоской, или в красную – с белой полоской, – стал рассказывать анекдот Болотов. При этом он рылся в ящиках своего письменного стола, извлек оттуда поначалу изящный перочинный нож, а затем ножницы.
– Какую-нибудь коробку! – тоном хирурга коротко подсказал Кольцов.
Они сейчас и в самом деле были похожи на бригаду врачей, готовящихся к сложной операции.
– Ну-ну, и что раввин? – напомнил Болотову Фролов.
– А что раввин! Сказал… ага, сказал, хоть выпорете вы ранты, хоть разрежете, а саквояж все равно придется выкинуть. Мудрый был раввин.
Фролов не сразу, но спустя короткое время расхохотался. Смеялся и Кольцов. Лишь Болотов, как и подобает хорошему рассказчику анекдотов, оставался серьезным.
Отсмеявшись, Фролов спросил:
– Ну, кто смелый?
– Давайте, я! – сказал Кольцов. – Я люто возненавидел этот саквояж. Кажется, ничто в жизни мне не доставило больших неприятностей и хлопот.
Кольцов взял со стола ножницы и попытался воткнуть их острые концы в кожу ранта. Но кожа была толстая, лосиная, и ножницам не поддавалась.
– Ножичком попробуй.
– Без сопливых.
– Надо сперва ножичком надрез сделать, и как по маслу пойдет.
Они священнодействовали. Но саквояж сопротивлялся. Он упрямо не хотел открывать свою тайну.
Наконец, Кольцов с трудом сделал ножичком надрез и, немного помучившись, выколопнул оттуда первый бриллиант. Показывая, Кольцов положил его на ладонь, он перекатывался на ней, рассыпая вокруг себя голубые искры.
– Стекло и стекло, – разглядывая бриллиант, пренебрежительно сказал Павел. – Ну что в нем такого необыкновенного?
– Цена, – коротко объяснил Болотов, и добавил: – Эта кроха стоит порядка тридцати тысяч франков.
– Это и удивляет. Одурело человечество. Порой из-за этих стекляшек войны начинаются. Или наоборот. Вот мы, к примеру. Вложим каждому большому французскому чиновнику по такому камешку в руку, а не сторгуемся – еще по одному: война и закончится. Так, что ли?
– Ну не так примитивно, – сказал Болотов.
– А как? Меня это давно интересует: как большим чиновникам, политикам взятки дают? Нет, серьезно. Что, пришел к нему на прием, отдал ему камешек и сказал: «Ты уж, браток, постарайся. Скажи в конгрессе или в парламенте про нас хорошие слова. Поддержи, словом!»
– Если огрублять, то приблизительно так и происходит. Беседуешь с таким чиновником раз, второй. Намекаешь: неплохо бы, дескать, если бы вы поддержали нас в том и в этом. Наблюдаешь, как реагирует. Когда понимаешь, что он уже созрел, говоришь волшебные слова. Ну что-то вроде: «Наша благодарность будет выше ваших ожиданий». Или что-то в таком роде.
– Это понятно. Ну а потом? Сам факт вручения взятки? Как купцы чиновникам? В конверте? Или щенками? – настойчиво допытывался Кольцов. – Или все же как-то хитрее, менее унизительно? Тут ведь оба находятся в унизительном положении: и тот, кто берет, и тот, кто дает.
– Бывает, и в конверте. Если определяешь, что с этим можно особо не церемониться, что этот за деньги мать родную продаст. Но чаще, все же, по-другому. Тут, Павел Андреевич, целая наука, выработанная веками. По большей части устраивается целый спектакль. Взятку камуфлируют под проигрыш в карты или в бильярд. Можно устроить так, чтобы нужный человек выиграл в лотерею. Человечество выработало десятки остроумных способов вручения взяток.
– У меня в молодости пару раз были такие случаи: надо было дать взятку – и не сумел. Постеснялся. Пожалуй, что даже и побоялся. Подумал, что мне деньги в лицо швырнут, – вступил в разговор Фролов. – А когда в Стамбуле стал работать, и сам брал, и другим давал, не моргнув глазом, безо всякой опаски. У турков с этим просто: «бакшиш».
– Во Франции сложнее, – сказал Болотов. – Тут иногда неделя или месяц проходит, пока нужный человек до взятки дозреет. Потом-то уже проще. Потом уже можно и не церемониться.
Разговаривая, Павел продолжал свою работу. Постепенно приладился, и теперь уже после взмаха ножом посылал в коробку еще один или пару бриллиантов.
– Семнадцать, восемнадцать, – разговаривая, Болотов не забывал считать извлеченные Кольцовым бриллианты.
– На боковушке саквояжа пошли крупнее, – заметил Кольцов. – Поглядите, этот чуть не с горошину.
– Увеличительное стекло бы! – высказал пожелание Фролов.
Болотов сходил в операционный зал банка и принес оттуда лупу десятикратного увеличения. Они, как дети, передавали ее из рук в руки и увлеченно рассматривали рассыпанные по дну коробки бриллианты.
– Я такие, как эти, только на картинках видел, – сказал Кольцов. – У матери кольцо было, на нем несколько бриллиантиков. Верите, нет, величиной с маковое зернышко. Может, чуть больше.
– Эти – коллекционные. Отборные. Очень дорогие, – пояснил Болотов. – Через мои руки их здесь много прошло. А такие не часто присылали. Чистой воды, как называют такие бриллианты ювелиры. Вот этот, к примеру, тысяч на триста франков потянет. А то и более.
Под утро, когда они уже почти заканчивали свою ювелирную, в прямом и переносном смысле, работу, дверь отворилась, и к ним в комнату бодро вошел Жданов.
– Что не спите, полуночники?
– А вы?
– Вам положено ночами спать. Сон – первейшее благо молодости. А бессонница – проклятие старости.
– Сто восемьдесят шесть, – громче обычного объявил Илья Кузьмич, принимая у Кольцова и опуская в коробку очередной бриллиант. И поняв, что не пробудил в Жданове любопытство, спросил: – Борис Иванович, скажите, вас можно чем-нибудь удивить?
– Несомненно. И чем же?
– Это вот – тот самый саквояж, из-за которого нас столько времени лихорадило! – тоном факира произнес Болотов. – И мы извлекаем из него бриллианты!
– Да ведь я все знаю, – хитро улыбнулся Жданов.
– Как? Кто вам мог сказать?
– «Конспираторы»! Я еще не успел заснуть, когда вы приехали. И видел все в окно. И вас, и саквояж, который вы с собой несли. А до этого, если помните, вы доложили мне, – обратился он к Болотову, – что отыскали этого… Миронова. Так не откажите старику в умении, после такого количества информации, легко обо всем догадаться.
– Но почему же, в таком случае, вы не спустились к нам сразу? – удивился Фролов.
– Но вы почему-то не позвали меня. Я решил, что вы готовите мне сюрприз. Не мог же я лишить вас такого удовольствия.
После этих слов Борис Иванович вышел в коридор и тут же вернулся с двумя бутылками шампанского в руках.
Нет, Жданов и в своем преклонном возрасте оставался все таким же, как и прежде, молодым душой, мог иногда подурачиться и устроить розыгрыш своим друзьям, любил вино и остроумную шутку.
– Доставайте, Илья Кузьмич, бокалы. Разве это не повод отметить ваш успех?
– Наш успех! – едва ли не хором сказали остальные.
– Не будьте подхалимами. Это целиком и полностью ваша заслуга. А если быть до конца честным, это заслуга Павла Андреевича.
– Ну, тут уж я не согласен, – возразил Кольцов. – Делим успех на всех четверых. Поровну. И точка! – но тут же поправился. – Нет, на пятерых. Но в первую очередь это заслуга Юрия Александровича Миронова. Не окажись он когда-то на нашем с Петром Тимофеевичем пути, мы сейчас, возможно, отмечали бы этим шампанским наше поражение.
– Все правильно, – согласился Жданов. – Не будем спорить. Кто-то из великих сказал: у поражения один виновник, у победы – всех не счесть. Важно, что мы с вами все же пьем за успех, за победу.
Когда шампанское было допито, Жданов, по давней привычке, стукнул своей тростью о пол.
– Все! Пошумели, порадовались – и хватит. Вернемся к делу. Ну-ка, показывайте свою добычу.
Ему передали коробку.
– Сто девяносто два бриллианта, – подсказал Болотов.
– Тут еще три-четыре, – вновь приступил к своей работе Кольцов.
Жданов перебирал пальцами бриллианты, Время от времени один какой-то извлекал из коробки и долго рассматривал его в лупу.
– Ишь ты! Какой красавец! – восхищенно говорил Жданов и, держа его на открытой ладони, пристально рассматривая, объяснял: – Это так называемый тройной бриллиант. Тридцать две фасетки на коронке, и двадцать четыре – на кюлассе. Всего пятьдесят шесть граней. Даже не трудитесь считать.
– Дорогой? – поинтересовался Фролов. Его не приводили в восторг все эти туманные заклинания: «фасетки, коронки, кюлассы», не восхищал блеск и сияние самих бриллиантов. Он был человеком долга. И его долг был сейчас: как можно выгоднее, дороже продать эти бриллианты и вырученные на них деньги передать товарищам, только ему и Жданову известным, давно внедренным во французскую жизнь. А уж они знали, как этими деньгами распорядиться на пользу новой России.
– Мог бы быть и дороже. Старая английская огранка, – пояснил Жданов и вынул из коробки другой, медового цвета. – Этот вот – редкостный экземпляр. Двойной. Голландская грань. И уникальный по цвету… А вот этот «дикштейн». Октаэдр. Тоже довольно высоко ценится. Здесь почти нет обычных, рядовых камней.
Кольцов наконец поднялся с колен, опустил в коробку еще несколько бриллиантов.
– Все! Последние три!
– Всего сто девяносто пять, – подытожил Болотов. – Хорошая посылка. Давно такую не упомню.
– И качеством на этот раз лучше, – перебирая в коробке бриллианты, сказал Жданов.
– И что, все в распыл? – недоброжелательно спросил Кольцов.
– На то они и присланы, – Жданов внимательно взглянул на Кольцова, – А вам что? Жалко?
– Мне на них плевать, мне они душу не греют. Но если с другой стороны посмотреть, они ведь российские. Российское, то есть, богатство. Так какого черта мы обогащаем им французов? Вот этого я не понимаю.
– А ведь мы с вами на эту тему говорили, уважаемый Павел Андреевич, – напомнил Жданов. – И Иван Платонович тоже огорчался, что оказался втянутым в эту бессовестную торговлю. Я тоже не в восторге. Но разоренной России сейчас и здесь нужны деньги. Франки. И немалые суммы. Как прикажете мне поступать?
Все промолчали. Знали, зачем Москва слала сюда бриллианты. На вырученные после их продажи деньги Советская Россия пыталась купить мир. А дороже мира ничего на свете нет. Разве что жизнь. Брат и сестра. Они всегда рядом.
– Не знаете? – жестко продолжил Жданов и с горечью зачерпнул горсть бриллиантов. – А я знаю. Этих мне нисколько не жалко. С ними я без сожаления расстанусь. А вот эти, – он стал извлекать из коробки и выкладывать на ладони более крупные бриллианты, рассыпающие вокруг себя благородные отблески. Эти мы пока прибережем. Если сумеем обойтись без них, они снова вернутся обратно в Россию. А нет – пожертвуем и ими. Жизнь людей дороже этих камешков. Простите за столь высокие слова.
Едва только бриллиантовые хлопоты свалились с плеч Кольцова, он стал настаивать на быстрейшем отъезде в Россию.
Возвратиться тем же путем, которым он ехал сюда – через Германию и Польшу, – как оказалось, пока все еще было невозможно. Война с Польшей то прекращалась, то вновь возобновлялась, переговоры о мире затягивались и осложнялись различными нотами и меморандумами, и надежд на скорое подписание мирного договора пока все еще было мало. Поляки охотно и беспрепятственно пропускали через свою страну покидающих Советскую Россию, но не разрешали возвращение.
Два битых дня Жданов потратил на улаживание бесчисленного количества таможенных формальностей, чтобы отправить Кольцова этим, более коротким и удобным путем. Германия давала разрешение на пересечение своей территории. Но с поляками договориться не удавалось. И Жданов, в конце концов, в отчаянии сдался.
Оставалась еще одна дорога, более длинная и менее удобная: Париж – Берлин – Штральзунд, далее морем до Стокгольма, а оттуда уже – до Петрограда. Путь до Стокгольма не сулил никаких неприятностей. А вот дальше…








