Том 3. Менестрель. Поэмы
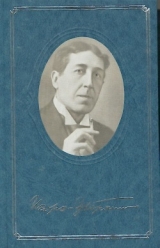
Текст книги "Том 3. Менестрель. Поэмы"
Автор книги: Игорь Северянин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Часть III
1
Для всех секрет полишинеля,
Как мало школа нам дает…
Напрасно, нос свой офланеля,
Ходил в нее я пятый год:
Не забеременела школа
Моим талантом и умом,
Но много боли и укола
Принес мне этот «мертвый дом»,
Где умный выглядел ослом.
Убого было в нем и голо, —
Давно пора его на слом!
2
Я во втором учился классе.
Когда однажды в тарантасе
Приехавший в Череповец,
В знак дружбы, разрешил отец
Дать маме знать, что если хочет
Со мною быть, ее мы ждем.
От счастья я проплакал очи!
Дней через десять под дождем
Причалил к пристани «Владимир»,
И мамочка, окружена
Людьми старинными своими,
Рыдала, стоя у окна.
Восторги встречи! Радость детья!
Опять родимая со мной!
Пора: ведь истекала третья
Зима без мамочки родной.
Отец обширную квартиру
Нам нанял. Мамин же багаж
Собой заполнил весь этаж.
О, в эти дни впервые лиру
Обрел поэт любимый ваш!
Шкафы зеркальные, комоды,
Диваны, кресла и столы —
Возили с пристани подводы
С утра и до вечерней мглы.
Сбивались с ног, служа, девчонки,
Зато и кушали за двух:
Ах, две копейки фунт печенки
И гривенник – большой петух!..
И та, чья рожица омарья
Всегда растянута в ухмыл,
Старушка, дочка пономарья,
Почти классическая Марья,
Заклятый враг мочал и мыл,
Была довольна жизнью этой
И объедалась за троих,
«Пашкет» утрамбовав «коклетой»
На вечном склоне дней своих…
Она жила полвека в доме
С аристократною резьбой.
Ее мозги, в своем содоме,
Считали барский дом избой…
И ногу обтянув гамашей,
Носила шляпу-рвань с эспри,
Имела гномный рост. «Дур-Машей»
Была, что там ни говори!
Глупа, как пень, анекдотична,
Смешила и «порола дичь»,
И что она была типична,
Вам Федор подтвердит Кузьмич…
…Ей дан билет второго класса
На пароходе, но она,
Вся возмущенье и гримаса,
Кричала: «Я пугаюсь дна, —
Оно проломится ведь, дно-то!
Хочу на палубу, на свет…» —
Но больше нет листков блокнота,
И, значит, Марьи больше нет…
Был сын у этой «дамы», Колька,
Мой сверстник и большой мой друг.
Проказ, проказ-то было сколько,
И шалостей заклятый круг!
Однажды из окна гостиной
Мы с ним увидели конька,
Купив его за три с полтиной
У рыночного мужика.
Стал ежедневно жеребенок
Ходить к нам во второй этаж…
Ах, избалованный ребенок
Был этот самый автор ваш!
С утра друзья мои по школе,
Меняя на проказы класс,
Сбегались к нам, и другу Коле
Давался наскоро заказ:
Купить бумагу, красок, ваты,
Фонарики и кумача,
И, под мотивы «Гайаватты»,
Вокруг Сашутки-лохмача,
Кружились мы, загаром гнеды,
Потом мы строили театр,
Давая сцену из «Рогнеды», —
Запомни пьесу, психиатр!..
Горя театром и стихами,
И трехсполтинными конями,
Я про училище забыл,
Его не посещая днями;
Но папа охладил мой пыл:
Он неожиданно нагрянул
И, несмотря на все мольбы,
Меня увез. Так в Лету канул
Счастливый час моей судьбы!
А мать, в изнеможеньи горя,
Взяв обстановку и людей,
Уехала, уже не споря,
К замужней дочери своей.
О, кто на свете мягче мамы?
Ее душа – прекрасный храм!
Копала мама сыну ямы,
Не видя вовсе этих ям…
3
Ту зиму прожил я в деревне,
В негодовании зубря,
По варварской системе древней,
Все то, что все мы зубрим зря.
Я алгебрил и геометрил.
Ха! Это я-то, соловей!
О счастье! Я давно разветрил
«Науки» в памяти своей…
Мой репетитор, Замараев,
Милейший Николай Ильич,
Все больше терся у сараев,
Рабочему бросая клич
Объединенного Протеста,
За что лишился вскоре места:
Хотя отец – и либерал, —
Но бунт на собственном заводе
Несносен в некотором роде:
Бунт собственника разорял.
«Бунтарь» уволен. Математик
На смену вызван из Твери.
Он больше был по части «Катек»,
Черт математика дери!
Любила тетка преферансы, —
Учитель был ее партнер.
А я слагал в то время стансы,
Швырнув учебник за забор.
Так целодневно на свободе
И предоставлен сам себе,
Захлебывался я в природе,
Сидел у сторожа в избе,
Кормил коней, влюблялся в Саню,
Читал, что только мог прочесть…
Об этом всем теперь романю,
А вас прошу воздать мне честь!
4
Учительского персонала
Убожество не доканало
Меня лишь оттого, что взят, —
Пусть педагоги не грозят! —
Я был отцом из заведенья,
Когда за год перед войной
Русско-японской, он со мной
Уехал, потерпев крушенье
В заводском деле, на Квантун,
Где стал коммерческим агентом
В одном из пароходств. Бастун
Спасительным экспериментом
Еще не всколыхнул страны:
Ведь это было до войны.
5
Мы по дороге к дяде Мише
(Он в Серпухове жил тогда)
Весной, когда в Оке вода,
Бесчинствуя, вздымалась выше
Песчано-скатных берегов,
Заехали на две недели,
И там я позабыл о цели
Пути, и даже был готов
С собой покончить: угодили
Мы, страшно молвить, к свадьбе Лили…
На фабрике громадной ткацкой
Директорский имея пост,
Михал Петрович, добр и прост,
Любил отца любовью братской.
Его помощник, инженер,
Был женихом моей кузины, —
Поклонник рьяный хабанер,
Большой знаток своей машины,
Предобродушнейший хохол
И очень компетентный химик,
На голове его хохол
Не раз от трудолюбья вымок…
Жених хохлацки грубоват,
Но Лиля ведь была земною,
И разве муж был виноват,
Что сделалась его женою
Лилиесердная Лилит?
Летит любви аэролит.
Поберегись-ка ты, прохожий:
Ты выглядишь, как краснокожий,
Когда аэролит летит…
Но я… но я не поберегся.
И что же? Сердца краснота
Вдруг стала закопченней кокса, —
Гарь эта временем снята…
Теперь, пролетив четверть века,
Сменяет лирику сарказм.
Тогда же я рыдал до спазм.
От боли был почти калека…
Вспеняя свадебный фиал
И пламную эпиталаму
Читая, я протестовал.
Из пира чуть не сделал драму…
Перед отъездом видеть маму
Мне не дали, и, сев в экспресс,
Умчались мы к горам Урала.
Душа, казалось, умирала,
Но срок истек – и дух воскрес!
6
Ах, больше Крыма и Кавказа
Очаровал меня Урал!
Для большей яркости рассказа
На нем я сделаю привал.
В двух-трех словах, конечно, трудно
Воспеть красоты этих гор.
Их тоны сине-изумрудны:
На склонах мачтовидный бор.
Круть! олесненные скаты,
Стремглавны шустрые ручьи.
В них апельсинные закаты
Студят дрожащие лучи.
Вздымаются державно сопки,
Ущелья вьются здесь и там;
Но мы в вагоне, как в коробке,
И потому могу ль я вам
Сказать достойно об Урале,
Чего он вправе ожидать?
Молниеносно промелькали
Мы гор Урала благодать.
И мимо чукча, мимо чума,
Для рифмы вспомню про имбирь,
По царству бывшему Кучума
Перемахнули всю Сибирь!
Я видел сини Енисея,
Тебя, незлобивая Обь.
Кем наша матушка-Рассея, —
Как несравнимая особь, —
Не зря гордится пред Европой;
И как судьба меня ни хлопай,
Я устремлен душою всей
К тебе, о синий Енисей!
Вдоль малахитовой Ангары,
Под выступами скользких скал,
Неслись, тая в душе разгары;
А вот – и озеро Байкал.
Пред ним склонен благоговейно,
Теряю краски и слова.
Пред строгой красотой бассейна
Взволнованного божества.
Святое море! Надо годы
Там жить, чтоб сметь его воспеть!
Я только чую мощь природы…
Ответь когда-нибудь, ответь
Моей душе, святое море,
Себя воспеть мне силы дай!
В твоем неизмеримом взоре
Я грежу, отражен Алтай…
Манчжурия, где каждый локоть
Земли – посевная гряда,
В нее вонз н китайский ноготь
Эмблемой знойного труда…
Манчжурия! Ты – рукотворный
Сплошной цветущий огород.
Благословен в труде упорный
Твой добродетельный народ.
И пусть в нем многое погано,
Он многие сердца привлек,
Когда, придя к ногам Хингана,
В труде на грудь твою возлег…
Кинчжоу, узкий перешеек;
За ним, угрюмец и горюн,
Страна сафирных кацавеек,
В аренду нанятый Квантун
На девяносто девять весен
Портсмутским графом, центр смут.
Вопрос давно обезвопросен:
Ответ достойный дал Портсмут…
7
Мы в Дальнем прожили полгода,
И, трафаретно говоря:
«Стояла дивная погода»
От мая вплоть до декабря.
Я был японкою Кицтаки
Довольно сильно увлечен:
С тех пор мечтать о Нагасаки
Пожизненно я обречен…
И пусть узнает мой биограф,
Что был отец ее фотограф,
А кем была Кицтаки-мать —
Едва ль сумею вам сказать…
Когда, стуча на деревяшках,
Она идет, смотря темно,
Немного сужено на ляжках
Ее цветное кимоно.
Надменной башенкой прическа
Приподнялась над головой;
Лицо прозрачней златовоска;
Подглазья с темной синевой.
Благоухает карилопсис
От смутного атласа рук.
Любись и пой, и антилопься,
Кицтаки, желтолицый друг!..
В костюме белопарусинном
В такой же шляпе и туфлях,
Я шел в Китайский парк пустынный
Грустить о северных полях…
И у театра Тифонтая
Почти в тропической жаре,
Ложился на траву, мечтая
О вешней северной заре…
Любуясь желтизной зеленой
Воды, чем славен Да-Лянь-Вань,
Вдыхая воздух вод соленый,
Пел Сканды северную ткань
Текучую. У Балтиморья
Скоплялись мысли и мечты.
Так у Квантунского нагорья
Мечтал с утра до темноты.
Вода Корейского залива
Влекла в Великий океан,
В страну, где женщина – как слива…
Вдали белел Талиенван,
Напоминая о боксерском
Восстаньи: днях, когда хунхуз,
В своем остервененьи зверском,
Являлся миру из обуз
Едва ль не самою ужасной,
Когда, – припомни, будь так добр, —
Его смиряли силой властной
Суда: «Кореец», «Сивуч», «Бобр».
У нас был «бой» в халате ватном.
Весь шелковый и голубой,
Ах, он болтал на непонятном
Китайском языке, наш «бой».
Китаец Ли – веселый малый,
Мы подружиться с ним могли,
И если надо, что ж, пожалуй,
Я вспомню и китайца Ли.
Мы с ним дружили, но китаец
Однажды высмеял мой флаг.
Он в угол загнан мной, как заяц,
И мой почувствовал кулак:
«Герой» ему вцепился в косу
И, подтолкнув его к откосу,
На нем патриотизм излив,
Чуть не столкнул его в залив.
На вопли Ли сбежались кули,
О чем-то с жаром лопоча,
Но я взревел! И точно пули,
Они «задали стрекача»…
Мы вскоре с боем помирились,
Вновь дружба стала голуба.
Мне в нос всплывал не амарилис,
А запах масла из боба…
8
Вот в это время назревала
Уже с Японией война.
И, крови жаждя, как вина,
Мечтали люди – до отвала
Упиться ею: суждена
Людскому роду кровь в напиток, —
Ее на свете ведь избыток.
И людям просто пир не в пир,
Коль не удастся выпить крови…
Как не завидовать корове:
Ведь ей отвратен лязг рапир!
Туман сгущался, но, рассеяв
Его, слегка поколебал
Наместник царский, Алексеев,
Угрозу битв, устроив бал,
В противовес всему унынью.
Тогда в кипящий летний зной
Над всею необъятной синью,
Верней сказать: над желтизной, —
Красавец-лебедь, мелких бурек
Не замечавший в громе бурь,
Наш броненосный крейсер «Рюрик»
Взвивает гордо флаг в лазурь.
К нему вперед пуская катер,
Припятитрубился «Аскольд»,
От «Рюрика» встав на кильватер.
И увертюрой из «Rheingold»
На крейсере открытье бада
Оповещают трубачи.
Как он, потомок Ганнибала,
Я бал беру в свои лучи.
9
К искусственному водопаду
На палубе подвешен трап.
Всю ночь танцует до упаду
Веселья добровольный раб:
Будь это в Ницце ли, в Одессе ль,
Моряк – всегда, везде моряк!
И генерал приморский Стессель
Шлет одобрительный свой «кряк».
И здесь же Старк и Кондратенко,
И Витгефт с Эссеном, и Фок,
И мичманов живая стенка,
И крылья, крылья дамских ног!
Иллюминованы киоски,
Полны мимоз и кризантэм.
По рейду мчатся миноноски
С гостями к балу между тем.
Порхают рокотно ракеты,
Цветут бенгальские огни.
Кокеток с мест берут кокеты…
А крейсер справа обогни,
И там, у Золотого Рога,
Увидишь много-много-много
И транспортов, и крейсеров
В сияньи тысяч огоньков…
Тут и «Паллада», и «Боярин»,
И тот, чье имя чтит моряк,
Чей славный вымпел оалтарен,
В те дни обыденный «Варяг».
«Аскольд» поистине аскольдчат.
Вокруг хрустят осколки фраз
И в дальнем воздухе осколчат
Мотивы разных «Pas de gráce»…
Военной строгости указки
Бросает в воду вальса тур.
Эскадра свой справляет праздник,
И вместе с ней весь Порт-Артур.
В серебряных играет жбанах
Шампанское, ручьем журча,
В литаврах звон, а в барабанах —
Звяк шпор весеннего луча!
Замысловатых марципанов
Полны хрустальные блюда,
И лязг ножей, и звон стаканов,
И иглы «ягодного льда»…
Какой бы ни был ты понурик,
Не можешь не взнести бокал,
Когда справляет крейсер «Рюрик»
В ночь феерическую бал!..
10
За месяц до войны не вынес
Тоски по маме и лесам,
И, на конфликт открытый ринясь,
Я в Петербург уехал сам,
Отца оставив на чужбине,
Кончающего жизнь отца.
Что мог подумать он о сыне
В минуты своего конца,
В далекой Ялте, в пансионе?
Кто при его предсмертном стоне
Был с ним? кто снес на гроб сирень?
На кручах гор он похоронен
В цветущий крымский майский день.
Я виноват, и нет прощенья
Поступку этому вовек.
Различных поводов скрещенье:
Отца больного раздраженье,
Лик матери и голос рек,
И шумы северного леса,
И шири северных полей —
Меня толкнули в дверь экспресса
Далекой родины моей.
Чтоб целовать твои босые
Стопы у древнего гумна,
Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!
Toila
Падучая стремнина
Роман в 2-х частях
Пролог
Кто говорит, что в реках нет форелей,
В лугах – цветов, а в небе синевы,
У арфы – струн, у пастухов – свирелей?
Кто говорит, не знаете ли вы?
Кто говорит, что в песне нет созвучий,
В сердцах – любви, а в небе – нереид,
Что жизнь – пустой, нелепый только случай?
Не знаете ли вы, кто говорит?
Да только тот, кто чужд душой искусству,
Фантазии, любви и всплеску вод,
Кто не дает в груди развиться чувству
И гонит прочь его, – да, только тот.
* * *
И лишь поэт, безвозрастный ребенок,
Юродивый, блаженный и пророк,
Чья мысль свята, чей слух прозрачно-тонок,
Кто знает путь в заоблачный чертог.
О, лишь поэт, вседневно ждущий Чуда,
Печальное увидевший в смешном,
Великое в ничтожном, в царстве блуда
Услышавший моленья о ином.
Лишь он один владетель душ народа
Постиг, взойдя на нерушимый трон,
Какую мощь таит в себе природа,
Каким бы сам ничтожным ни был он.
Ничтожны все, рожденные в убогом
И бренном мире нравственных калек,
Но в миг, когда поэт стал полубогом,
Остался человеком человек.
* * *
И в этом их различье. Так для света
Нередко трудно вникнуть в суть стихов:
Ведь для того, чтоб воспринять поэта,
Необходимо знать язык богов.
Ему нельзя в земной учиться школе,
Недопустим для смертных и Парнас,
В лесу, в горах, в степях и в поле
Познать язык возможно, не учась…
И в светлый миг, когда познают люди
Язык богов, смысл мира станет прост.
Нежней цветов вздохнут тогда их груди
И засияют взоры ярче звезд.
Так пусть молчат прозаики-невежды.
Ах, не для них и святость, и краса,
Блажен, неугасающий надежды:
Он уготован видеть чудеса!
Часть I
В год первой революции на дачу
Мы в Гатчину поехали. Весною
Произошла Цусима. Катастрофа
Нежданная совсем меня сразила:
В ту пору я большим был патриотом
И верил в мощь любимой мной эскадры.
Я собирал коллекцию из снимков
Судов всех флотов; на почетном месте,
Примерно вымпелов сто девяносто,
Висел на стенке русский флот, причем
Разделены суда все по эскадрам:
Из Балтики, левей – из Черноморья
И Тихоокеанская. Тогда мне
Лишь восемнадцать было лет. В ту пору
Мои стихи рождались под влияньем
Классических поэтов. Декаданс
Был органически моей натуре,
Здоровой и простой по существу,
Далек и чужд. На графе Алексее
Толстом и Лермонтове вырос я.
Итак, мы жили в Гатчине: я, мама
И старая прислуга, пятьдесят
Лет жившая у нас. Ее ребенком
Лет девяти, не больше, взяли в дом.
Я Гатчину люблю: ее озера —
Серебряное, с чем тебя сравню?
И Приорат, и ферма, и зверинец,
И царский парк, где павильон Венеры,
Не нравиться не могут тем, кто любит
Действительно природу, но, конечно,
Окрестности ее, примерно Пудость,
Где водяная мельница и парк
С охотничьим дворцом эпохи Павла
Гораздо ближе сердцу моему.
Но эту местность я узнал позднее,
Спустя почти что год. Другое лето
Я проводил, само собой понятно,
Уже на мельнице. Однако это
Я расскажу впоследствии. Тоска,
Терзавшая меня в связи с Цусимой,
Мне не давала наслаждаться летом
И даже парк тогда мне был не в парк.
Мы в Петербург уехали в июле,
Ни с кем знакомства не приобретя,
И если позабыть о Тимофее,
О старом дачном дворнике, пожалуй,
И вспомнить это лето будет нечем.
Но Тимофея позабыть нельзя.
И я сейчас вам объясню причину:
Я, как-то разговаривая с ним,
Обмолвился о скуке. Пригласил он
Меня к себе. Я, с детства демократ,
Зашел к нему однажды. Проболтали
До позднего мы вечера. В беседе
Бутылку водки выпили. Со Златой,
Своей дочерью, он познакомил.
Ей тоже восемнадцать лет. Блондинка,
Высокий рост и чудный цвет лица.
Она вернулась вечером с работы
И, поклонясь слегка, прошла в каморку
К себе. Я мельком на нее взглянул,
Но все же различить успел и свежесть
Ее лица, и красоту походки,
И общее изящество. Не странно ль,
Но сразу я почувствовал влеченье
К той девушке. Я больше не встречал
Ее ни разу в это лето. Вскоре
Уехали мы в город.
* * *
В сентябре
В осенний парк поэта потянуло,
И я поехал в Гатчину. Весь день
Я пробродил в безлюдном Приорате,
А к вечеру зашел и к старику,
К отцу красивой дочери. Приветлив
Он был со мной и чаем угостил.
И в этот раз мы выпили изрядно
Убийственно-живительного зелья.
Я вскользь спросил о Злате, но она
Уж месяц, как уехала работать.
И в Петербурге у портнихи модной,
Вблизи Стремянной улицы жила.
Ее же сестры – Маша, Анна, Лиза
И Феня – находились при отце.
Две первые, замужние, имели
Уже детей по два-четыре года.
И красотой совсем не отличались.
Но Лиза, младше Златы, миловидный
Утонченный и хрупкий был ребенок,
Которому двенадцатый шел год.
И крошка Феня, шустрая резвунья,
Была мила; ей было только семь.
Два месяца еще прошло. Настала
Зима, – мне захотелось в зимний парк.
Ах, Гатчина, излюбленное место
Моих прогулок на норвежских лыжах,
Музей моей весны, как я однажды
Назвал тебя в одной поэме, много
Ты говоришь душе моей и сердцу!
Люблю благословенно повторять
Упругое и звучное названье.
Ах, Гатчина, какая ты теперь?
Боюсь подумать. Скройся, злободневность,
Минувшего собой не оскверняй!
И в этот раз зашел я к Тимофею
Из парка отдохнуть и посидеть;
Зашел к нему я в полдень отогреться:
Мороз трещал румяно на дворе.
Все были дома: было воскресенье,
И, как приятный для меня сюрприз,
Приехала из Петербурга Злата,
Одетая со вкусом, очень просто,
Она играла с маленькою Феней
И весело шутила. Я, любуясь,
Невольно засмотрелся на нее.
Она мгновенно взгляд мой уловила,
Слегка смутилась, волосы оправив,
И скромно села к чайному столу.
Я после чая предложил ей вместе
Со мною в парк пройтись; она охотно
Без всякого ломанья согласилась.
И, говоря вполне непринужденно,
Мы с ней прошли, так молодо смеясь.
О белый снег, холодный и пушистый,
О, старый парк, дремотный и тенистый,
О первая священная любовь!
* * *
Да, верил я тогда в предназначенье,
Во вдохновенность встреч, в любовь такую,
Которая охватывает вдруг
Всего-всего, безразумно владея
И сердцем и душой. Интуитивно
Я понял вдруг, что Злата неспроста
Мне встретилась, а послана судьбою.
И к девушке присматриваться зорче
Я стал тогда, и вот что я заметил:
Под кажущимся внешним оживленьем
Таилась в ней какая-то печальность,
Какая-то неясная мне боль.
Я подошел к ней осторожно,
И, тронутая ласковым участьем,
Мне девушка доверчиво открылась.
* * *
«Я вижу, человек вы благородный, —
Так начала свое повествованье, —
И с вами познакомиться отрадно,
Поверьте, было мне, но не сердитесь,
Таится в этом маленькое „но“:
Раз вы хороший, добрый, честный, чистый —
А в этом я хочу не сомневаться, —
Как вы могли, как только вы решились
С моим отцом поддерживать знакомство?
Вы юноша еще, почти ребенок,
И всячески вам надо опасаться
Дурных влияний, и людей порочных,
Испорченных, стараться избегать.
А мой отец (Господь, прости мне эти
Для дочери опасные слова!)
Пропойца, негодяй, он нехороший,
Нечестный человек. Вы пьете с ним.
При том, мне кажется, гораздо больше,
Чем следует; не глупо ль прозвучало,
Что следует пить водку, эту мерзость,
Губящую как тело, так и дух?
Я – враг ее: она мне причинила
Так много горя; матери моей
Ускорила кончину, потому что
Отец мой, вечно пьяный, поведеньем
Бессовестным ее в могилу свел.
Я – враг ее, а раз отец – пропойца,
Естественно, что и ему я враг.
И если вы действительно хотите
Мне другом быть, не пейте больше, милый,
И не ходите в этот дом проклятый,
Где нераздельно властвует вино».
* * *
Мы долго в этот вечер говорили
И с каждой фразой думами сближались,
Бродя сначала зимним Приоратом,
А под вечер по улицам-аллеям,
Залитым электрическим сияньем
И занесенным белым покрывалом.
Снег сыпался, и, в отблесках фонарных,
Любовь в глазах у Златы расцветала;
В своих глазах любви не мог я видеть,
Но девушкины очи говорили
Так ясно мне, что и в моих глазах
Заметили они расцвет любовный.
Я этого не чувствовать не мог.
С последним поездом мы возвратились
В столицу, я отвез ее до дома
И, слово взяв встречаться и по почте
Беседовать, отправился к себе.
* * *
В те годы я бывал ежевечерне
В театрах, преимущественно в Зале
Консерватории, где Церетели
Держал большую оперную труппу.
Я музыку боготворю не меньше
Поэзии, и удивляться надо ль,
Что посещенье оперы являлось
Потребностью моей необходимой.
В сезон поста великого, у Гвиды
Я слушал итальянцев с упоеньем.
По воскресеньям даже дважды в день я
Ходил в театр: и вечером, и утром.
Нечасто исполняемые пьесы
Давались там: «Германия» Франкетти,
«Заза» Леонковалло, «Андриена
Де Лекуврэр» синьора Чилеа,
Там удалось прослушать «Джиоконду»,
Чтоб временно увлечься Понкиелли,
Где так неподражаем Титто Руффо…
Да, имена там были звездоносны:
Певала там и Лидия Берленди,
И Баронат, и Гай с Пеллингиони,
И Арнольдсон с Ансельми, Баттистини,
И Собинов, и Фигнер, и Клементьев.
Липковская там делала карьеру,
И Монска промелькнула метеором,
И упояла нас колоратурой
В «Титании» кудесница Ван-Брандт.
Она была великою малюткой,
И это имя – целая эпоха
В моих переживаниях музыкальных.
И Мравина Евгенья Константинна,
Моя сестра троюродная, Сказка,
Снегурочка и Жаворонок Вешний,
В тот год дала прощальный свой концерт,
Заканчивая деятельность грустно,
С печатью смерти, со следами прежней,
Блистательной когда-то красоты.
Со мной в театр ходить любила Злата,
И юная старушка «Травиата»
Сближала нас немало, слава ей!
И как бы «Травиату» ни бранили
За ветхость, примитивность и слащавость,
Не поддаваться чарам этих звуков
Не в силах я и «слабостью» горжусь:
Любя ее до дней своих последних,
Я этим самым верен милой Злате,
И, отдавая должное Пуччини
И Дебюсси, я Верди не отверг.
* * *
По вечерам, когда она кончала
Работу в мастерской, я приходил к ней
И дожидал у лестницы. Она
Спускалась вниз. Я целовал ей руки,
Заглядывал в глаза и, повторяя
В восторге имя, сладостное слуху,
И плакал, и смеялся, как дитя…
О, как она была нежна со мною,
Моя подруга, золотая Злата!
Как глубоко и солнечно любила,
Во всем меня оправдывая вечно!
Мы с нею шли по улицам бесцельно,
Но и бесцельный путь был полон цели:
Он вел к вершинам чувства молодого,
И в этом крылась благостная цель.
Так мы встречались часто, но и писем
Немало посылали мы друг другу,
И, если же собрать теперь, поэма
Моя, пожалуй, станет бесконечной,
И не ее ли письма неземные,
Земной рукой написанные, дали
Тебе, о Русь, жемчужную поэзу:
«Не может быть! вы лжете мне, мечты!»
* * *
Я беден был. Я жил на средства дяди.
Он маме ежемесячные суммы
До дня, когда мне счастье улыбнулось,
Переводил корректно-аккуратно,
Но переводы были так мизерны,
А жизнь в столице не была дешевой.
Сестра, имея дом свой, нам квартиру
Давала gratis и немного денег.
Я беден был, но поступать на службу
Упорно избегал: дух канцелярий
Был для меня, свободного, противен.
И чувствовать начальство над собою
Казалось мне позорным униженьем,
Но мамочка всегда со мной делилась
Последним и, отказывая часто
Себе в необходимом, доставляла
Возможность посещать театр и книги
Приобретать. Мне было лет 16,
Когда приехал к маме я с Квантуна,
Где в Порте Дальнем больше полугода
С больным отцом провел. Он после в Ялту,
Один уехал, и весной четвертой
Столетья нового, во время русско —
Японской бойни, умер от нефрита.
Замечу между прочим, что в реальном
Еще учась, стал собирать я книги.
В два года, проведенных в Петербурге,
Мне удалось, томов в пятьсот, любовно
Составить библиотеку, где были
Все классики и много иностранных
Фантастов с Мариэттом во главе.
Я к фантастической литературе
Питал с младенчества большую склонность:
За благородство бедных краснокожих,
За чистоту отважных амазонок,
За красоту тропической природы,
За увлекательный всегда сюжет.
Густав Эмар, Майн Рид, Жюль Верн и Купер,
Андре Лори, Люи де Буссенар
И Памбертон… не вам ли я обязан
Живою фабулой своих стихов?
Но Эдгар По, Джек Лондон с Конан Дойлем
Меня не увлекали никогда.
Из мистиков любил я Метерлинка
И в Лохвицкой улавливал его
Налет. Из скандинавов Генрик Ибсен
Едва ль не первый эго-футурист.
Оскар Уайльд и Бернард Шоу явно
Влиянье оказали на меня.
Из классиков Тургенев с Гончаровым
Излюблены мной были: русских женщин
Они познали сущность. Мопассан
Гуманность воспитал во мне, и Пушкин
Мой дух всегда заботливо яснил.
Благодаря хожденьям постоянным
По операм и к музыке влеченье
Мои стихи исполнены мелодий.
* * *
Я беден был – душа была богата.
Я счастлив был: меня любила Злата,
Но с ней разлука мучила меня,
И то, что приходилось ей работать,
Чтоб жить самой и помогать сестричкам,
Меня терзало непрестанно. Мне
Хотелось жить с-ней вместе, но на это
Изрядно много денег было нужно:
К себе же взять в квартиру не решался,
Боясь ее подвергнуть оскорбленьям
Не матери, конечно, нет – она
Меня любила слишком беззаветно,
Да и воспитана была прекрасно.
Боялся я другого: муж сестры
И экономка, – их квартира выше
Над нашей этажом, – могли принудить
Мою сестру лишить квартиры маму
За потаканье всем моим причудам.
Да и сама бы Злата, я уверен,
От этого проекта отказалась.
Она была горда, самолюбива,
И «сесть на шею», выразясь вульгарно,
К моей старушке-матери, понятно,
Ее натура ей бы воспретила.
Жениться же на ней, сказать по правде,
Мне было дико и смешно немного
Не оттого, что я боялся шага
Подобного, и просто оттого лишь,
Что не имел в виду работы вскоре,
Не знал, какие ждут меня успехи.
В литературе жил подобно птичке —
Ну, кратко говоря, я был поэт!
Моя сестра единственная Зоя,
От брака мамы первого, любила
Искусство во всех отраслях, имела
Абонемент в Мариинском театре,
А Фофанов и Лохвицкая были
Всегда ее настольными томами.
И под ее внимательною лаской
В версификации я упражнялся.
Она внимала очень благосклонно
Моим довольно смелым упражненьям
И всячески их нежно поощряла.
Моя сестра единственная Зоя
Имела мужа, чуждого духовно,
Поручика саперного в отставке,
В которого в семнадцать лет влюбилась
Неопытною девушкой, – но после,
Я думаю, но я не утверждаю, —
К избраннику немного охладела,
Поближе разглядев его никчемность.
Но никогда не показала виду,
Что может быть несчастной, беззаветно
Всю отдала себя на счастье мужу.
Была высоконравственной при этом,
И никогда никто не мог услышать
От Зоечки ни жалобы, ни слова
Неудовольствия своею жизнью:
Она была весьма самолюбива
И гордо замкнута. Моя сестра
Имела дом вблизи Морской и дачу
Под Обоянью, но богатой вовсе
Ее я не решился бы назвать.
Да, мне добра она всегда желала,
Но, будучи воспитана иначе,
Чем я, условностям дань отдавая,
Не все во мне оправдывала: то уж,
Что я слонялся целый день без дела
И попадал под скверные влиянья
Людей, подчас совсем иного круга,
Стал попивать нередко, не имея
Ни денег, ни занятий, было ей
Довольно неприятно, и могу ли
За это осудить мою сестру?
Не в этом дело все-таки, и ближе
Я буду к цели, если я замечу,
Что Клавдия Романовна, сначала
В дни Зоиного детства, гувернантка,
А после брака – в доме экономка,
Игравшая большую роль в семье,
Совместно с мужем сестриным старались,
Протестности моей мне не прощая
И недолюбливая за насмешки
Над ними, нас поссорить, чтобы Зоя
Поставила мне строгий ультиматум,
Как старшая, замужняя сестра:
Принять как-либо место, благо много
Протекции имелось, иль учиться,
Чтобы экстерном выдержать экзамен
И получить, как паспорт мэра, ценз.
При этом мне советовалось – вовсе
Знакомства прекратить с родными Златы,
И даже, правда, очень деликатно,
Сквозил намек, что мне она «не пара»
И ничего хорошего не выйдет
Из нашей с нею дружбы и любви.
О, я не внял ничьим, ничьим советам
И продолжал по-прежнему знакомство
С тем, с кем хотел, на поле развивая
Большой и независимый талант.
И в этом направленьи, как и прежде,
Меня всегда любовно поощряла
Моя сестра единственная Зоя.
* * *
Я беден был, и чем я был беднее,
Тем больше мне хотелось жить, и я
Решил во имя торжества весенней
Любви, большую жертву принести.
Послушайте, не смейтесь, для поэта
И юноши пятьсот переплетенных
В сафьян и коленкор томов, любимых
Писателей, продать – не жертва ль это?
Лишиться их в один несчастный день,
Не с детства чуть ли книги собирая,
Еженедельно с них стряхая пыль,
Не жертва разве? Как для вас – не знаю,
Но для меня был труден этот шаг.
И вот из Александровского рынка
Позвать велел я Марье букиниста,
И библиотеку, тоскуя, продал
За… семьдесят рублей! На эти деньги
Я нанял Злате комнату поближе
К себе и стал с утра к ней ежедневно
Ходить и с нею проводить все дни.
* * *
О, в пятом этаже на Офицерской
Вблизи Казанской части уголок!
Пою тебя восторженно и звонко,
И вдохновенно светятся глаза!
Что книги мне! Ах, что мне все на свете!
Я приобрел подругу целиком!
Она мне в этой комнате убогой
Впервые отдалась, такое счастье
Мне подарив, какому больше в жизни
Уж повториться не было дано!
Такое счастье, что и мне, поэту,
Волхву кудесных слов и выражений,
Словами невозможно передать!
Такое счастье сильное, большое,
Живое, неповторное такое,
Что даже страшно, как могу на свете
Еще я жить, то счастье потеряв!
Такое счастье, истинное счастье,
Которое спустя шестнадцать весен
И разлюбив с тех пор полсотни женщин,
Испытываю всей своей душой!
Такое счастье ярко-золотое,
Что и теперь его припоминая,
Я жмурить принужден глаза мечты,
Иначе сердце может разорваться.
Иначе я с ума сойду – такое,
Такое счастье мне дала она!
* * *
Все это продолжалось три недели,
И деньги были прожиты. Достать их
Старался тщетно: неоткуда было.
Чего не передумал в это время,
Выискивая способы! Подруга
Решительно противилась, жалея
Меня всем сердцем, и нашла работу,
На все мои мольбы не обращая
Вниманья, у придворной генеральши.
Я до пяти часов ее не видел
И приходил к моменту возвращенья
Ее с работы. Было очень больно,
Что ей помочь ничем не мог. Да, Злата
В иных условьях сделала бы имя
На поприще каком-нибудь другом.
Она была способной, развитою,
Недюжинною девушкой. Тем хуже,
Что был я так преступно легкомыслен.
* * *
К концу Поста приехал из именья
В столицу дядя Миша по делам.
Он пригласил меня к себе поехать
Встречать совместно Пасху. Вся семья,
За исключеньем дочери замужней,
Моей кузины Лили, собралась
В усадьбе. Я любил край новгородский,
Где отрочество все мое прошло.
Я с радостью поехать согласился,
Но больно было мне расстаться с Златой
На две недели. Ехать вместе с нею
Увы, не мог, условности мешали:
Она была любовницей моею,
А не женой. В семье же дяди строго
К безбрачью относились. Я в смущеньи
Довольно долго колебался. Видя
Мое желанье ехать, деликатно
Она пошла навстречу мне, здоровье
Мое найдя расшатанным немного
И деревенский воздух мне полезным.
* * *
Мы были к утру на лазурной Суде.
От станции верстах в семи, не больше,
Именье дяди, при впаденьи Кемзы
В мою незаменимую реку.
Лиловый дом на берегу высоком,
Вокруг глухие хвойные леса.
Мои кузены – Кока и Володя —
Любили спорт в его разнообразье:
С утра мы с ними бегали на лыжах,
Спускаясь к рекам с берега крутого,
Днем запрягали в санки «Сибарита»
Иль «Верочку» и мчались в Заозерье,
И вместе с нами мчался темный лес.
Я вспоминал свою любовь былую,
Любовь души двенадцативесенней
К другой душе пятью годами старше, —
Я вспоминал любовь к кузине Лиле,
Смотря на эти милые когда-то
По детским впечатлениям места.
Не странно ли, они не волновали
Меня, как раньше: полон был я Златой
Физически, духовно – целиком,
Она прислала мне письмо, в котором,
Благословляя нежно-матерински,
Писала, что заказчица на лето
Решила ехать в Гатчину, где дачу
Уже нашла себе, что, понимая
Мою любовь к природе, Злата тоже
Поедет с нею, но не будет вместе
На даче жить, а комнату подыщет,
Чтоб навещать ее мне было лучше.
«А ты, – она писала, – с мамой в Пудость
На лето наезжай, там есть форели,
И лодка, и река, и все, что надо
Тебе иметь, да и ко мне поближе
От Гатчины – четвертая верста».
Как раз кончались праздники, и вскоре
Я возвратился в строгий Петербург.
Идет весна в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой.
И ландышей невидимые струйки
Бубенчиками в воздухе звучат.
Она, смеясь, мои щекочет нервы,
Кокетничает мило и остро,
Вплетает в грезы нежно пасторали
Весенней сельней прелести полям,
Цветет лугами, птичками щебечет,
Она – полувиденье, полуявь…
Я к ней спешу и золотою Златой
Вдруг делается юная весна,
Идущая в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой.
* * *
На следующий день по возвращеньи
Я за город пошел из Петербурга
С утра пешком, здесь были две причины:
Во-первых, доказать хотел я Злате
Свою любовь, которой не опасна
Ни удаль сорокатрехверстной пыльной
Экскурсии по шпалам, ни затрата
Энергии, чтоб с нею повидаться;
А во-вторых, подчеркивал я этим
Торжественность и трогательность встречи,
Как бы уподобляясь пилигриму,
Спешащему благоговейно в Мекку.
Я шел Балтийской линией. Мой отдых
Был в Дудергьере, сладостно-картинном,
У озера, похожего на лужу.
Потом я шел на Тайцы, встретил Пудость
Впервые на пути своем, где речка
Ижорка малахитовой водой
Своей меня совсем зачаровала
И где я мимоходом нанял дачу.
Я к девяти был в Гатчине у Златы,
Которая от радости свиданья
Нежданного, узнав еще вдобавок,
Что я пришел пешком к своей любимой,
Сначала как-то вся оцепенела
На миг, затем с рыданьями на шею
Мне бросилась, лицо мое целуя
И хохоча сквозь слезы, от восторга.
Как ласково она меня кормила!
Как радостно она меня встречала!
Любовно на руках своих качала…
Я голову склонил к ней на колени.
Она меня баюкала и, близко
Склонясь, в глаза мучительно смотрела:
«О неужели можем мы расстаться
Когда-нибудь?» – она шептала тихо.
И я, сражен недопустимой мыслью,
Отчетливо сказал: «Не бойся, Злата,
Пока я жив, всегда с тобой я буду».
О горе мне: я клятвы не сдержал!
* * *
Я приезжал к ней часто. Переехав
На дачу вскоре, чуть не ежедневно
С ней виделся. Так ярко сохранилось
Одно в блестящей памяти свиданье,
Единственное в некотором роде.
Однажды, нагулявшись вдоволь в парке,
Мы с ней пошли к Варшавскому вокзалу
Она меня на поезд провожала
Последний, шедший ночью в Петербург
Была пора истомная июнья,
Цвела сирень, певучая чарунья,
И, в станционном садике гуляя,
Мы сели на скамейку над прудом.
Сплошной стеной цветущей и душистой
Заботливо кусты сирени влажной
От публики нас отделяли. Злата!
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Лобзаньям нашим счет велся ли в небе?
Что ж нам теперь его не предъявляют?
В уплату жизнь пришлось отдать бы! Злата!
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Любовью и сиренью упоенье,
Угар и бред, и снова поцелуи,
И полугрусть, и радость, и тревогу,
И иступленность ласк… О Злата, Злата!
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Соединив в лобзаньи наши лица
В душистую сиреневую влагу
Бросали опьяненные… О Злата!
Ты помнишь ли, ты помнишь ли ту ночь?
Ты не могла забыть ее, я знаю
И каждый год тебя благословляю,
Предчувствуя грядущую сирень!
* * *
На дачу переехав, первым делом
Я начал строить небольшую лодку
По собственному плану. Наш хозяин
Крестьянин Александр Степаныч, плотник
Был превосходный. Через две недели
Она была совсем уже готова.
С каютой парусиновой и с носом,
Остро и резко срезанным, похожа
Была своей конструкцией на крейсер.
Я дал названье ей – «Принцесса Греза».
Она предназначалась мной для наших
Прогулок по Ижорке. Так для Златы
Был приготовлен маленький сюрприз.
Мне флаг она впоследствии в подарок
Андреевский, морской, своей работы,
Преподнесла, и я его хранил
До своего отъезда из России.
* * *
Белеет ночь изысканно больная,
Мистическая, призрачная ночь.
Вздыхает Май, невидимый для глаза,
И отдыхает, лежа перед дальним
Путем на юг до будущей весны.
Июль во всем: и в шепоте дремотном
Зеленых струй форелевой реки,
И в золотисто-желтых ненюфарах,
И в еле уловимых тайных чарах
Пьянительного воздуха ночного,
И в поволоке ненаглядных глаз.
Она поет вполголоса, склоняя
Свое лицо к волне, то сразу резко
Ко мне свои протягивает руки
И прижимает к пламенной груди
Меня, в уста целуя бесконечно,
То шепчет еле слышно, с тихой грустью,
Исполнена мучительных предчувствий:
«О, неужели можем мы расстаться
Когда-нибудь?» – и горько, горько плачет
Вдали дворец нахмурен обветшалый
И парк, – из кедров, лиственниц и пихт, —
На берегу реки затих. Он грезит
Пирами императора, когда
Безумствовал державный неврастеник
В тени его приманчивых ветвей.
Как говорит преданье, Павел Первый
В болезненных неистовствах был страшен
И убивал опальных царедворцев
Во время вспышек злой неврастении.
И знает кто? Быть может, эти вопли
Нетопырей, летающих над речкой,
Невинно убиенных голоса?
Шумит, шумит падучая стремнина.
Бежит, бежит зеленая волна.
Из-под плотины с брызгами и пеной
Река кристально чистая течет.
Стремительным течением влекома,
К водовороту льнет «Принцесса Грёза».
Задержана умелою рукою,
Как перышко, отпрядывает вспять.
Прозрачно дно реки. Бесшумной стрелкой
То там, то здесь фунтовые форели
Скользят в воде, и сердце рыболова
В томленьи сладком только замирает.
Ночь белая, форели, зелень струек
И веянье невидимых жасминов,
И лирикой насыщенные речи, —
Как обаятельна на этом фоне
Неповторимая вовеки Злата!
Из Гатчины, куда к ней ежедневно
Почти ходил, ночами возвращался,
И каждый раз до самой нашей дачи
Меня моя подруга провожала.
Потом мы с нею шли на полустанок,
И в поезде, идущем на рассвете,
Она спешила прямо на работу.
Когда она спала? К моим моленьям —
Беречь себя – она была глухою.
* * *
Кончался август. На «Принцессе Грёзе»
Я быстро плыл на почту к полустанку,
И под мостом чуть было не наехал,
С разлета, на застрявшую там лодку,
В которой было трое пассажирок:
Одна из них была совсем старухой,
Была другая девочкой-подростком,
А третья дамой лет под двадцать семь.
Последняя веслом старалась тщетно
От сваи оттолкнуться. Видно было,
Что лодка их засела очень прочно,
Попав на камень, скрытый под водою.
Я к ним подъехал и по-джентельменски
Им помощь предложил свою, и дамы
Рассыпались в признательности: странным
Казалось им их положенье. Быстро
Подъехав задним ходом к ним кормою,
Я на буксир взял лодку их, и тотчас
Та с камня соскользнула. Все случилось
На протяженьи нескольких мгновений.
Средь шуток, сопряженных с катастрофой,
Я с ними познакомился, и Дина,
Сидевшая на веслах, оказалась
Любезной, интересною брюнеткой,
Кокетливой, веселой и пикантной.
В деревню мы уже вернулись вместе,
Причем их лодка о бок шла с моею.
Прощаясь, тетка Дины приглашала
Бывать у них, а Дина благодарно
Мне крепко руку сжала и глазами,
Что я понравился, красноречиво
И выразительно дала понять.
* * *
Я вечером сидел, читая в лодке,
И грезил, как всегда, о милой Злате,
Которую я в этот день не видел.
Испуганно я вздрогнул, пробужденный
От грез своих: красивое контральто
Нарушило мечты мои: «О ком вы
Мечтаете и не меня ли ждете?»
То новая моя знакомка Дина
Подъехала бесшумно в лодке и, швартуясь
У борта «Грёзы», вкрадчиво спросила:
«Переходите же ко мне скорее,
И поплывем куда-нибудь подальше:
Я вас сведу на остров отдаленный,
На остров голубой и доброй Феи».
По правде говоря, я растерялся
От неожиданного появленья
Ее у нашей пристани, и прыгнул,
Почти не рассуждая, к ней. Плутовка,
Довольная моим повиновеньем,
Лукаво улыбаясь, протянула
Капризным жестом руку, и поплыли
Мы по реке на отдаленный остров.
* * *
Не добрая и голубая фея
Владела этим островом, а злая
Коварная, дурманящая разум.
И было имя этой феи – Бред.
И мы подпали под ее влиянье.
Мы покорялись всем ее причудам,
Безвольными игрушками мы стали
Бесчисленных эксцессов развращенной.
Жестоко-похотливой феи Бред.
Я был в бреду: мне диким не казалось,
Что женщина, душе моей чужая,
Меня целует судорожно в губы,
Принадлежащие совсем другой.
И с широко раскрытыми глазами,
В которых пышет явное безумье,
Мне говорит: «Хочу тебя! Ты – мой!»
В тот миг мне это диким не казалось
И не могло казаться: в опьяненьи
Разгулом звучно-чувственных эксцессов,
Я потерял способность рассужденья.
Будь проклят остров чувственной колдуньи
И ты, мне адом посланная встреча,
И обольстительная фея Бред!
Из-за тебя я потерял невинность
Своей души, незыблемую верность
Одной, одной! Я спутницу утратил
Незаменимую родную Злату.
* * *
То был сигнал к грехопаденьям сладким.
Так начался мучительный роман.
Я был в бреду, но в проблесках сознанья,
Рыдал, в ожесточеньи проклиная
Себя за слабость, каялся, и Злате,
В пречистое лицо смотреть не смея,
Готов убить был ветреную Дину.
Однако, только слышал шелест платья,
Соблазнами насыщенного, только
Глаза ее, искавшие моих,
Прищуривались наглым обещаньем
Невероятно-извращенных ласк,
Я забывал про все, и к ней в объятья
Бросался, как в кипучий водопад.
Я круто прекратил бывать у Златы,
Не отвечал на письма, сильно запил,
Страдая, упивался новой страстью.
Совсем запутался в противочувствах.
И вскоре переехал с дачи в город,
Где с Диною всю осень провозился,
Когда она, найдя в кафе-шантане
Ангажемент, уехала в Архангельск.
А в октябре пришла ко мне внезапно,
С трудом в себе побарывая гордость,
Проститься – мной утерянная Злата.
«Родной мой, я пришла к тебе проститься,
Не говори, избавь от объяснений.
Не надо их: мне слишком больно, милый.
Ты прав всегда, неправым быть не можешь.
Не надо оправданий, чтобы ложью
Не осквернял ты уст своих правдивых.
Прости меня за дерзость: я не это
Сказать хотела: лгать ты не умеешь.
Ты прав всегда, и ты всегда мне дорог.,
Ты честный, чудный, чистый, справедливый.
Во всем виновна только я: я грубо
Нарушила, родной, твое доверье:
Тебе я изменила пятикратно.
Прости меня, молю, тебе я больно
Своим признаньем делаю, любимый.
Но я такая грязная. Мне дурно.
Дай мне воды, пожалуйста. Спасибо.
Я гадкая, я скверная. Не стою
Тебя совсем. Родной мой, я проститься
К тебе пришла сказать, что неизменно
И несмотря на все свои паденья,
Люблю тебя. Благословенье Божье
Да будет над тобой. Прости от сердца
Меня, и я уйду с твоей дороги».
* * *
Какую боль она мне причинила
Своими сердце рвущими словами!
Как я ее на миг возненавидел
И, проклиная, в ослепленьи гнева
Занес над нею руку, чтоб ударить
В лицо красивое и дорогое
Но я сдержался и, в изнеможеньи
Заплакав горько, жалобно, по-детски,
Упав к ее ногам, молил вернуться
И восклицал: «Неправда! О, неправда!
Ты на себя клевещешь! Невиновна
Ты в возведенных на себя поступках.
Скажи мне, успокой, что ты все та же
Моя непогрешимая, святая…
Вернись ко мне…» Но скорбно головою
Склоненная, она сказала: «Нет,
Я не вернусь, я не могу вернуться:
Я – падшая!..» – и, не окончив фразы,
В рыданьях содрогнулась над столом.
Я восклицал: «Не верю! Быть не может!
Ты – чище чистоты самой. Но если —
Хотя я этого не допускаю —
И изменяла мне, о, неужели,
Любя тебя, я не найду прощенья
И оправданья в сердце, жившем только
Тобой одной, тем более, что сам я
Действительно преступен пред тобою?!»
Я Злате рассказал о встречах с Диной
В подробностях во всех чистосердечно,
Молил ее, – была неумолимой.
И, о любви своей твердя упорно,
Меня благословив, простив и плача,
Она ушла – и погрузилась ночь.
О Боже! Упокой в раю лазурном
Классическое счастье, что убито
Разнузданными чувствами моими.
И легкомыслие мое, и юность,
И слабость пред соблазном оправдай.
О Боже! Упокой в раю лазурном
До твоего пришествия второго
Все наши речи нежные, все мысли,
Друг другу предназначенные, радость
Свиданий вешних, ночи съединений
И душ, и тел по Твоему завету.
Любви же нашей Ты, о милосердный,
Великий Бог, свершивший чудо встречи
Двух половин единственной души,
Дай вечно жить и сотвори ей память
На веки вековечные. Аминь.






