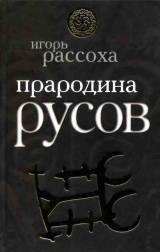
Текст книги "Прародина Русов"
Автор книги: Игорь Рассоха
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
5.2. Спорные археологические вопросы
1. Доместикация лошади имеет самое прямое отношение к индоевропейской прародине. Вроде бы данный тезис логично объединяет данные археологии и лингвистики. Однако есть авторы, которые с ним спорят. Так, И. М. Дьяконов писал: «Общеиндоевропейский термин для «лошади» показывает только, что лошадь была известна (в чем никто не сомневается), но это не доказательство одомашнивания лошади еще в IV тыс. до н. э.» [47, с. 15]. Правильно, это еще не доказательство. Доказательства найдены в ходе раскопок украинских археологов.
В. А. Сафронов писал так: «Доместикация лошади, во-первых, не имеет прямого отношения к и.-е. прародине; во-вторых, восточноевропейский центр доместикации в днепро-донецких степях, по мнению ряда исследователей, возник почти одновременно и независимо от центральноевропейского центра доместикации (Некель, 1944)» [34, с. 17]. Что касается «центральноевропейского центра», то здесь умиляют две вещи. Во-первых, это формулировка « почти одновременно». «Почти» – это, кажется, значит «не совсем»? Вероятно, «несколько позже»? Во-вторых, по-настоящему трогает ссылка на некую работу 1944 года, т. е. в разгар Второй мировой войны. Но ведь тогда среднестоговская археологическая культура вообще еще не была изучена. По сути, ее открыл и обосновал Д. Я. Телегин в своей монографии, изданной в 1973 году. Так и при чем тут «(Некель, 1944)»?
А вообще-то нам представляется, что если довольно объемистая книга В. А. Сафронова называется «Индоевропейские прародины», то в ней стоило бы хоть как-нибудь обосновать мысль о том, что «доместикация лошади, во-первых, не имеет прямого отношения к и.-е. прародине». Но в защиту этого своего, мягко говоря, спорного тезиса В. А. Сафронов не привел ни единого слова. Характерно, что и И. М. Дьяконов, и В. А. Сафронов являются сторонниками «балканской» концепции прародины индоевропейцев (включая Трипольскую культуру и т. д.). Их позиция связана просто с тем, что их концепции катастрофически не хватает доказательств. Вот и все.
Пожалуй, здесь стоит привести пример полемики И. М. Дьяконова со сторонниками «малоазиатской» концепции Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым: «При личном обсуждении моих критических замечаний Вяч. Вс. Иванов ответил мне, что против возможности локализации индоевропейской прародины на Балканах говорят между прочим следующие обстоятельства: 1) отсутствие на Балканах и в Подунавье древней индоевропейской гидронимики и топонимики; 2) наличие во всех балканских языках неиндоевропейского языкового субстрата; 3) внезапная гибель высокоразвитой, основанной на металлургии предгородской цивилизации Балкан в IV тыс. до н. э. …Ответим на эти три возражения.
1. Не кто иной, как сами Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, цитируя индоевропейские гидронимы древней Малой Азии, приводят почти для всех них балканские параллели (иллирийские, фракийские, дакийские и т. д.) [Иначе говоря, в Малой Азии, как и на Балканах, древнейшие индоевропейские гидронимы вообще отсутствуют, а есть только «иллирийские, фракийские, дакийские и т. д.» – И.Р.].
2. Неиндоевропейский языковой субстрат (или адстрат) достаточно обильно представлен и в хетто-лувийских языках Малой Азии. (…)
3. Конечно, очень трудно точно объяснить причины гибели культур, существовавших задолго до появления письменности. Все же отметим, что а) такая же внезапная гибель постигла и предгородскую цивилизацию Малой Азии в VI–V тыс. до н. э.; б) (…) ранние цивилизации вообще были неустойчивы по экономическим причинам» [47, с. 12].
Забавно, что все контраргументы И. М. Дьяконова построены по принципу «от такого и слышу». Иначе говоря, и в Малой Азии, и на Балканах: 1) отсутствовала древнейшая индоевропейской гидронимика и топонимика; 2) имелся неиндоевропейский языковый субстрат; 3) внезапно погибла в IV тыс. до н. э. высокоразвитая, основанная на металлургии предгородская цивилизация. В этой взаимной критике, разумеется, правы оба исследователя: ни Балканы, ни Малая Азия не могли быть прародиной индоевропейцев.
В заключение приведем мнение крупнейшего российского специалиста по остеологическому материалу раскопок В. И. Цалкина: «Характерно крайне ограниченное количество костей лошадей в поселениях майкопской культуры, хотя обширные пространства Предкавказья, как и Украины, судя по сведениям, сообщаемым литературными источниками, были областью распространения тарпана. Факты относительной немногочисленности, единичности находок костей лошадей в неолитических и энеолитических поселениях Румынии и Венгрии также весьма показательны в этом отношении (…) Природные условия этих стран не менее благоприятны, чем южнорусские степи» [64, с. 201, 196].
Итак, природные условия на территории Венгрии, Румынии (т. е. на севере Балканского полуострова) и Предкавказья были не менее благоприятны для обитания тарпана, чем территория Украины. Однако находки там лошадиных костей эпохи энеолита (о которой идет речь) весьма немногочисленны. В отличие от энеолитических памятников на территории Восточной Украины, где они, как уже указывалось, часто составляют большинство костных находок.
Из этого следует важный вывод: ни Балканы, ни степи между Доном и Волгой не могли быть родиной коневодства. Это значит, в частности, что степи между Доном, Волгой и Кавказом не могли быть прародиной индоевропейцев. Речь идет о том районе, который только и следует именовать «южнорусскими степями», в отличие от южноукраинских степей. Прародина индоевропейцев не была расположена в южнорусских степях. Возможное исключение составляет лишь район Нижнего Дона, входивший, по мнению Д. Я. Телегина, в ареал среднестоговской культуры.
Еще раз повторим: Малая Азия, Балканы и Иранское нагорье не могли быть прародиной индоевропейцев, поскольку это резко противоречит всей совокупности данных археологии, топонимики и лингвистической реконструкции.
Южнорусские степи между Доном и Волгой (и Центральная Европа) не могли быть прародиной индоевропейцев как минимум потому, что они не были родиной коневодства.
К тому же в отношении районов между Доном и Волгой сохраняет всю свою негативную силу « аргумент бука »: «К северо-востоку от Причерноморья бук отсутствует на всем протяжении послеледникового периода» [1, с. 623].
Речь может идти только о ранней фазе среднестоговской культуры на территории Украины.
2. Среднестоговская культура датируется V – первой половиной IVтысячелетий до н. э. «Новейшие дендро-хронологические измерения возраста сосны остистой ( pinus aristatä) удревнили используемые археологами унифицированные радиокарбонные даты середины III тысячелетия до н. э. примерно на 500 лет, а IV и V тысячелетий до н. э. – на 800 лет, что необходимо учитывать при оценке реального возраста исследуемого объекта или отдельной культуры» [65, с. 174]. Однако советские и постсоветские археологи упорно продолжают пользоваться некалиброванными датами, в лучшем случае допуская некий «плюрализм»: «Среднестоговская культура, таким образом, развивалась, видимо, около 800 лет: от начала второй половины IV до конца первой четверти III тыс. до н. э. В целом среднестоговская культура предшествует ямной (Михайловка II, Александрия II) и Майкопу, но возможно, что наиболее ранние памятники этих культур сосуществуют с позднейшими этапами исследуемой культуры. Существует и другая точка зрения по вопросу абсолютного возраста среднестоговской культуры. М. Гимбутас, ссылаясь на калиброванные даты, полученные методом С-14 по костям из Дереивки, относит всю культуру ко второй половине V – первой половине IV тыс. до н. э., т. е. удревняет ее на тысячу лет» [66, с. 309–310]. Известный болгарский археолог X. Тодорова также относит существование среднестоговской культуры к V тыс. до н. э. [67, с. 223]. Нам представляется, что в данном случае плюрализм неуместен и нужно придерживаться международной практики калиброванных радиоуглеродных дат.
И вот наконец-то в 2005 году вышел учебник для вузов «Археолопя Украши» под редакцией Л. Л. Зализняка, в котором «обращает на себя внимание периодизация эпохи энеолита-бронзы с применением калиброванных радиоуглеродных дат, что удревняет энеолит Украины почти на 1000 лет аж до конца VI тыс. до н. э.» [245]. Ну, слава богу…
С калиброванной датировкой среднестоговской культуры полностью коррелирует и датировка существования индоевропейской этнической общности: «В последнее время удалось достичь относительного единства взглядов на хронологические границы общеиндоевропейского периода, который относится к V–IV тыс. до н. э. IV тысячелетие (или, как считают некоторые, рубеж IV и III тыс.) было, вероятно, временем начала расхождения отдельных индоевропейских диалектных групп» [68, с. 100].
3. Носители среднестоговской культуры не были степняками : они вели комплексный земледельческо-скотоводческо-рыболовческий образ жизни и обитали в лесостепи в эпоху, когда климат был намного влажнее современного и на востоке Украины росли буковые леса: «Находки роговых мотыг, зернотерок, терочников, пестов, каменных дисков свидетельствуют о занятии населения среднестоговской культуры земледелием. При собирании злаков могли использоваться составные серпы с кремневыми вкладышами» [2, с. 139]. Вообще население среднестоговской культуры вело оседлый образ жизни, иначе на их поселениях не встречались бы кости домашней свиньи [2, с. 132–133]. Постепенный переход к более подвижному скотоводческому образу жизни совершался в условиях ухудшения климата в IV–III тыс. до н. э., в основном уже среди носителей древнеямной культуры. Но в это время индоевропейская общность уже распалась. А в эпоху же индоевропейского единства экологические условия на территории среднестоговской культуры, повторимся, были подобны современному климату Западной Украины.
Вообще если исходить только из археологических данных, то роль скотоводства очень легко переоценить: «Учитывая особенности сохранности археологических остатков… трудно судить о соотношении различных видов хозяйства. Об этом свидетельствуют интересные этнографические исследования, проведенные недавно в пустыне Калахари. Там встречались группы бушменов, уже начавшие заниматься земледелием и скотоводством, но продолжавшие получать основную часть рациона сбором диких растений. Растительная пища играла у них главную роль (60–80 %), а значение охоты резко упало. Если учесть, что растительные остатки здесь сохранялись плохо, а 70–80 % найденных костей происходили от домашних животных, то, опираясь на одни только археологические данные, можно было бы сделать ошибочный вывод о принадлежности соответствующих стоянок скотоводам» [149, с. 371].
5.3. Происхождение среднестоговской культуры
4. Среднестоговская культура сложилась на юго-востоке Украины на основе местных неолитических традиций. «Вопрос происхождения среднестоговской культуры изучен недостаточно. Судя по характеру керамики, костяного инвентаря, можно предположить, что в сложении ее главную роль сыграли местные неолитические племена Днепро-Донского междуречья, в первую очередь сурской культуры и неолита Нижнего Подонья, а также в некоторой степени заметно влияние соседних днепро-донецких племен, носителей культуры нижнемихайловского типа, раннего энеолита Крыма и Северного Кавказа. Надо полагать, что сложилась она в междуречье Днепра и Дона. По крайней мере, нет никаких оснований говорить о ее пришлом характере» [66, с. 310]. Из этого опять-таки следует, что степи Южной России между Доном и Волгой не могли быть прародиной индоевропейцев.
«Исходя из промежуточного положения наиболее важных показателей, характеризующих черепа среднестоговской культуры, антропологический тип носителей этой культуры сложился в процессе взаимной ассимиляции наследников местного мезолита, в частности типа Волошского могильника, и неолитического населения (Васильевка II, Поднепровье и Левобережная Украина). Краниологический тип черепа носителей среднестоговской культуры в целом сохраняется и в древнеямное время» [2, с. 117].
В. Н. Даниленко особо отмечал, что в Приазовье, которое, вероятно, входило в зону формирования среднестоговской культуры, исключительно рано началось разведение крупного рогатого скота, еще в докерамическую эпоху, примерно 10 тыс. лет назад [59, с. 142]. Уже тогда существовало поселение поблизости знаменитой своими древними рисунками Каменной Могилы. Там в древнейших слоях найдены в преобладающем количестве кости крупного рогатого скота (позднее – и коз), большое количество раковин перловиц (Unio), некоторое количество рыбьих костей и костяных рыболовных крючков, а также костей коня, зубра, кабана, благородного оленя и зайца. По особенностям материальных остатков все это схоже с памятниками сурской культуры , где также зафиксировано очень раннее возникновение животноводства. Собственно, сейчас данное поселение и относят к сурской культуре [298, с. 111]. В Приазовье же найдены и остатки древнейшей на востоке Европы керамики, с большой примесью толченых ракушек [59, с. 17, 22–23, 29, 30–31]. Подобная технология изготовления керамики позднее была «фирменной» как раз для среднестоговской культуры [72, с. 87].
Сравним также: «Анализ фаунистических остатков из поселений среднестоговской культуры свидетельствует о том, что третья-четвертая часть потребностей населения удовлетворялась за счет охоты. (…) Несколько большую роль, чем охота, в жизни населения среднестоговской культуры играла рыбная ловля. Рыбу ловили удочкою на костяные крючки, а также сетями и другими приспособлениями типа верш, ятерей и т. п. (…) Мясо моллюсков унио и анадонта (перловиц и беззубок) широко использовалось в пищу, а растертые ракушки домешивались в глиняное тесто при изготовлении керамики» [2, с. 140–141].

Носители расположенной далее на запад буго-днестровской культуры также очень активно занимались рыболовством и участвовали в общем для всего Северного Причерноморья процессе одомашнивания кабана и тура [264, с. 146, 151–152].
Итак, наши предки до того, как стать скотоводами и всадниками, были прежде всего рыболовами. Это, между прочим, подтверждается и данными лингвистики. В частности, в индоевропейском языке есть слова naHŭ– «судно, лодка», p [h]eŭ– «плыть (о лодке)» и erH o-/*reH– «весло, грести (веслами)» [1, с. 674–675]. В отложениях реки Оскол на глубине 10 м найдена дубовая лодка эпохи неолита [230, с. 204]. Смущает, правда, отсутствие в общеиндоевропейской лексике названий для разных видов рыбы, кроме " лосося " и, возможно, " угря ". Однако это легко объяснить именно табуированностью названий рыбы, боязнью ее спугнуть: рыбаки и сейчас не любят, когда болтают на рыбалке. Вероятно, рыбу часто вообще называли некими эвфемизмами. Очень может быть, что таково происхождение славяно-балтского [247, с. 716] слова " сом ": в общеиндоевропейском языке частица *som– обозначала «предельность действия, направленного к цели», отсюда, например, древнеславянское sŭnemŭ " сним" [1, с. 360, 365]. Т. е. имелось в виду «быть с рыбой». Сравним: «в видовом составе ихтиофауны (среднестоговского поселения) Дереивки преобладали кости сома» [2, с. 141]. Такое преобладание часто сохранялось и впоследствии. Так, на скифском Савутинском городище на о. Хортица изо всех найденных костей рыб свыше 60 % принадлежали сому, прочие – белуге, осетру, сазану, щуке и др. [243, с. 109]. Впрочем, О. Шрадер, кажется, приводит общеиндоевропейские названия сома: немецкое Wels, прусское kalis, а также латинское squalus«крупная морская рыба» [284, с. 53].
Если внимательно прочитать словарь М. Фасмера, то можно предположить индоевропейское происхождение еще как минимум четырех названий рыб:
1) Карп , короп – словен. kàrp, польск. karp, литов. kárpa, латыш, kàrpa, древневерхненемецкое karpo, charpfo, латинское сагра (Кассиодор, VI в.), греч. κυπρινος, древне-индийское çarpharas «вид карпа»[259, с. 202, 334–335].
2) Карась – сербохорватское кàраш, кàрас, чешское karas, литовское karūšis, karõsas, немецкое Karausche, французское corassin, carassin, а также «особая рыба» – итальянское coracino от латинского coracīnus, греческое κορακίνος [259, с. 193].
3) Линь – украинское лiн, болгарское лин, сербохорватское линь, словенское lînj, чешское lin, польское lin, литовское lýnas, латышское linis, древнепрусское linis, древневерхненемецкое slîo, древне-английское slíw, а также греческое λινεος «морская рыба» [259, с. 498].
4) Осётр – украинское осетр, болгарское есетър, польское jesiotr, литовское ašėtras, древнепрусское esketres, древневерхненемецкое sturio, sturo, а также греческое ίκταρ «какая-то рыба», латинское exetra «змея», (первоначально некое «водное чудовище») [247, с. 158].
Также не исключено (хотя и менее вероятно) общеиндоевропейское происхождение еще ряда названий рыб. Например, белуга имела общеславянское название viz, viza, vyza, древневерхненемецкое hūso, латинское huso [279, с. 131–132]. Очень древние корни могут быть у слов «сельдь», «щука», «ёрш», «мень» и др. Сюда можно добавить также индоевропейские названия таких рыб, как окунь, язь, мень (налим), форель, пескарь, сиг, атерина, красноперка [343].
В. А. Шнирельман в книге «Возникновение производящего хозяйства» очень нехотя признает: «Можно предполагать, что прикарпатские рыболовы кое-где сами начали одомашнивать волков и кабанов… Содержание собак и свиней еще в доземледельческий период могло распространиться от Железных Ворот на Дунае до Днестра… Древнейшие поселки буго-днестровской культуры обнаружены в Северной Молдавии около города Сороки. Они датируются серединой VI тысячелетия до н. э. (по калиброванным датам – серединой VII тыс. до н. э. – И.Р.). …Буго-днестровское население с самого начала держало одомашненных свиней и собак, к которым позднее прибавился крупный рогатый скот» [149, с. 175–176]. Но он вообще отказался рассматривать вопрос о происхождении этого крупного рогатого скота, который, согласно В. М. Даниленко, был одомашнен в Приазовье еще в эпоху мезолита (который тот именовал «протонеолитом»): «На юге Украины культуры с зачатками производящего хозяйства известны также в низовьях Днепра (сурско-днепровская), в Приазовье (Каменная Могила), в Крыму (степной и горный неолит), однако они еще плохо изучены » [149, с. 177]. О коровах – ни слова!
В то же время этот же автор пишет: «Таким образом, можно уверенно судить о том, что в центральных районах Новой Гвинеи земледелие и свиноводство возникли на протяжении VII–VI тыс. до н. э. …еще до появления австронезийцев в Океании» [149, с. 144–145]. Итак, согласно В. А. Шнирельману, Украина археологически плохо изучена, в то время как Папуа Новая Гвинея изучена замечательно, и о наличии там самостоятельного центра возникновения производящего хозяйства «можно уверенно судить»…
Но мы все же рискнем уверенно судить о том, что на юго-востоке Украины (включая Крым) и на севере Балканского полуострова еще в мезолите возникли два самостоятельных очага неолитической революции (возникновения скотоводства) и что с древнейшим центром доместикации крупного рогатого скота на юго-востоке Украины связано первоначальное сложение праиндоевропейской этнической общности.
В то же время, вероятно, правы И. Б. Васильев и А. П. Синюк, когда настаивают, что непосредственное формирование среднестоговской культуры происходило в лесостепи между Днепром и Доном [75, с. 43, 46]. В любом случае принципиально важно, что формирование среднестоговской культуры происходило в районе между Днепром и Доном на основе местных неолитических традиций, в том числе очень ранних традиций скотоводства.
Следует еще раз подчеркнуть то, что уже было сказано во «Введении» к данной работе: нашей целью является определение индоевропейской прародины накануне распада общеиндоевропейского языка. Великий французский историк Марк Блок писал об «идоле истоков» как опасности на пути историка: «Не лучше было бы, прежде чем погружаться в тайны происхождения, определить черты законченной картины?.. Хотят узнать, как возникло данное явление? Но сперва необходимо вскрыть его природу, а это возможно лишь при знакомстве с ним в его зрелом, наиболее завершенном виде» [234, с. 19, 198]. Это сказано, в частности, в отношении такого сложного явления, как западноевропейский феодализм. И это тем более справедливо в отношении индоевропейского этноса. Поэтому можно утверждать, что:
5. До эпохи среднестоговской культурной общности индоевропейского этноса и индоевропейского языка как сложившихся явлений просто не существовало. В частности, имеется достаточно аргументов в пользу того, что сама среднестоговская общность возникла в результате смешения двух неродственных народов, т. е. была гибридной и по культуре, и по языку.








