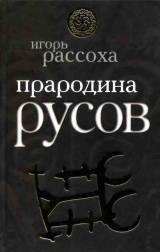
Текст книги "Прародина Русов"
Автор книги: Игорь Рассоха
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
3.4. Культурные растения и домашние животные
Нам еще нужно разобраться с целой главкой из книги Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, которая имеет очень грозное название: «Характер развитого скотоводства и земледелия в общеиндоевропейскую эпоху как аргументы против отнесения индоевропейской «прародины» к областям Центральной и Восточной Европы».
Чтобы оценить степень «серьезности» аргументации, приведем лишь небольшую цитату: «Характерно для общеиндоевропейской культуры и наличие развитого пчеловодства (ср. *b [h]eĭ– «пчела», *mel-it [h]-, *med [h]u– «мед»), с глубокой древности известного на Ближнем Востоке» [1, с. 868]. Как нам кажется, о развитом пчеловодстве свидетельствовали бы слова «улей» и «пасека». А. Мейе специально подчеркивал, что в индоевропейском «нет названия „улья“, потому что собирали мед только диких пчел из дуплистых деревьев и не существовало искусственных ульев» [79, с. 397]. Пчелиный мед же употребляют в пищу даже самые отсталые племена вроде бушменов и ботокудов. Например, «в Северной Австралии аборигены употребляли мед лишенных жала пчел» [98, с. 87]. Получается, что Вяч. Вс. Иванов и Т. В. Гамкрелидзе серьезно считали культуру населения Европы более примитивной, чем культура австралийских аборигенов…
Оказывается, энеолитическая Европа (с ее такими «примитивными» культурами, как Триполье-Кукутени, да и собственно среднестоговской) не могла, дескать, быть прародиной индоевропейцев потому, что «для древних индоевропейцев было характерно развитое скотоводство и земледелие». Не утомляя дальнейшими цитатами, приведем полный список домашних животных и культурных растений в индоевропейской лексике согласно Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванову. Итак, животные: " конь "/" лошадь ", «осел», " бык "/" корова ", " овца "/" баран ", " козел "/" коза ", " собака " (это слово восходит к ностратическому KüjnA – «собака, волк» [131, с. 361]), " свинья ", «поросенок». Отметим, что крупный и мелкий рогатый скот, собак и свиней на территории Украины разводили еще в эпоху неолита, как минимум в VI тыс. до н. э. [149, с. 176–177]. Растения: " ячмень", «пшеница», «лен», «яблоко», «яблоня», «вишня»/"кизил ", «тутовое дерево», " виноград " [1, с. 868]. Другие исследователи добавляют к общеиндоевропейским терминам также названия " горох", «рожь», "груша " [137, с. 31], «рожь», «груша», " овес " [268, с. 121, 122, 124], " репа " [247, с. 471], " бобы " [273, с. 180].
Из этого списка кизил в настоящее время растет лишь в Крыму и на юго-западе Украины, но в эпоху климатического оптимума рос, по-видимому, по всей Украине. У соседних племен раннетрипольской культуры «обработанные первобытным ралом земли засевались пшеницей, ячменем и просом. Имеются все основания думать, что трипольцы выращивали также бобовые и лен» [72, с. 78]. Относительно вишен и яблонь прекрасно известно о культивировании их в развитом садоводстве у тех же трипольцев. Собственно, начало садоводства, в т. ч. разведение слив в Северном Причерноморье, можно предположить еще в неолитическую эпоху [138, с. 13]. «В позднем Триполье на поселении Варваровка XV найдены косточки примитивной сливы, которую специалисты рассматривают как гибрид от спонтанных скрещиваний принесенной из Малой Азии алычи с диким абрикосом, а из поселения Варваровка VIII – зерна крупноягодного винограда столового сорта» [65, с. 237]. «Исходной формой, от которой произошли многие сорта винограда культурного, послужил дикий виноград европейский (Vitis viinfera, subsp. silvestris), который в СССР распространен в долинах рек Днепра и Днестра» [99].
Явно выбивается из списка "тутовое дерево". Однако в посвященной ему главке все становится на свое место: «Диалектное распределение форм (греческий, армянский, итало-кельтский) свидетельствует о древности слова в индоевропейском в значении "тутового дерева", " ежевики " и плодов этих растений». Причем «в армянском засвидетельствовано вторичное значение „ежевика“ при значении „тутовое дерево“, выраженном заимствованным словом fuf, вероятно, из арамейского» [1, с. 645–646]. Аргументацией на тему того, почему именно значение «ежевика» является вторичным, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов, как всегда, не озаботились. Причем эти специалисты должны были бы знать, что данное и.-е. слово (*mor-) восходит еще к ностратическому " ягода (вообще) " (алтайск. mür(Λ) «ягода», уральск. marja «ягода», картвельск. mar-cqwa «земляника») [136, с. 9]. Отсюда, вероятно, происходит и наше слово морсдля напитка из сока ягод (ср. румынское múrsă«вода с медом, сок, жидкость» [259, с. 658]). В общем, привет ежевике от ёжиков…
Точно так же из списка домашних животных выбивается "осел". Это домашнее животное действительно разводили (и разводят) в основном на Ближнем Востоке. Но, во-первых, на территории Украины в бронзовом веке «показательно наличие в Усатове костей таких степных животных, как сайга и кулан » [18, с. 237]. А кулан – один из видов дикого осла. Во-вторых, цитата из самих Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова: «Ограниченность первичного названия „осла“ греческим и латинским не дает возможности считать слово относящимся к периоду общности всех индоевропейских диалектов» [1, с. 562]. Вопрос: зачем же в таком случае Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов вставили его в приведенный выше список («в общеиндоевропейском восстанавливается…» [1, с. 868])? Рассчитывали, что читатели забудут, о чем писалось на триста страниц раньше?
Если с ослом непонятно, зачем его включили, то еще с двумя видами животных непонятно, почему о них забыли. Во-первых, это кошка. Ее индоевропейское название *k [h]at [h]-/*k'at'-u– имеет близкие параллели во многих языках Ближнего Востока и даже Африки (в нубийских) [1, с. 600–601]. Очень может быть, что это еще ностратический корень, первоначально обозначавший, естественно, «дикую кошку». «Лесная кошка, иногда называемая европейской или дикой, по внешнему виду, особенно по окраске, похожа на обыкновенную серую домашнюю кошку, так что нередко распознавать их бывает очень трудно, тем более что домашние кошки нередко дичают». В то же время обитающая в Африке и Азии (в т. ч. в Египте и на Ближнем Востоке) степная (нубийская) кошка «несколько крупнее домашней и иной окраски» [42, с. 316]. Вероятно, сто́ит пересмотреть традиционное представление о том, что кошку впервые одомашнили в Древнем Египте. «Любопытно, что это слово, распространившееся практически на всем Ближнем Востоке, отсутствует в египетском, где „кот“ обозначается словом mjw» [1, с. 601]. Из того, что в Египте обожествляли кошек и делали их мумии, еще не следует, что их там одомашнили: ведь египтяне точно так же делали мумии и из крокодилов…
Похоже, прародина домашней кошки находится где-то в Европе. «В литовских фольклорных мифологических текстах часто описывается превращение бога грозы Перкунаса или его противника в кошку; в древнегерманской мифологии кошка, поднимаемая богом грозы Тором, оказывается Мировым Змеем. Все эти данные могут свидетельствовать о древних корнях культовой значимости "кошки" в указанной группе индоевропейских диалектов» [1, с. 600]. «Кот в кельтских сказаниях часто изображается как страшный волшебный зверь. Один из величайших подвигов короля Артура – единоборство с чудовищным котом». В саге «Плавание Майль-Дуйна» путешественники попадают в замок «маленького кота», гостеприимного волшебника, но когда один из них решился взять оттуда ожерелье, кот «бросился на него, как огненная стрела, и сжег, обратив в пепел» [238, с. 297, 181–182]. Да и в народных сказках кот – часто очень серьезный персонаж.
В среднестоговской культуре костей лесного кота вроде бы не находили. Но на поселениях предшествовавшей ей днепро-донецкой культуры они известны [230, с. 205]. Вряд ли неолитические обитатели Украины охотились на котов. Может быть, котов уже тогда ценили за некие магические качества и за то, что они ловят мышей? Может быть, коты долгие века прожили рядом с индоевропейцами в полуодомашненном состоянии? Характерный штрих: в критском линейном письме А известны знаки № 27, № 84 и № 95, которые восходят к иероглифам и изображают головы быка, козла и кота. Они имеют звукоподражательный характер и читаются соответственно ти, теи та[280, с. 83]. Достаточно логично предположить, что коты на острове Крит во II тыс. до н. э. уже были домашними животными – наряду с быками и козлами.
Еще интереснее вопрос относительно одомашнивания курицы. Название для «курицы» *k [h]erk [h]– имеет «общеиндоевропейский характер» [1, с. 601]. При этом практически во всех индоевропейских языках отдельное название для «петуха» происходит от слова «петь», «кричать» «голос» в соответствующем языке. Кроме того, в разных традициях (римской, хеттской и др.) важную роль играло гадание по поведению кур [1, с. 601–602]. Вообще, «в тех ритуальных традициях, где на это не существует запрета, именно петух преимущественно используется для жертвоприношения» [92, с. 310]. «В раннеголоценовых отложениях Украины находят остатки дикой курицы. Это подтверждает предположение о том, что куры могли быть одомашнены не только в восточной, но и в западной части былого ареала рода Gallus» [100, с. 43]. А может быть, только в западной части?
Вероятно, в список общеиндоевропейских культурных растений должна быть добавлена и " конопля ", учитывая широчайшее распространение этого термина, включая шумерское kunibu [259, с. 312]. Еще одно общеиндоевропейское название растения, возможно, культивируемого еще в глубокой древности – " мак ": славянское *makь, древнепрусское moke, литовское maguona, древневерхненемецкое, древнесаксонское maho, mâgo, греч. μήκων, дорийское μάκων (а также, «по-видимому», ирландское meacan – «морковь, пастернак») [259, с. 560]. То же можно сказать о названии " мята ": укр. м'ята, чеш. máta, нижнелужиц. mjatej, англосакс, minte, др. – верх. – нем. minza, греч. Μίνθη (в микенскую эпоху – mita [319, с. 93]), лат. menta [247, с. 31]. Мята, мак и конопля и сейчас растут на территории Украины как в диком, так и в культурном виде.
Итак, на территории индоевропейской прародины росли прежде всего дубы, а также буки, грабы, клены, липы, березы, осины, ясени, ивы, ветлы, ольхи, вязы, тисы, сосны, ели, пихты, шиповник, лесной орех, кизил, виноград, ежевика, вереск, тёрен, омела, камыш, тростник, лилия, пырей, дикий чеснок, мак, конопля, мята, папоротник, разные травы и мхи.
Здесь водились: медведь, волк, лиса, лев, барс, рысь, дикий кот, дикий бык (тур), зубр, кабан, олень, лось, косуля, заяц, белка, ёж, бобр, выдра, куница, хорёк, ласка, крыса, хомяк, мышь, крот, орел, ястреб, сокол, сова, сыч, журавль, цапля, лебедь, гусь, утка, кулик, удод, камышница, дрофа, ворон, сорока, грач, тетерев, голубь, дятел, скворец, дрозд, иволга, воробей, синица, зяблик, болотная черепаха, жаба, лягушка, гадюка, уж, угорь, лосось, сом, карп, карась, осетр, линь, белуга, раки, мухи, муравьи, пчелы, осы, шершни.
Индоевропейцы разводили таких животных, как собака, лошадь, корова, коза, овца, свинья, курица, возможно, гусь и утка, выращивали пшеницу, рожь, ячмень, овес, просо, горох, бобы, репу, лук, чеснок, лен, виноград, яблони, груши, вишни.
Более подробный, но значительно менее надежный индоевропейский словарь сайта «Вавилонская башня» (Starling) [343] позволяет серьезно дополнить этот список.
Растения: тополь, рябина(?), верба, черемуха, калина, бузина, можжевельник, осока, мальва, плющ, крапива, лопух, белена, куколь, вайда (трава-индиго), чемерица, черемша, земляника, марь, фиалка, клевер(?), ряска, а также сливы, черешни, чечевица, полба, тыква, морковь, лук-порей.
Животные: лань, горностай, землеройка, аист, ласточка, стриж, коршун(?), кобчик, перепелка, рябчик, куропатка, горлица, ворона, сойка, галка, утка-гоголь, утка-нырок, лысуха, выпь, кукушка, соловей, черный дрозд, трясогузка(?), зимородок, саламандра, окунь, язь, мень (налим), форель(?), пескарь(?), сиг, атерина, красноперка, а также слизни, улитки, пауки, слепни, клещи, комары, хлебные жучки (вредители), моли, бабочки, шмели, жуки: (в частности навозники), древоточцы и т. д.
Из перечисленных растений и животных почти все продолжают жить на востоке Украины и сейчас. Исключение составляют исчезнувшие в связи с изменением климата бук, граб, тис, пихта и кизил, а также истребленные человеком лев, медведь, леопард, дикий бык тур и дикая лошадь тарпан. Почти истреблены здесь также осетровые и лососевые рыбы.
В качестве общего вывода можно уверенно заявить, что флора и фауна на территории среднестоговской культуры полностью соответствовали составу флоры и фауны на территории прародины индоевропейцев.
4. О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «АРГУМЕНТЕ ГОРНОГО ЛАНДШАФТА»
4.1. О высокогорной растительности и климате
Можно утверждать, что среди всех лексических аргументов против Восточной Украины как прародины индоевропейцев самым популярным является именно «аргумент горного ландшафта». Вот, например, как формулирует свои возражения В. А. Сафронов: «Отсутствие горного ландшафта в южнорусских степях, а также лесных представителей фауны (тетерев) и флоры (бук, сосна, пихта, вереск, тис, осина и др.), а также существование в праязыке не заимствованного названия такого южного животного, как лев, делают невозможной локализацию прародины индоевропейцев в черноморо-каспийских степях» [34, с. 16]. Как видим, «отсутствие горного ландшафта» стоит на первом месте.
В другом месте В. А. Сафронов раскрывает этот свой тезис: «Горный ландшафт позднеиндоевропейской прародины подчеркивался рядом авторов, а после представленных Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым доказательств не вызывает сомнений. Составленный ими список общеиндоевропейских слов убеждает, что индоевропейцы были жителями горных или предгорных областей: «вершина горы», «гора, скала, камень», «гора, возвышенность», «высокий» (о горе), «дуб, скала», «горный дуб», «горный северный ветер»» [34, с. 46].
Но хотя представленные Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым доказательства и «убеждают» В. А. Сафронова, он продолжает свою мысль довольно неожиданно: «Характер растительности (широколиственные и смешанные леса) и отсутствие названий, соответствующих высокогорной фауне (кроме барса, обитающего и в среднегорье, и даже в предгорьях), некоторые породы деревьев (например, осина) и животные (например, бобер) создают уверенность, что индоевропейцы или часть их жили и ниже среднегорья. Наконец, и общеиндоевропейское слово «болото» может свидетельствовать о том, что часть индоевропейского населения жила в низине, скорее всего у предгорий» [34, с. 46].
Предоставим специалистам по логике размышлять, каким образом слово «болото» может свидетельствовать о том, что население жило именно у предгорий. Барсы (леопарды) тоже живут не только в предгорьях, но и вообще на равнине. Общий же вывод довольно ясен: из древней индоевропейской лексики до нас не дошло никаких терминов, обозначающих специфически горную флору и фауну, зато целый ряд животных и растений (вроде осины и бобров) точно не имеет к горам никакого отношения.
Теперь перейдем непосредственно к представленным Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым доказательствам, которые убедили столь многих авторов:
«Первое, что можно утверждать с достаточной уверенностью относительно индоевропейской прародины, это то, что она представляла собой область с горным ландшафтом. Об этом свидетельствует прежде всего многочисленность индоевропейских слов, обозначающих "высокие горы" И "возвышенности" [ пять слов. – И.Р.] (…) Это – ландшафт с широким распространением горного «дуба» (*p [h]er(k [h]o)u– «дуб», «скала», *aĭk'– «горный дуб») и ряда других деревьев и растений, растущих в высокогорных местностях. С такой картиной высокогорного ландшафта согласуются и данные о «горных озерах» (ср. *or-u-n– «большое озеро», «море», ср. также и.-е. sal– «море или озеро как соленое») и «быстрых, стремительных реках» (Hap [h]– «река», «поток», t [h]ek [h]o– «быстро течь»), а также данные о высокогорном характере климата с пасмурным небом и частыми грозами: *neb [h]es– «облако», «туча», «небо», *Hŭent [h]– «ветер», *Hk'°uor– «горный, северный ветер», *seŭ-/su– «дождь», *sneĭg [h]o– «снег», *ĝ [h]eim– «зима», *(ĭ)ek'– и *eĭs-/*is– «холод», «лед». Другой ряд слов, связанных с климатическими понятиями, исключает приурочение индоевропейской прародины к северным областям Евразии: ср. *g [h]oer-m– и *t lh]ep [h]– «жара», «тепло». Такая картина праиндоевропейского ландшафта естественно исключает те равнинные районы Европы, где отсутствуют значительные горные массивы, то есть северную часть Центральной Евразии и всю Восточную Европу, включая и Северное Причерноморье» [1, с. 866].
Относительно «горного дуба» уже речь шла. Относительно «ряда других деревьев и растений, растущих в высокогорных местностях» из книги Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова больше ничего узнать не удалось.
По поводу ряда других их утверждений приведем мнение И. М. Дьяконова: «Относительно экологии индоевропейской прародины, как она выявляется из индоевропейской лексики, кое о чем с авторами можно и поспорить; например, существование слов для «озер», «рек», а также «жары», «тепла», «ветра», «снега» ничего не говорит о природе и климате индоевропейской прародины: термины для «жары» и «тепла» есть в эскимосском языке, а для «снега» – в аккадском (среднегодовая температура +20 – +25°, средняя температура самого холодного месяца +7 – +12°). То обстоятельство, что реки в фольклоре имеют эпитет «быстрые» («быстра реченька»), не доказывает, что общеиндоевропейская прародина находилась в горах. Для озера нет вообще общего индоевропейского термина, и нет доказательств, что на прародине озера были горные» [47, с. 13].
Изо всех лексических аргументов о климате индоевропейской прародины заслуживает внимания разве что «*neb [h]es– «облако», «туча», «небо»». Можно согласиться, что такое значение действительно указывает на пасмурное небо. Но пасмурное небо вообще характерно для Западной Европы и, как мы убедились, было более характерно для Восточной Украины шесть тысяч лет назад, чем сейчас. Впрочем, погода и сейчас нас здесь частенько не балует. Но это не имеет никакого отношения к высокогорью.
Л. А. Лелеков в отличие от Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова привел весьма убедительные свидетельства лингвистической реконструкции климата индоевропейской прародины. Собственная древняя письменная традиция индоевропейских народов однозначно указывает на суровые зимы их прародины: «Только название «зимы» оказывается общим для праиндоевропейцев в их сезонно-климатической лексике, где названия прочих времен года либо отсутствуют, либо заметно расходятся. Конечно, зима была главным сезоном отнюдь не на берегах Верхнего Евфрата. «Ригведа» (10.75.2) и «Шатапатха Брахмана» (1.5.4.5) сообщают, что зимой деревья теряют листву, а птицы улетают. Показательна одержимость темой зимы в иранской традиции. По первому фаргарду «Видевдата» зиму учинил дух зла Ангро-Майнью, но по второму и по Яшту 5.120 – лично Ахура Мазда. Даже в поздней парсийской хронологии эон Заратуштры назывался hazang-rok zim, т. е. тысяча зим. А вот шумеров, семитов, хурритов тема и образ зимы нисколько не занимали, как и пребывающий в прямой связи с ними культ огня. Индоевропейцы же создали вместе с изощреннейшей ритуалистикой целую теософию огня, учение о том, что наблюдаемые формы бытия порождены и регулируются огненной первосущностью («Чхандогья Упанишада», V.3.7; «Брихадараньяка Упанишада», VI.2.8; «Махабхарата», III. 134.12; Гераклит, фр. 30, 64, 66 и др.)» [133, с. 34].
Таким образом, изо всей аргументации Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова относительно горного ландшафта остаются только «многочисленность индоевропейских слов, обозначающих "высокие горы" и "возвышенности"». Вот что они написали об этом: «В общеиндоевропейской лексике выделяется особая группа слов в значении "гора", "скала", "возвышенность". Это, в первую очередь, основа *p [h]er(k [h]o)u– «гора», «горный дубовый лес», «скала», выступающая в сочетаниях с другими названиями «горы», «скалы» в атрибутивной функции со значением «высокий», «мощный»; далее – это основа *Hk' o(e/o)r-, дающая рефлексы по всем основным древним индоевропейским диалектам, и производные от *k [h]el-, сохранившиеся в «древнеевропейских» диалектах, анатолийском и греческом; а также формы *(o)nt'– *mn ot [h]-, сохранившиеся в крайних периферийных индоевропейских диалектах. При этом «гора» мыслится как «достигающая неба каменная громада», вершина которой скрывается в «тучах». Естественно допустить, что такая разветвленная горная лексика и связанные с ней представления могли возникнут лишь в условиях обитания в горных областях» [1, с. 669–670].








