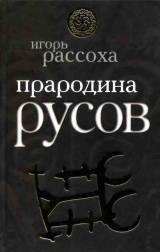
Текст книги "Прародина Русов"
Автор книги: Игорь Рассоха
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
3.2. О методологии лингвистической реконструкции флоры и фауны
Из приведенного выше текста Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова очевидно, что они в общем и не обращали на «аргумент бука» особого внимания. Пафос их аргументации иной: «Данные об индоевропейских названиях деревьев и растений (…), согласующиеся с характеристиками горного ландшафта индоевропейской прародины, локализуют ее в сравнительно более южных областях Средиземноморья в широком смысле, включая Балканы и северную часть Ближнего Востока». Само название главы их работы о реконструкции облика флоры и фауны индоевропейской прародины очень красноречиво: «Общеиндоевропейская флора и фауна как палеоботанические и палеозоологические указатели на соотнесенность индоевропейской экологической среды с зоной Средиземноморья – Передней Азии» [1, с. 866]. То есть они подгоняли решение задачи под изначально заданный ответ.
Причем методология исследовательской работы Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова по этой ключевой проблеме, вежливо говоря, вызывает огромные сомнения. Можно сказать, что они излагают лингвистические факты вполне академично, на основе эрудиции, а вот выводы из них делают целиком произвольно, на основе некой загадочной интуиции. Анализ этими двумя уважаемыми исследователями общеиндоевропейской флоры и фауны, на наш взгляд, страдал двумя принципиальными методологическими недостатками.
Во-первых, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов часто делали на основании приведенных ими лексических фактов такие выводы, которые из этих фактов никак логически не следуют.
Приведем конкретную цитату: «От архаической основы *eĝ [h]i– «змея» образовано название одного из видов «ежа» как «пожирателя змей»: греч. έχινος «ёж», осетин. wyzyn//uzun«ёж», армян, ozni, литов. ežỹs, латыш, ezis, рус. ёж , древнеангл. igil, немец. igel«ёж». По-видимому, имеется в виду мангуст – животное, истребляющее ядовитых змей» [1, с. 526]. Кто объяснит, при чем здесь мангуст?! Причина подобного «ёжиконенавистничества» маститых ученых столь же очевидна, сколь и неблаговидна…
Или еще пример из области фауны: «Первичное индоевропейское название "краба" в древних индоевропейских диалектах образовано от редуплицированной формы *k [h]ark [h]ar– со значением «твердый», «шероховатый». Греч, καρκίνος «краб», др. – инд. (из пракритов) karkata-«рак», karka-«краб», латин. cancer«рак», русск. рак, слав. *rakŭ (с диссимилятивной утратой начального *k-)» [1, с. 533]. Обратим внимание: практически во всех языках основное значение этого слова – «рак». И только в греческом «Греч, καρκίνος „краб“». Но на другой странице этой же самой книги Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова читаем: «латин. cancer«рак» < др. – инд. (из пракритов) karkata-«рак», греч. καρκίνος " рак "» [1, с.221]. Оказывается, и по-гречески это слово тоже значит «рак»!
Но Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов во что бы то ни стало хотят доказать южный характер фауны индоевропейской прародины. А те, кто у них списывал, не слишком внимательны. Вот и пошли гулять по книжным страницам экзотические индоевропейские крабы и мангусты – вместо скучных раков и ежиков…
Второй принципиальный недостаток методологии Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова – в том, что у них отсутствует прозрачный и очевидный критерий отнесения слов к общеиндоевропейской лексике.
Конкретная цитата: «Древнейший диалектный индоевропейский архетип слова *ŭe(i)ŭer– мог обозначать один из видов маленького древесного животного (…) Редуплицированная форма названия "белки" или "хорька" засвидетельствована в ряде «древнеевропейских» диалектов (в латинском, балтийских, славянских), а также в иранском. (…) Слово со значением "белка" представляет «древнеевропейскую» лексическую и семантическую инновацию, к которой примыкает и иранский. Характерно, что иранский объединяется с той же группой древних индоевропейских диалектов в образовании лексико-семантических инноваций и в других случаях» [1, с. 522].
Итак, согласно Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванову, если слово сохранилось только в латинском, балтийских, славянских и иранских языках, то это не есть древнее общеиндоевропейское слово, а есть поздняя лексическо-семантическая инновация. Допустим.
Но в другом месте той же книги читаем: «Название березы восстанавливается для общеиндоевропейского по схеме диалектного членения в виде основы *b [h]erHk'.Оно объединяет такие диалектные ареалы, как индоиранский, италийский, балто-славяно-германский» [1, с. 619–620]. Получается, что для того, чтобы слово было признано общеиндоевропейским (а не лексическо-семантической инновацией), необходимо, чтобы оно присутствовало еще и в индийских и германских языках.
Однако и этого, оказывается, мало: «Лексемы, в одних диалектах (иранском, балтийском, славянском, германском, латинском, кельтском) имеющие денотатами конкретных животных – "выдру" (*ŭot'or-) и "бобра" (b [h]ib [h]er//b [h]eb [h]er), в группе древних индоевропейских диалектов, к которой относятся хеттский, греческий, армянский и индоарийский, означают вообще «водяное животное», часто с ритуально-культовой значимостью. Значение конкретного животного «выдры» для данной лексемы – это, очевидно, некоторая семантическая инновация в ирано-балто-славяно-германском диалектном ареале. (…) Характерно, что денотат «бобер» соотносится с конкретной лексемой именно в этой же группе диалектов (включая кельтский и италийский), но не в перечисленных выше древних индоевропейских диалектах, в которых нет специального названия «выдры». (…) Можно заключить, что налицо семантическое новообразование в указанных диалектах, связанное со специфическими экологическими условиями обитания носителей этих диалектов» [1, с. 529–530].

Как видим, глубокоуважаемых ученых Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова не смутило, что названия «выдры» и «бобра» есть в таких не слишком близких друг к другу языках, как иранские и кельтские. Их не смутило также и то, что названия, скажем, для «бобра» отсутствуют именно у тех народов, на территории расселения которых отсутствуют сами бобры. Бобры не живут сейчас и вряд ли когда-либо жили на территории Греции, Армении и Индии [см. рис. 5]. «Бобры поселяются по берегам медленно текущих лесных рек, избегая широких и быстро текущих» [42, с. 200]. А в Греции и Армении реки все в основном горные, т. е. быстро текущие.
Но предположим, что критерии определения индоевропейской лексики у Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова действительно настолько жесткие.
Однако в уже приведенной выше цитате эти исследователи среди бесспорно «индоевропейских названий деревьев и растений» назвали и «*aĭk"– "горный дуб"» [1, с. 866–867]. Откуда они это взяли? – «Основа *aĭk"– представлена в основном в германских языках как главное название "дуба". Обнаружение соотносимого с этой основой слова в греческом языке позволяет реконструировать такую основу со значением "дуб", "горный дуб" уже для некоторой древней диалектной общности с довольно ранней заменой им первоначального названия: греч. αιγίλωψ "вид дуба" (Quercus aigilops, восточносредиземноморский дуб со съедобными желудями), древнее словосложение, по-видимому, со второй частью, родственной греч. λώπη, λοπός "кора"» [1, с. 618–619].
Не спрашивайте, как этот дуб вдруг стал «горным». Очевидно, так же, как ёжика подстригли под мангуста. Гораздо интереснее, что к столь уверенным выводам уважаемые исследователи пришли на основании сравнения только двух групп индоевропейских языков – греческого и германских.
Еще одна цитата: «Несмотря на то, что слово (индоевропейская основа p [h]ork [h]o– «поросенок», «молодая свинья») не представлено во всех основных индоевропейских диалектах (оно отсутствует в тохарском, греческом, армянском), его диалектное распределение (иранские, балтославянские и другие «древнеевропейские») свидетельствует о древности формы и принадлежности ее во всяком случае уже к периоду возникновения ранних диалектных общностей» [1, с. 594]. А помнится, при точно таком же диалектном распределении («древнеевропейские» плюс иранские) другие слова уверенно объявлялись «лексическо-семантической инновацией»…
Суть «ёжиконенавистнической» методологии Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова прекрасно проясняет их собственное заявление относительно названия еще одного животного. Сначала они объективно приводят лексические факты: «И.-е. *(e)l-k [h]-: греч. άλκη «лось», латин. alсe«лось», древнерус. лось, древневерх. – нем. ëlho, ëlaho«лось», нем. Elch«лось», др. – англ. eolh, др. – исл. elgr, англ. elk«лось» древнеинд. ŕśya-, ŕśa-«самец антилопы»» [1, с. 517]. Опять же подчеркнем: в Индии лоси не водились никогда. Во всех остальных языках слово означает « лось » (это примерно как с раками).
А теперь вывод самих Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова: «Устанавливается некоторая вариантность семантем "лось" и "антилопа" при неопределенности первичного значения, характерного для общеиндоевропейского (в отличие от основы *el-en-, общеиндоевропейское значение которой определяется однозначно как "олень"). Первичное общеиндоевропейское значение слова *el-k [h]– («лось», или «антилопа», или вообще «рогатое бурое животное», отличное от «оленя») может быть определено лишь при учете всего комплекса условий территории первоначального обитания носителей индоевропейских диалектов» [1, с. 518].
Кажется, в логике такая ошибка называется логический круг. Если для определения «первичного общеиндоевропейского значения слова» необходимо знать, где находилась общеиндоевропейская прародина («значение может быть определено лишь при учете всего комплекса условий территории первоначального обитания носителей индоевропейских диалектов»), то это «первичное общеиндоевропейское значение слова» нельзя привлекать для определения местоположения самой прародины. Но…
«Такой сравнительно южный характер экологической среды индоевропейской прародины, предполагаемый на основании данных о географическом ландшафте и растительности, подкрепляется анализом общеиндоевропейских названий животных: *ŭlk [h]o-//*ŭlp [h]– «волк», *Hr ot [h]k [h]– «медведь», *p [h]ars-//*p [h]art'– «барс», «леопард», *leŭ– «лев», *leŭk [h]– «рысь», *ŭl-o-p [h]-ek [h]-(ā) «лиса», «шакал», *q [h]ŭep [h]– «дикий вепрь», «кабан», *el-(e)n-//*el-k [h]– «олень», «лось», " антилопа ", *t [h]aŭro– «дикий бык», «тур», «зубр», *k [h]as– (no-) «заяц», *q [h]e/op [h]– «обезьяна», *ĭeb [h]//*Heb [h]– и *leb [h]– ont [h]-//*leHb [h]o– «слон», «слоновая кость», *og [h]oi-//*ang [h]oi– «змея», *mūs– «мышь», *k [h]ark [h]ar-" краб ", *mus– «муха», *lūs– «вошь», *g [h]nit'– «гнида», «рыба», *Hŭeĭ– «птица», *He/or– «орел», *k'er– «журавль», *k [h]er– «ворон», *t [h]et [h](e)r– «тетерев», *(s)p [h]ik [h]o– «дятел», «маленькая птичка», «зяблик», *ĝ [h]ans– «водяная птица», «гусь», «лебедь». Некоторые из этих животных (*p [h]ars-//*p [h]art'– «барс», «леопард», *leŭ– «лев», *q [h]e/op [h]– «обезьяна», *ĭeb [h]//*Heb [h]– и *leb [h]-ont [h]– //*leHb [h]o– «слон», «слоновая кость», *k [h]ark [h]ar– «краб») специфичны именно для южной географической области, что исключает Центральную Европу в качестве возможной первоначальной территории обитания индоевропейских племен» [1, с. 867].
В общем-то, Центральная Европа нас не слишком интересует. Украина – это скорее Юго-Восток Европы. Относительно крабов и антилоп вроде бы уже разобрались. Остались шакалы, леопарды, львы, обезьяны и слоны.
3.3. «Шакалы, леопарды, львы, обезьяны и слоны»
Между прочим, сами Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов пишут: «Слово со значением „слон“, „слоновая кость“, как и рассмотренные выше названия „леопарда-барса“, „льва“, „дикого быка-тура“ и „обезьяны“, является, очевидно, ближневосточным миграционным термином, обнаруживаемым в ряде ближневосточных языков, в частности семито-хамитских» [1, с. 524]. Л. А. Лелеков задает резонный вопрос [133, с. 33]: «Говоря о распространении в праиндо-европейской фауне южных видов, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов включают в нее и слона. Однако сам Вяч. Вс. Иванов в 1977 г. убедительно показал, что индоевропейские названия слона порознь заимствованы извне и не восходят к единой праформе [135]. Откуда же под тем же самым пером возник праиндоевропейский слон в 1980 г.?»
А вот что пишет по этому поводу знаменитый востоковед И. М. Дьяконов: «Термин «слон», если я не ошибаюсь, известен в и.-е. языках только в греческом (έλεφαντ-), готском (ulblandus) и славянском (velblo ndū) со значением «огромный чудовищный зверь» – не только «слон», но и «верблюд»; вероятно, из списка реальных животных этот термин надо исключить. Термин для «обезьяны», несомненно, относится к заимствованиям, как и термин для «барса»; термин же *Hloup h-(e)k h– означал первоначально, надо думать, все-таки « лису », а не шакала; так что набор животных получается не столь уж экзотичным» [47, с. 14]. Это не говоря уже о том, что вши (и гниды), увы, были распространены среди абсолютно всех человеческих племен, и никак не могут доказывать «сравнительно южный характер экологической среды индоевропейской прародины».
Попробуем определить флору и фауну индоевропейской прародины , опираясь на приведенный Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ивановым колоссальный фактический материал, но критически относясь к их методологии.
Итак, важнейшим деревом для индоевропейцев был " дуб ". Также на их прародине были распространены " береза ", " бук ", " граб ", " ясень ", " осина ", " ива ", " ветла ", " тис ", " сосна ", " пихта ", " вереск ", «роза» ( шиповник ), " мох " (или болотные растения вообще). Кроме того, здесь рос «орешник» – очевидно, обычный лесной орех , а не грецкий орех (привет от краба с антилопой): «греч. κάρυον „орех“ (в особенности „грецкий орех“), καρύα „ореховое дерево“; ср. греч. άρυα „орехи“, албанск. arrë«орех», «ореховое дерево», древнерусск. орěхъ«орех», орěшие«ореховые деревья», сербо-хорват. òrah; литов. riešutas«орех», ruošutỹs«ореховое дерево» riešutýnas«орешник»» [1, с. 635]. Также можно с долей допущения восстановить названия для " ели ", " вяза " и " ольхи " [1, с. 633–635]. Большинство этих растений распространено на востоке Украины и сейчас. Исключение составляют бук, пихта, граб и тис. Но в эпоху индоевропейского единства здесь был более мягкий и влажный климат, подобный нынешней Западной Украине, где эти деревья растут и поныне.
По мнению П. Фридриха [232], в перечень основных праиндоевропейских названий деревьев входила также " липа " [133, с. 33]. В состав общеиндоевропейской флоры следует включить также " клён " это общеславянское слово родственно литовскому klẽvas, македонскому κλινότροχον, древнеисландскому hlynr, кимрскому kelyn, древне-корнуольскому kelin[259, с. 247].
«Будь индоевропейцы уроженцами Передней Азии, они непременно обожествили бы не только дуб, но и кедр, кипарис, самшит. Но даже чудеса реконструкции бессильны засвидетельствовать их знакомство с царственными видами переднеазиатской флоры, столь пышно воспетыми в памятниках шумеро-семитских литератур» [133, с. 33].
Общеиндоевропейских названий травянистой растительности Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов не приводят. Но вот С. А. Старостин приводит такие термины, как " камыш "/" тростник", "дикий лук "/" чеснок " и " кормовая трава " – последний термин был, очевидно, важен для скотоводов [268, с. 121, 124]. Кроме того, из словаря М. Фасмера можно сделать вывод об общеиндоевропейском происхождении таких слов, как пырей (польск. perz, лужицкий pyŕ, нововерхненем. мест. Pyritz, англосакс, fyrs, а также греч. πυρός «пшеница», «зерно пшеницы», др. – инд. pūras «пирог» [247, с. 419]), папоротник (праславянский *paportь, литовский papartis, древневерхненемецкий farn, ирландский raith (*prati-), греческий πτερίς [247, с. 202]), лилия (укр. лiлея, польск. lilia, нем. Lilie, латин. lilium, греч. λέριον [259, с. 497]), тёрн (укр. терен, праслав. *tьrnъ , др. – индийск. tŗnam «трава, стебелек», готск. þaúrnus «терн, колючка» [248, с. 48–49]) и, вероятно, омела [247, с. 139].
В общеиндоевропейской фауне были представлены " волк", «медведь», «леопард», «лев», «рысь», «лиса», «кабан», «олень», "лось ", «дикий бык» (" тур "), «заяц», «мышь», «рак», «муха», «змея», «орел», «журавль», «ворон», «тетерев», «дятел», «зяблик», «гусь», "лебедь ". В этот список должны быть добавлены " ястреб", «дрозд», «воробей», «скворец», «удод», «утка», «лосось», «оса», «шершень», «червь», «насекомое», "муравей " [1, с. 537, 541, 536, 543, 534, 527]. Должны быть также внесены в этот список " белка " [342], " хорек", «ёж», «бобр», "выдра " (см. выше), а также " крот ": «Особая культовая и ритуальная значимость „мыши“ и „крота“ как священного животного в индоевропейской традиции, связывающая их с погребальными обрядами и обрядами исцеления, уходит корнями в доисторическую древность» [1, с. 532]. Кроме того, относительно «змеи» известны две отличающиеся друг от друга формы *ang [h]oi– и *og [h]oi-. Причем форма *ang [h]oi– часто связана со значением " угорь " [1, с. 526]. Вполне допустимо считать, что одно из этих слов обозначало неядовитых " ужей " (и угрей), а другое – ядовитых " гадюк ".
Также, по-видимому, были два разных названия для дикого быка «тура», вымершего в XVII веке родоначальника домашних коров, и для " зубра ": «Общее название „дикого быка“, „тура“ *t [h]aŭro-засвидетельствовано по основным древнейшим индоевропейским диалектам. (…) Можно было бы связать с тем же древним словом особый вариант *st [h]eŭro-:авест. staora-«крупный рогатый скот», готское stiur«бык», др. – исл. stjorr«бык», др. – англ. stēor, нем. Stier… Та же основа с фонетическим преобразованием начала слова выступает в ряде индоевропейских диалектов в значении «зубра»: литов. stumbras, латыш, stumbrsи с упрощением начального комлекса sumbrs«зубр»…Путем фонетического преобразования начального согласного того же слова образуется славянское название «зубра»: древнtрус. зубръ, чешек, zubr, южнослав. *zombru, откуда румын, zimbru«зубр», среднегреческое ζόμβρος «зубр»» [1, с. 519–521]. Так же «зубр» фигурирует и в Википедии [342]. А в словаре на сайте Starling фигурирует еще одно индоевроепйское название: *wisan– «зубр» [343].
С. А. Старостин отнес к общеиндоевропейской лексике названия еще таких животных, как " жаба "/" лягушка ", " ласка "/" хорек ", а также привел три разных слова для обозначения «козы»: *Haiĝ-, *kaĝo-, *dik-/*dig– [268, с. 114–117]. Выглядит вполне логичным предположение, что какое-то из этих трех слов обозначало и «дикую козу», т. е. " косулю ". В словаре на сайте Starling фигурирует ещё одно индоевроепйское название: *rAik'– «косуля» [343]. Кроме того, О. Шрадер приводил названия птиц, которые тоже можно считать предположительно общеиндоевропейскими: цапля (латин. ardea, греч. ερωδιός), синица (древневерхненемецкое meisa, латин. merula), водяная курочка, т. е. камышница (древневерхненемецкое belihha, латин. fulica) [284, с. 51–52].
Еще целую группу индоевропейских названий птиц можно восстановить на основе Этимологического словаря М. Фасмера: грач (укр. гайворон, а также гай «крик галок», болг. гарван, польск. gawran, латин. gajus «сойка»), голубь (общеслав. голуб, латин. columba, персид. kabūd «голубой», kabutar «голубь»), дрофа (славян. *dŕopy, ср. – верхне-нем. trap, trappe, греч. διδράσκω «бегу», древ. – инд. drāti «бежит») [273, с. 383, 432–433, 542], иволга (польск. wilga, ср. – верх. – нем. witewal, латыш, vāluôdze, авест. vārə(n)gan «какая-то птица»), кулик (помимо славянских латыш, kulainis «кроншнеп», kuleinis «лысуха», древ. – инд. kulíkā «какая-то птица») [259, с. 114–115, 410]; сова (древ. – бретон. coanu, кимр. cuan, древ. – верх. – нем. hûwo, древ. – инд. kāuti «кричит»), сыч (латыш. sáukt «звать», «сова», древ. – инд. çukas «попугай»), сокол (лит. sãkalas, итал. sagro, фр., исп., португ. sacre, древ. – инд. çakunas, çakuntis), сорока (словен. sráka, полаб. svorkó, литов. šarke, древ. – прус. sarke, древ. – инд. çārikā «индийская сорока», албан. sorrë «ворона») [247, с. 704, 821, 708–709, 723].
Кроме того, можно утверждать индоевропейское происхождение названий таких животных, как куница (русск., укр. куна́, литов. kiáune, латыш, caûna, древнефриз. сопа, др. – греч. καυνάκης «меховое одеяние варваров», латин. cunnus = vulva), крыса (ново-перс. gerzu «мышь», албан. gerth «крыса», а также тохарское – karśa в слове arśakarśa «летучая мышь»), болотная черепаха (русск. желвак, желвь, церковносл. желы, чешек, želva, греч. χέλυς) [259, с. 417, 389, 41], а также, вероятно, хомяк [248, с. 260–261].
О вероятных общеиндоевропейских названиях таких рыб, как сом, карп, карась, осетр, линь, белуга , см. более подробно раздел 5.3.
Более влажный климат означал в то же время и более снежную зиму. Вероятно, именно этим объясняется и наличие среди фауны более северных, таежных видов: лося, тетерева и рыси. Однако эти виды для Центральной Украины – не такая уж экзотика: «Известны забеги лося в степные районы Полтавской области, а также найдены остатки лося в Донецкой и Запорожской областях» [48, с. 80]. «Со среднего течения Днестра южная граница исторического ареала рыси направляется к Виннице, затем к Киеву, проходя несколько южнее города, идет на Харьков и Белгород, далее на Острогожск (южнее Воронежа). (…) Граница, возможно, проходила и несколько южнее. (…) Во всяком случае, в европейской части страны в XVIII, частью еще в XIX вв. рысь занимала всю область лесостепи» [49, с. 398]. «Видовой состав птиц из плейстоценовых и голоценовых отложений нижнего Днепра почти не отличается от современного. Однако следует обратить внимание на некоторые интересные моменты, например, факт находки костных остатков тетерева далеко за пределами его современного ареала» [50, с. 53].
Осталось объяснить наличие в индоевропейской лексике названий для "льва" и "леопарда" (он же "барс"). «В четвертичное время барсы вне современного ареала жили во Франции, Италии, Англии, Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Швейцарии, Югославии, Венгрии, Румынии. Некоторые находки указывают на обитание этого вида в Европе до неолита включительно» [49, с. 174]. «В Ольвии, в слоях V–II вв. до н. э. были найдены остатки барса (…). Наличие барса на европейских неолитических памятниках делает излишним отрицание европейской прародины индоевропейцев» [34, с. 52]. Т. е. в историческое время леопарды обитали как минимум на юге Украины.
То, что львы в историческое время обитали на территории Украины – доказанный факт. «Показательно наличие в Усатове костей льва, на которого, видимо, охотились в то время» [18, с. 237]. «Высказывалось предположение об обитании или, по крайней мере, появлении льва на юге европейской части страны. Оно связано с толкованием древнерусского термина «лютый зверь». Наиболее известная цитата, которая всегда комментируется, это слова великого князя киевского Владимира Всеволодовича Мономаха (1053–1125) из его «Поучения детям» (1117 г.). Описывая свои охоты в годы княжения в Турове и Чернигове (1073–1094), он между прочим пишет: «Лютый зверь вскочил мне на бедры, и конь со мною поверже». Традиционное старое толкование, подразумевавшее в «лютом звере» волка или рысь, очевидно, неприемлемо: вряд ли эти звери могли метнуться «на бедры» всаднику и, тем более, опрокинуть коня. Сейчас одни в «лютом звере» видят барса, другие – льва. (…) В плейстоцене и голоцене львы в Европе были распространены гораздо шире, чем в историческое время» [49, с. 79–80].
«Еще в VIII–X вв. н. э. львы водились даже на юге Европы, в частности на Кавказе, но ареал этого замечательного зверя неуклонно сокращался» [42, с. 322]. «В р. Десне возле Чернигова найден полный череп льва совершенно недавнего (два-три тысячелетия) возраста. (…) Кроме того, имеется ряд литературных и этнографических указаний на то, что лев был знаком русскому и другим народам Европы не понаслышке, а реально, что хорошо видно по содержанию русских, украинских, башкирских и других сказок, а также по так называемому звериному стилю скифского искусства [рис. 6]. В сообщении Антона Шнееберга о турах Мазовии говорится, что «на них не нападают даже львы» [48, с. 175, 176].
Между прочим, и современные африканские львы могут прекрасно жить в нашем климате. Вот фрагмент из книги о дрессировщице львов И. Н. Бугримовой: «В рижском зоопарке львы жили на огромной территории, почти в природных, первобытных условиях…Была зима, лежал глубокий снег, речушка замерзла, изгородь покрылась инеем. На снегу отпечатались следы огромных львиных лап: их зимнее помещение оставалось открытым, и при желании хищники выходили на прогулку. Когда дрессировщица увидела за изгородью трех очень красивых, могучих, обросших длиннющими гривами и шерстью хищников, то даже не поверила, что это львы, приняла их за каких-то диковинных, особой породы медведей» [311, с. 135–136].









