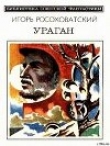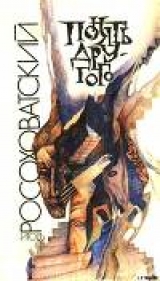
Текст книги "Понять другого (сборник)"
Автор книги: Игорь Росоховатский
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 26 страниц)
– Здравствуйте, Таня.
– О, профессор! Спасибо, что не забыли меня.
– Между прочим, у меня есть имя и отчество.
– Да, да, Иван Степанович, извините. Как хорошо, что вы пришли.
– Врач обязан не забывать пациентов. Как себя чувствуете?
– Отлично. Благодаря вам я могу двигаться, как все.
– Не стоит благодарности. Вы хорошо сказали – «как все». Быть как все – должно стать неотъемлемым правом каждого. Ради этого стоит потрудиться. Не так ли?
– Так, Иван Степанович, остается только преклоняться перед вашей скромностью.
– Оставим комплименты. Правая нога болит?
– Чуть-чуть…
– В последние дни боль усиливалась?
– Пожалуй, но совсем ненадолго. Зато потом почти совсем переставала болеть.
– …И как бы немела?
– Но не так, как раньше…
– Давайте проверим. Здесь болит?
– Нет.
– А здесь?
– Немного.
– А так?
– О-о, не надо!
– Лежите спокойно. Включаю аппарат…
– Профессор, простите, Иван Степанович, вы знаете, что случилось с моим братом?
– Знаю, Таня. Не говорю ничего в утешение. Если брат решил после этого оставить цирк – это его воля…
– Меня вызывали к следователю.
– Вот как, даже следствие ведется…
– Он спрашивал о вас.
– Ну, если уж ведется расследование, то интересуются всеми родственниками и знакомыми, и даже знакомыми знакомых. Такова их задача.
– Но он спрашивал о вас не просто как о знакомом…
– А для вас, Таня, я просто знакомый?
– Что вы, Иван Степанович, вы для меня ближе, чем родной человек, вы – спаситель. Если бы не вы… Если бы вы только могли знать, как я благодарна вам.
– Спасибо, Таня, и вы для меня стали не просто пациенткой, а близким человеком. Мы должны серьезно поговорить о многом…
– Да, да, но не сейчас.
– Понимаю, Таня.
– А вы не забудьте о следователе, Иван Степанович. Очень он интересовался вашим аппаратом. Мне показалось… Мне показалось, будто он считает, что ваше обследование могло повредить Виктору…
– Глупости.
– Я сказала следователю то же самое. Но он остался при своем мнении. Упорно расспрашивал о вас. Я уверена, что он будет вас разыскивать.
– Да я сам явлюсь к нему.
– Правильно! А то думает невесть что.
– Лежите спокойно, Таня.
– Извините, Иван Степанович, вы полностью уверены, что обследование ничем не повредило Вите? У вас нет и капли сомнения?
Он пожал плечами, недоуменно посмотрел на нее; его глаза были пусты, как окна в доме, предназначенном на снос и покинутым жильцами.
11«…Что случилось с моими глазами? Краски то расплываются и блекнут, то слепят яркостью. Я не улавливаю оттенков и, когда смешиваю краски, получается вовсе не задуманный цвет, а какая-то мешанина. Врач-окулист не нашел никаких отклонений, сказал, что зрение в норме. И это называется норма? Да, я вижу дом и дерево напротив моего окна, кисть на столе. Но дом – это просто дом, торжество кубической пустоты, дерево – просто дерево: клен, в точности похожий на своих братьев и сестер. Он почти не имеет собственных отличий, индивидуальности. А ведь раньше тот же клен в зависимости от освещения становился подобен то грозовому облаку, то паруснику с салатово-серебристыми парусами, из-за грозди парусов выглядывало чье-то остроносое длиннобородое лицо. Ствол дерева и ветки имели тоже множество индивидуальных различий – и я мог рассматривать их, изучать, сравнивать, узнавать, воссоздавать на полотне.
А теперь за что ни возьмусь – ничего не выходит: в лучшем случае предметы предстают на полотне будто сфотографированные, – просто предметы, безликие объекты.
Допустим, что врачи ошиблись и я все же заболел. Но почему не почувствовал никаких признаков болезни? Меня не мутит, как бывало перед припадками. Наоборот – дышится легко и свободно, могу пробежать трусцой километров пять и не почувствовать усталости.
Как мне нужен, как необходим сейчас добрый волшебник Иван Степанович! Почему же он не проведает пациента, как обещал? Я уже справлялся о нем в различных клиниках, но разыскать не смог. Жаль, что не записал его адрес, номер телефона. Даже фамилии не знаю. Он не называл ее, а спросить я постеснялся.
Иван Степанович обещал тогда, что видения исчезнут, что припадки не повторятся – он оказался прав. Он не сказал только, что вместе с цветными кошмарами исчезнет и МОЕ, особое, присущее только мне видение мира. Мир станет для меня таким же, как для многих других, – с резкими переходами красок, с обрывками и незавершенностью линий. Но таким он мне чужд. Если бы я не знал его другим, мог бы привыкнуть, примириться. Но как быть сейчас?
Пробовал писать снова и снова. Может быть, в процессе работы что-то восстановится само по себе? Иногда мне казалось, что я снова начал видеть в каждом предмете необычное, оригинальное – одну из его скрытых сущностей, проявленных моим воображением. Я спешил перенести увиденное на полотно. Но, готовясь к выставке, ловил удивленные и жалостливые взгляды моих коллег, членов отборочных и закупочных комиссий. Они как будто спрашивали: ты ли это? Что за бездарная мазня? Куда исчез талант? Я пытался уговаривать себя, что это мне только кажется, что я неправильно истолковываю отношение ко мне других людей, – просто нервы не в порядке.
Наконец два моих небольших полотна все-таки попали на выставку. И случайно я подслушал разговор посетителей: «Неужели это автор «Каскадеров»? Что с ним стало?» – «Бывает. У многих оригинальности хватает лишь на одну-две картины. На этом талант иссякает». – «Но контраст уж слишком разителен. «Каскадеры» – первоклассное полотно. Это был триумф. А все эти «Пряхи» воспринимаются как откровенное подражание. Надо же докатиться до такого. За длинным рублем, небось, погнался?» А когда Сергей предложил мне место секретаря в Художественном фонде, я понял, что и ближайшие друзья поставили на мне как на художнике крест.
Что же делать? Примириться и ждать Ивана Степановича, надеяться, что он каким-то образом вернет прошлое – в крайнем случае, пусть даже с припадками, с кошмарами, но вернет мне МЕНЯ? Вернет время, когда мир вставал перед глазами, полный ярких сочных ассоциаций, когда краски сверкали, будто омытые благодатным дождем, а малейший оттенок прочитывался мной, как откровение, как отчетливая строка? Тогда на меня смотрели отнюдь не с жалостью, а с восхищением или с завистью.
Вчера, когда я вернулся с выставки, мне стало так худо, что показалось: вот-вот возобновятся припадки. Поверите ли, я обрадовался! Мелькнула надежда, что вместе с припадками вернутся прежнее видение и умение. Но вскоре я понял, что меня гнетет просто недостаток кислорода. Уходя на выставку, я закрыл окна и двери на балкон. Стоило открыть их – и дышать стало легче, сумрачное состояние прошло. А отчаяние придавило с новой силой.
Не могу понять, как это случилось, что я раньше забыл, нет, пожалуй, просто на время упустил из виду простую истину – внешний мир соединяется с внутренним миром человека через призмы, и у каждого они свои, особые. Может быть, в этом и состоит предназначение человека – пропуская природу через свои призмы, не только осмысливать ее, но и делать оригинальнее, наполнять своим видением, создавать все новые варианты действительности, своими сравнениями и ассоциациями обогащать ее… Когда-то я вносил в природу по-своему изломанные линии, свои смеси оттенков, измененные – как в комнате смеха – образы, новые сюжеты…
Я вспомнил, как писал портрет одного ученого. У него было очень обычное лицо с редкими бровями, невысоким лбом и тонкими злыми губами. Это был ответственный заказ. Но я старался не только ради заказа. Мне рассказали о работах этого человека в области волновой оптики. Он разработал теорию, согласно которой организмы обмениваются биоволнами. Этот человек был не только крупным специалистом в своей области науки, но и выдающимся философом. Он вторгался своим воображением в святая святых природы. Я хотел написать его как можно зримее и символичнее, но портрет не получался. Я посмотрел уже и фильм об этом человеке, узнал об его общественной деятельности, о том, что в молодости он служил в погранвойсках, был отличным солдатом… Я замучил его расспросами, усаживал перед окном и так и этак: чтобы свет падал на лоб, на глаза. Иногда мне казалось, что и поза найдена, и выражение схвачено. Но на холсте получался не живой человек, а его бесстрастная фотокарточка. Были те же глаза и брови, и губы, и каждая морщинка была выписана, и все пропорции соблюдены, и все оттенки переданы. А в целом – словно щелкнул объектом фотоаппарата, запечатлев на пленке лишь то, что принесли в данный момент лучи света. Получилось правдоподобие, а не правда, – лицо не оживало, как не оживает в колбе сам по себе полный набор аминокислот, составляющих живую клетку.
Мы оба – и он, и я – устали до изнеможения. И однажды, когда он неслышно ушел, а я уснул в своей мастерской, увидел его во сне. Он кричал: «Сколько можно терзать меня?! Я ведь живой человек!» Как сказал бы поэт, «лик его был ужасен», – и все же это был он.
Тогда-то, во сне, я понял, что надо делать, и, проснувшись, принялся лихорадочно набрасывать эскиз. Я сместил тень на нижнюю часть лица, и темные губы на холсте зашевелились нетерпеливо и властно. Я изменил пропорции, – и огромный лоб выплыл из полумглы, как белый корабль, и морщины на нем стали письменами, рассказывающими о замыслах; и глубоко посаженные, вовсе, не как у взаправдашнего, глаза «ушли в себя» – и появился ЕГО живой взгляд.
С той поры прошло много лет. И вот теперь подумалось: так, может быть, тот мир, который я видел во время кажущейся моей болезни, и был истинным, и люди – великаны и карлики – верно передавали соотношение и расстановку в нем? Если это так, то выходит, что припадки были благодатны? А теперь я излечился от самого себя, от видения истинного мира, от прозрения. Не зря же под увеличительным стеклом микроскопа мы видим истину, скрытую от нормального глаза, и не зря человек, обладающий микроскопическим зрением, мог бы показаться окружающим людям психически больным, так же, как казался ненормальным зрячий в уэллсовской «Стране слепых». Может быть, тогда, во время моей мнимой болезни, я и был по-настоящему ЗРЯЧИМ, и так называемые цветные кошмары отражали суть мира, а я проникал в сущность предметов и людей и мог быть художником, творцом? А теперь я обречен на _нормальное существование_. Зачем мне такая жизнь?
Неужели возврата нет? Но ведь из каждого положения должен быть выход. Даже лабораторная мышь находит его в искусственном лабиринте.
На сегодняшнее существование я не согласен. Да, «бытие определяет сознание», по сегодняшнее мое сознание требует соответствующего бытия, без которого я отвергаю жизнь!»
12«Слишком поздно… А ведь я ему обещал… Обещал, обещал… Скольким людям я обещал избавление? А выполнил? Баланс не в мою пользу. В пользу Госпожи. Опять выиграла она и ее баловни. Они бы сказали этак небрежно: «Невозможно. Природа этого не допустит. Дает одно – отнимает другое». Выбирай, человече. Это и есть твоя грошовая свобода, живой автомат, робот из плоти, и крови, биохимическая машина, пытающаяся постигнуть себя и окружающий мир. Вот именно – ОКРУЖАЮЩИЙ. А возможно, наибольшее воздействие и на тебя и на этот ОКРУЖАЮЩИЙ оказывает иной мир, находящийся намного дальше и ближе, чем ты себе представляешь, до которого еще не дотянулись ни твои корабли, ни твои приборы? Это он задает тебе загадки. А поэтому и разгадки, и рычаги происходящего следует искать там. Но как искать, если до него не дотянуться?
Вот и тычемся, как слепые щенки. И не можем предугадать ни ближних, ни отдаленных последствий своих действий. И говорят нам: «Антиприродны они, а значит – античеловечны».
Но кажется мне, например, что играет против меня Госпожа Природа краплеными картами, как со своим автоматом, все поступки которого ей наперед известны. В таком случае, стучусь я в закрытую дверь. Но стучаться буду. Раз я ее создание и действия мои запрограммированы ею, то другого пути она мне не оставила.
А он погиб – не выдержал, не дождался меня. А если бы и дождался, то чем бы я помог ему? «Открытием» древней истины: твой талант и твоя болезнь неразделимы? Если я вылечу твою болезнь, то тем самым вылечу и талант. Ты станешь точно таким, как другие, нормальные люди. И увидишь окружающий мир таким, каким видят его они – ближе к видению фотообъектива. Полотна твои станут менее интересны, менее оригинальны. А чтобы вернуть талант, нужно вернуть и болезнь.
Но кто же согласится на возвращение болезни, даже ради таланта. Мой аппарат возвращает норму – сносное состояние, нормальные биотоки, стереотипное видение. Большего я не могу – тем более, что большего не смогла и Госпожа. Не смогла же она открыть ничего иного даже для своих любимцев, своих баловней. Ее Дары имеют оборотную сторону, в их сладости скрыт яд.
Но все же Дары есть. Это явление объективное, оно закреплено в структуре и веществе организма. Его можно зафиксировать прибором. Есть люди наделенные и обделенные Дарами. А если это так, то как можно говорить о равенстве людей? Хотя бы – о равенстве перед законом? Ведь тот, кто наделен хитростью, выкрутится из любого положения, употребит закон себе на пользу. А другой, нормальный человек, труженик, прав будет – и то пропадет ни за грош. Нет, не может быть равенства среди людей, пока его не дает нам сама природа. Ее принцип: одному – все, другому – ничего. Так было всегда, но отныне так не будет. Ибо не зря я открыл, чем на самом деле являются Дары. Это – болезни, и их надо лечить. Пусть среди нас не станет ненормальных. Пусть единственным критерием в оценке людей станет Норма и ее Эталон!»
13Следователь Трофиновский опять приехал на квартиру, где жил художник Степура. В прошлый раз его соседа не оказалось дома, – сказали, что отбыл в командировку. Теперь в ответ на звонок за дверью послышались тяжелые шаги и немолодой скрипучий голос:
– Иду, иду, спешу…
Щелкнул замок – и Трофиновский увидел перед собой мужчину лет пятидесяти с как будто бы заспанным мятым лицом. Его спортивная рубашка задралась, брюки с лампасами сползали с большого, выпестованного живота. У мужчины было одутловатое лицо с густыми, будто приклеенными бровями, выглядевшими как щетки. Он удивленно воззрился на следователя, – видимо, ждал кого-то другого, – брови-щетки прыгнули на невысокий гладкий лоб.
Трофиновский представился, и Цвиркун С.И., так значилось на дверной табличке, удивился еще больше.
«Наверное, еще ничего не знает о смерти соседа», – подумал следователь и сказал:
– Я хотел бы спросить вас о вашем соседе.
Глаза Цвиркуна С.И. оживленно блеснули:
– Так я и знал, что до этого дело дойдет!
– До чего – до «этого»?
– Соответствующие органы им заинтересуются. Успел уже что-то натворить?
Будто бы не услышав вопроса, следователь спросил:
– Вы уверены, что сосед должен был что-то натворить?
– Уверен, уверен, – закивал головой Цвиркун С.И.
– Почему?
– Со странностями человек, чтобы не сказать больше, – Цвиркун С.И. покрутил пальцем у виска и подмигнул Трофиновскому. – Жил один, с двумя женами давно разошелся. Да и кто будет жить с таким, ежели – поверите? – цены не знает простым вещам? Однажды какому-то мальцу за картинку отдал свои часы. Ей-бо! Представляете? Смехота!
– Что за картинка?
– А бес ее знает. Обыкновенная, листик бумаги. Но Степура снял часы и отдал. Сам видел, а то бы ввек не поверил. И дружки у него как на подбор – не от мира сего. Начнут судачить о чем-то – чуть не подерутся. Из-за всякий чепухи. Один скажет, что такой-то художник в древности смешивал краски так-то. Говорит уверенно, навроде он тогда рядом стоял. А другой ему возразит. И пошло-поехало. Пена изо ртов летит. Вроде им не все равно. Или о каком-то ученом заговорят, о писателе, или, к примеру, книгу разбирать начнут. Так чуть глаза друг дружке не повыдерут. Так спорят, будто дом проигрывают. Бесноватые какие-то. Хиппи. Особенно двое. Высокий и худой, как жердь, и низенький с гривой волос по плечам и с бачками. Честное слово…
– Вы часто бывали у соседа?
– Что вы, откуда? Он и не звал. Считал себя выше нас, рядовых тружеников. Как же, из другого теста слеплены. Нет чтоб по-соседски на чай-кофе пригласить…
– Откуда же о его друзьях знаете?
– А кричат они так, что и на лестнице слышно.
Трофиновский не стал уточнять, как Цвиркун С.И. умудрялся столько услышать и увидеть «на лестнице» и зачем ему это было нужно. Он уже понял, что собеседник может рассказывать о своем соседе очень долго и не беспристрастно. Поэтому решился прервать словесный поток:
– Не заметили случайно, в последнее время «Перед вашим отъездом к соседу не заходил кто-то новый, не из постоянных посетителей?
– Ваш человек? Подосланный? – Цвиркун С.И. хитро прижмурился, одна бровь почти закрыла глаз.
– Почему «наш»?
– А я сразу скумекал, – заговорщицки сверкая глазами и донельзя довольный собственной проницательностью, зашептал Цвиркун С.И. – Человек тот был вполне нормальный с виду, без всяких там излишеств на голове или в одежде. Одним словом – нормальный вполне, совсем не такой, как Степура и его друзья.
– Опишите его поподробнее, пожалуйста.
– А вы будто его и не знаете вовсе? Серьезно – не ваш? – недоверчиво повел головой и разочарованно протянул. – Ну, самый обыкновенный человек, с маленьким чемоданчиком. Сразу видать – трудяга.
– А ваш сосед не трудился разве? – не удержался Трофиновский.
– Да труд известный. За день намалюет, а потом целый год треплются. Каких-то каскадеров нарисовал, так шум подняли: «Шедеврально, гениально, волнительно!» И зачем только таких государство держит?
Был бы жив Степура, Трофиновский оставил бы Цвиркуна в неведении относительно стоимости труда его соседа. А сейчас не сумел.
– Одну из его картин Англия купила, – как бы вскользь обронил он.
– Ну да! – вскинулся Цвиркун С.И.
– Если на наши деньги перевести, почти триста тысяч заплатили. За них купили медицинскую аппаратуру для новой поликлиники.
У Цвиркуна С.И. отвисла челюсть.
– Если не затруднит, я попрошу завтра прийти к нам в управление. Вы где работаете?
– Да в третьем ателье бытобъединения. Закупочник я. А зачем к вам?
– Поможете дополнить фоторобот.
– Значит вклепался-таки соседушка в историю, – ожил Цвиркун С.И.
Трофиновский не стал его разубеждать. Он попрощался и поблагодарил за беседу.
Разговор в самом деле был весьма полезным и помог следователю уточнить деталь, которая, как он предчувствовал, будет в этом деле иметь существенное значение.
14Уже дважды Трофиновский тянулся к телефону, но на полпути опускал руку. Рано, он еще чего-то не додумал. Уже невидимые нити связали его с тем, кого он ищет, уже он чувствует, как тот уклоняется от встречи, уже маячит перед ним, как бы в тумане, слегка размытая фигура. Конечно, еще Многое не известно, еще не понятно назначение аппарата, его действие: не установлено, кем является «объект» – изобретателем или только владельцем аппарата; действует в одиночку или его одиночество только кажущееся; каковы его цели… На многие из этих вопросов можно будет ответить только после задержания, хотя Трофиновскому кажется, что некоторые из ответов ему уже известны. И вот сейчас он пробует кажущееся от установленного мысленно отделить, прежде чем примет меры.
Откуда-то доносится запах кофе – это коллега Зарядько взбадривает себя перед вечерними занятиями на курсах английского. Не мешало бы тоже походить на курсы, но пока со временем туго, он и так нагрузил на себя слишком много: поэзия, плаванье, альпинизм в короткие летние отпуска…
Трофиновский раздражен: он никак не может понять, почему сейчас так волнуется, почему ему так хочется отвлечься, почему это дело вызывает в нем такие сложные чувства, в которых присутствуют и гнев, и неуверенность. На след он вышел. След четкий, однозначный. Того, кто пытается скрыться, он представляет достаточно отчетливо – во всяком случае, чтобы обнаружить и задержать. «Объект» достаточно самоуверен, раз решился на такое. Получает ли он какую-то материальную выгоду от того, что совершает, или это чистый эксперимент, опробование аппарата, – все равно он не просто заблуждается, а бросает вызов обществу и, скорее всего, понимает это. Потому и не оставляет координат, по которым его сразу бы можно было засечь, а как бы «заметает след». Но «заметает» не профессионально, а по-дилетантски. И Трофиновский уже знает, как и где его искать.
«Почему же я так волнуюсь? Почему вкладываю в это дело столько эмоций? Только ли из-за его необычности, странности? Пожалуй, не только… Оно вызывает у меня слишком много гнева, и образ преступника кажется знакомым, хотя могу поручиться, что никогда не был знаком с ним и никогда не вел подобного дела. Может быть, все-таки встречал похожих людей в критических ситуациях?
Трофиновский старательно пытался вспомнить что-нибудь подобное в практике, но ничего не вспоминалось. В кабинете было душно. Он расстегнул еще на две пуговицы воротник сорочки, походил из угла в угол, поставил кассету с музыкой. Напряжение не спадало.
Человек, находящийся на другом конце цепочки, слишком волновал его, по непонятным причинам вызывал ярость, а следователь никак не мог разобраться, почему это происходит.
Он не мог себе представить, что вызывает у преследуемого такие же эмоции, и тот под их слиянием может поступить совершенно неожиданным образом.
Следователь вновь потянулся к телефону – на этот раз решительней, – позвонил в уголовный розыск капитану, с которым уже неоднократно работал вместе, и попросил организовать посты наблюдения по указанным им адресам. Он знал почти точно, он предчувствовал, что человек с черным чемоданчиком должен будет вернуться к некоторым из своих «пациентов». Первой в атом списке была сестра канатоходца – Татьяна Марчук.