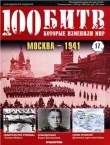Текст книги "Запах пороха"
Автор книги: Игорь Николаев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Вдруг по небу махнул прожектор, за ним другой, третий… Громадные лучи беспокойно кромсали темноту. С минуту они метались по небу, то скрещиваясь, то расходясь, но вскоре схлестнулись в узел и повели по черному своду блестящую точку.
– Трево-ога!
Грохнули зенитки, выстрелы раздавались недалеко от нас. «Бум-бум-бум-бум…»
– Учебная, – беспечно сказал Сашка. Но то была не учебная тревога, то был первый налет вражеской авиации, и никто еще не верил в такую возможность…
А снег валит и валит. В суете я не уловил: с лошади ли соскочил Саша или с саней, а только мы идем рядом и торопливо, перебивая друг друга, говорим:
– Ты куда, конник?
– Вперед.
– Все вперед…
– Гудериана пощекотать!
Я перевожу разговор на другое:
– Видел кого из наших? Не видел?
И вновь изучающе смотрю на Сашу, стараясь уловить в нем каждую новую черточку: и более сдержанную манеру смеяться, и мягкие, не такие размашистые, как раньше, жесты, и еще что-то новое, непривычное.
– Оноприенко здесь, – спешу сообщить. – Был еще Федоров, да…
– С ошейником? – хохочет Ваулин.
– Угу, – вырывается у меня.
– Канту-уется в тылу, болезный! Знаем таких.
– Погиб.
Ваулин догоняет своих, я помалу отстаю. Саша шагает торопливо, все так же ставя ноги носками внутрь.
– Бывай!
– Бывай!..
Каких-нибудь полгода назад мы были совсем мальчишками, нам не чуждо было побороться или просто побегать друг за другом. Чудеса! Саша уже давно скрылся из глаз, а я все смотрю и смотрю ему вслед…
13
Вторые сутки мерзнет залегшая в снегу пехота. Немец не дает поднять головы, люди цепенеют без движения.
На перекрестке слабо наезженных дорог – КП полка. Дмитриев сгорбился над сугробом, рассматривает карту. Это его рабочее место, он кричит в трубку:
– …потери. Все подчищаю!
Уже под Сталиногорском и Узловой потери в полку были значительные. Потом под Плавском… Плавск взяли пять дней назад, а бои продолжаются и сегодня, двадцать пятого.
Кончается декабрь. Войска нашего Западного фронта освободили на этих днях Алексин, Тарусу, Волоколамск. Это большая радость, и кажется, что только здесь, на снегу, чувствуешь, какой ценой дается она, эта радость, радость победы…
По полю перекатывается редкая перестрелка. Дмитриев подзывает меня:
– Принимай роту автоматчиков.
Приказ начальника – закон для подчиненного, но этот приказ особый: я ведь сапер. «Справлюсь ли?» – закрадывается сомнение. Старый командир автоматчиков сегодня погиб в бою, и в полку срочно ищут замену.
– Справишься, сапер, – продолжает Дмитриев, словно отвечая на мое внутреннее сомнение. Рядом с ним стоит комиссар Михайлов и смотрит на меня неотрывно, ждет согласия.
– Есть! – говорю я.
Моя бывшая рота расформирована, в полку остался один саперный взвод – во главе с Оноприенко. Часть саперов я заберу с собой, в автоматчики: со мной пойдут Васильев, Ступин, Буянов, повар Катышев и другие. Получает новое назначение и Чувилин – комиссаром стрелкового батальона.
В километре от передовой раскинулась наполовину выгоревшая страдалица деревня; перед глазами знакомая уже «зона пустыни», лишь один переулок схоронился от огня в овраге. В деревню то и дело залетают снаряды, но я уже почти не обращаю внимания на них: то ли привык, то ли притупились чувства. «Пронесло», – мелькнет и угаснет вялая, вроде не своя мысль.
Захожу в один дом, в другой. Никого! Ни жителей, ни военных. И только в третьей избенке обнаружились люди: в ней расположилась поредевшая в беспрерывных боях рота автоматчиков.
В углу топится русская печь. Небольшой огонь на шестке лижет сковородку, на сковородке шипит мясо. От тепла и сытного духа у меня чуть не закружилась голова.
– Здравия желаем! – раздается приветствие.
С трудом отрываю взгляд от печки. Встречь мне поднимается одетый, как и все, в телогрейку и без знаков отличия незнакомый военный.
– Старшина Кононов, – представился он. С лица его не сходит неопределенная словно бы давным-давно застывшая улыбка. – А вы будете?..
– Новый командир.
– А-га… Есть!
Голос у старшины тоненький. Он продолжает улыбаться и как-то весь подергивается, словно хочет еще что-то добавить.
– Топите? – невольно тянусь взглядом опять к печке.
– Топим-жарим… Поешьте с нами, товарищ командир. А ну, подвиньтесь, – командует он, пробираясь к столу.
Только теперь я разглядел в левом углу стол. На столе лежит брошенный жильцами самодельный нож, щербатая стеклянная солонка, два автомата, масленка, каска, пачка патронов и кирзовая командирская сумка. Сумку тут же подхватил старшина. Пальцы у него чистые, пухлые.
– Прибирайте. Чейное?..
Кононов невысок, но плотен. Лицо красное, щеки похожи на печеные яблоки, густые волосы причесаны на косой пробор. Ему за тридцать.
– Сейчас, – поворачивает он ко мне голову. Потом тянется к окну, вынимает из-под фикуса кафельную плитку и кладет ее на стол. – Подставочка…
– Откуда мясо?
– Да тут, в общем, все законно… Вы пробуйте, а тогда скажем… Все уж наелись.
– Не все, – раздалось со стороны.
Оглядываюсь. Стоит моложавый автоматчик, голова забинтована, косится на старшину.
– Тебе не хватило? – недовольно спрашивает у него Кононов.
– Сержант Шишонок, – представляется тот, не удостоив старшину ответом.
– Брось, милок! Сам же отказался… – еще чей-то голос.
Я разглядываю новых своих бойцов. Они встали. Все без шинелей и маскхалатов, многие без ремней, по-домашнему. Человека четыре с повязками. Ранены, значит.
– Верно, отказался, – благодушно соглашается Шишонок, поправляя сползший на глаза бинт. – Старый бы командир…
В недоумении наблюдаю эту сцену. Но старшина уже режет хлеб, хлопочет у стола.
– Вы не слушайте, – убеждает он меня тонюсеньким голоском. – Вы попробуйте.
Сковорода на столе, из нее несет чесноком. Мясо румяное, аппетитное. Беру кусок на ложку, с жадностью ем.
– Хорошо.
– Плохо ли!.. Вы не брезгливый? – осведомился старшина.
– Нет…
Тогда он признался:
– Конина…
– Колбасу пробовал, а чтоб жареное…
– Убило меринка сегодня, товарищ командир, – уже официальным тоном докладывает Кононов, стоя позади меня. – Вот я и решил: не пропадать же ему.
Потом, позже, мы не раз ели конину. Ничего, терпимо, особенно если не старая лошадь да побольше в мясо чесноку, или перцу, или еще чего острого.
Рота готовится к бою. Автоматчики бреются, набивают диски, чистят оружие.
– Зачем смазываете керосином? – любопытствую.
– Автомат любит ласку и жидкую смазку, – отшучивается старшина.
– А все-таки?
– Замерзает масло: мороз! Задержки…
И я раньше слыхивал, что на таких лютых морозах автоматы, бывает, капризничают. Теперь же пришлось вникать в этот немаловажный, специфический вопрос. Смотрю, как ловко и сноровисто автоматчики щелкают пружинами – заводят диски. Протирают патроны и гранаты, коптят мушки.
Старшина вручает мне автомат.
– Вот вам, проверенный. Старого командира…
Начинаю набивать диски, ждать нечего.
– Пружину – насухо, товарищ командир, – советует мне Шишонок, – а то прихватит.
К вечеру домишко распирает от жары, оконные стекла плачут. У меня нестерпимо зудит отвыкшее от тепла, распарившееся тело. Я чешу лопатки о дверной косяк, на меня смотрит Васильев – он теперь командир взвода автоматчиков – и улыбается.
– Старшина, – говорит он. – Бельишко бы чистое выдал. Перед боем.
– Если есть… поищем… – тянет тоненьким голоском Кононов, посматривая на меня.
– Поищите, – подтверждаю я.
Белье нашлось, и вскоре автоматчики открыли в избе баню. В ход пошло все: деревянное корыто, ведра, чугуны и даже принесенная со двора колодезная бадейка.
Когда огонь притушили, многие полезли париться в печку. А уж оттуда выбирались перепачканные как черти. Потом, довольные, расхаживали голышом по избе, пересмеивались.
– Ни дать ни взять – грешники в аду, – определил Буянов, осторожно плескаясь у ведра.
– Э… от нас грехом и не пахнет… уж месяцев пять! – рассмеялся Шишонок, поигрывая мускулами широкой смугловатой груди.
– Оно и видно. Ржете, жеребцы…
– Ба-атя! Мы воины. А воинам завсегда путь в рай.
– Пути господни…
– Не скажи! Кому что написано. Кто в рай, а кто и к черту в гости… К примеру, старшина…
– Что тебе – старшина? – откликнулся Кононов, раскладывая на столе вечерние пайки хлеба.
– Так, вообще…
– Говори, говори, вьюнош!..
Шишонок не спеша вымыл лицо, встряхнул головой:
– Конятинку потребляешь?
– И что? Голод не свой брат.
– Тьфу! Мутит… – преувеличенно возмущается Шишонок. – Лучше уж лапу сосать.
Старшина перестал притопывать возле стола, иронически глянул на сержанта:
– Душа не принимает, значит?
– Ни в жизнь! Лошадь такое животное…
– Коне-е-ечно, коне-е-ечно. А если сказать – позавчера, не зная, что ты ел?
– Брось, старшина, не шути! Стошнит.
– То-то, вьюнош. Ежели б жареный петух тебя клюнул…
В разговор вмешался Васильев:
– Ладно вам… Вот дома, бывало, после баньки…
– Если жена позволит… – насмешливо перебивает его Шишонок.
– Ты женат ли?
Шишонок смотрит, как с Васильева стекает мыльная вода. Потом со смешком, явно поддразнивая, говорит:
– Зачем? И так…
– Кобель ты, господи прости! – в сердцах сплевывает долго молчавший Буянов.
– Один говорит – жеребец, другой кобель… Кто ж я?
– Да ить… шалопутный ты…
Всю избу заволокло дымом. В печке посменно жарятся мои чумазые подчиненные. Люди моются исступленно, с остервенением, до крови трут друг другу спины, отогреваются за все трудные дни. Я тоже моюсь, хотя залезть в печь не решаюсь.
Васильев плещется рядом, тело у него сухощавое, жилистое. Может, поэтому он и кажется на добрый десяток моложе своих лет, чуть не моим ровесником.
– Раз без семьи, значит, не жил ты еще, – спокойно продолжает он, посматривая на Шишонка. – Так, бегал туда-сюда…
– Он и сейчас бы… – вставляет старшина, сморщив свои печеные щеки. – Только спусти с цепи!..
Шишонок, проходя мимо меня к своей одежде, прикрылся руками. Присмирел.
Странно тут, на войне. Говорят о чем угодно, только не о том, что их ждет через час…
К утру полк ввели в бой. Автоматчиков по снежной целине послали в обход вражеского узла сопротивления.
Часа за два рота добралась до небольшого леска, обложенного со всех сторон сугробами. Обозы по бездорожью не пошли.
В лицо бьет ветер. Ноги с хрустом ломают тонкую корку, вязнут в рассыпчатом снегу. Сугробы не пускают нас в лес, но мы злые! Пробиваемся, пересекаем рощу напрямик. По каскам дзынкают обледенелые ветки.
За рощей – пропаханная в снегу полоса. Значит, какой-то батальон прошел здесь раньше нас. По разбитому снегу идти, кажется, еще труднее.
До меня долетают приглушенные, уносимые ветром обрывки слов:
– …и ветер, будь ты неладен!
– …наш ротный… покойный, бывалоча, впереди…
Я слышу, как меня сравнивают с недавно погибшим командиром роты автоматчиков, и невольно вырываюсь в голову колонны. Под валенком хрупает снежная корка, мне хочется выйти из строя, встать, пропустить роту, а потом стоять, стоять… Когда ж оно откроется – второе дыхание?
– Вкруговую обходим, значит…
Выстрелы остались где-то левее, там одна стрелковая рота продолжает лобовую атаку, чтобы немцы не догадались о нашем замысле. Путь прямой, но неудобный: мы бесконечно карабкаемся по косогорам, пересекаем овраги и рощи, перебираемся через какие-то безымянные, обрывистые ручьи. Нам некогда искать другой дороги. Да и найдешь ли? Снег кругом. Зимнее наступление…
За перевалом внезапно открылись постройки. Это деревня.
Высылаю разведку. Вскоре нам просигналили: рота пересекла огороды и оказалась на улице.
– Вот оно! Без выстрела! – радуются автоматчики.
Дома, сараи, баньки – все целехонько. По улице суетливо носятся подвязанные платками бабы, наперед строя забегают полураздетые ребятишки, во дворах тявкают осмелевшие собаки, пахнет дымком и горячим хлебом. Вскоре выяснилось, что здесь уже прошел наш стрелковый батальон. Тем лучше! Все идет по плану.
В деревне автоматчики поймали дезертира. Дело сразу приняло крутой оборот, кто-то обронил в запальчивости тяжелое слово:
– Расстрел…
Законы войны суровы. За Отечество, за детей своих, за жизнь на земле люди кладут головы. День и ночь смерть витает над солдатом, и если малодушный изменил долгу своему… Пойманному скрутили руки, это был рядовой, лет тридцати. Еще не понимая серьезности происходящего, он почти не сопротивлялся. Возбуждение и гнев солдатский делали свое дело: дезертира поволокли за дом. Только теперь несчастный уразумел, что ему грозит, закричал, стал вырываться и повалился наземь.
Кучка автоматчиков обросла людьми, как снежный ком. Помимо роты сюда сбежались и детишки, и женщины. Над селом поднялся разноголосый крик. Я пытаюсь что-то сказать, но не могу: меня не слышат. В сутолоке ко мне подступился Шишонок. Он моего роста и, пожалуй, возраста, это кадровый боец, автоматчик-ветеран. Вид у него почти такой же растерзанный, как у дезертира: маскхалат спущен до самого пояса, волосы сбились на глаза, лицо мокрое, потное. Он оттирает меня плечом от толпы, хватает за руку.
– Самосуд же, товарищ командир! – кричит он.
Расталкивая бойцов, мы вдвоем пробиваемся в круг. Вдруг над головой бахнул выстрел. Толпа затихла.
– Что здесь?! – с лошади свесился Дмитриев.
– Вот дезертир… – начал я докладывать командиру полка.
– Ну? – Дмитриев спешился, подошел к связанному бойцу.
– Откуда?
– Из бат-т-т…
– Меня знаешь?
– З-з-знаю, – зацокал тот зубами, помалу приходя в себя. Изрядно помятый и весь вывалянный в снегу, он едва держался на ногах. Ни шапки, ни ремня на нем не было… – О-о-отстал…
– Заберите его! – приказал командир своему адъютанту и вскочил в седло.
14
На исходе декабря полк подошел к Белеву. Опустошенные беспрерывными боями стрелковые батальоны насчитывают по тридцать – сорок штыков, в двух батальонах всего два исправных станковых пулемета. А рота автоматчиков после доукомплектования имеет около пятидесяти человек – половина штатного состава.
Затемненный город не виден. Командир полка прохаживается вдоль колонны, высоко поднимая длинные журавлиные ноги. Все с нетерпением ждут возвращения разведчиков. Скоро бой.
В темноте полк обошел город с северо-западной стороны и развернулся в боевой порядок, все в один эшелон. Кругом поле, ни куста, ни деревца. Белая пустота…
В немой тиши движется ротная цепь; идут развернутые взводы: первый, второй, третий. Третий – приданный, саперный, там Оноприенко. Живая цепь выгибается и пружинит, выдаваясь вперед то серединой, то краями. Снег задувает наши следы. Назад пути нет. Бой начался без единого выстрела.
Белая пустота… Тает на горячих щеках снежок. Идут связанные невидимой нитью бойцы.
Я – в центре, за вторым взводом. За Васильевым.
За мной – трое связных: двое своих и один от саперного взвода. И саперы нынче в цепи.
– Без команды не стрелять!
Над полем мгла и тишина.
Но вот слева зачастил «максим». Где-то громыхнуло, пыхнул сноп огня, горизонт оскалился рваными краями, и над городом повис красный отблеск. Оттуда сыпнули трассирующие пули, над землей побежали белые светляки. Длинные пунктиры искромсали мутную даль.
– О-о-о…
Кто-то упал. Взводы продвигаются перебежками.
– Вперед!
В городе рвутся артсклады. Глухие, зловещие удары подсвечиваются яркими вспышками. Красный огненный купол над городом влечет к себе, оттягивая роту чуть вправо, и я ничего уже не могу сделать. Да и не пытаюсь.
Мы – правофланговые полка. Справа от нас нет никого – открытый фланг.
Внезапно замолк сосед слева – стрелковый батальон, не слышен его пулемет. Наверно, залег сосед. Мы тоже не стреляем, идем на сближение.
Впереди виден Васильев, его мелкий, частый шаг. «Ложись!» – хочу крикнуть и не могу. Сбоку проплывают радужные пунктиры трассирующих пуль. Протянуть бы руку, поймать… Но рука стискивает автомат, меня охватывает странное оцепенение. Механически переставляю ноги, отчетливо вижу перебежки в цепи, но сам приземлиться не могу, иду, как заводной. «Я новичок в роте…»
Пули свистят и гаснут где-то в мутно-белом бесконечном пространстве. «Мир безграничен, но не бесконечен…» – вспоминается почему-то. Повторяясь, как эхо, бьется мысль: «Не открыли бы огонь без команды…» Вижу только Васильева, его обснеженная каска плывет перед глазами, как луна в морозном небе.
«Та-та-та…» – ожил вдруг где-то за спиной «максим». Пули летят то через голову, то над самым ухом. А может, и стороной. Ночь…
Хватаюсь за компас, оглядываюсь. Слева от нас никого. Ясно – рота немного развернулась направо и вырвалась вперед, сосед отстал. Теперь его пулемет подбадривает нас огнем в спину. Спасение одно: бросок.
Ночной бой… Людей ведут незримые связи: единый порыв, локоть товарища, дружба, строй. Я знаю, никто не отстанет, живые – в строю. Даже мертвые…
Что-то смутно вырисовывается впереди. Насыпь. Оттуда хлещут в глаза пучки огня. «Взи-и-иу… взи-и-иу… взи-и-иу…»
За спиной постукивают свои.
Порошит тихий снег. По-змеиному тянутся к нашей цепи трассирующие пули. Но изломанная цепь неудержимо несется к насыпи.
Дробно бьют на ходу автоматы. Захлебываются осатанелые очереди: «Тэ-тэ-тэ-тэ…» Тупая, вязкая сила сдавливает голову, плечи, руки, сжимает похолодевшую душу, наваливает на меня каменную гору, гнет книзу. Чугунные ноги намертво прикипают к земле.
Впереди Васильев. Ноги мои с трудом отрываются, и я спешу следом. На живот мне сползла сумка с гранатами. Слетела с головы каска, ветер обдувает волосы.
– …тарщ командир… втором взводе!.. – кричит связной.
Слепое небо разомкнулось над полем боя. Пышет пожаром невидимый за железнодорожным полотном город, в нем рвутся боеприпасы. С хрипом дышат бойцы. Бегут тяжко, уже не хоронясь, не пригибаясь!
Кончился диск. Перезарядить некогда. Выхватываю пистолет.
– …тарщ командир! – не отстает связной.
Но я уже сам набегаю на лежащего Васильева. Сержант уткнулся головой в снег. Руки на автомате.
– Вперед, тру-ус! – машу сгоряча пистолетом.
Связной молча переворачивает Васильева на спину. Сержант не шевелится. «Убит…» – догадываюсь я.
Ласково вьется безразличный ко всему снег, мягко садится на лицо убитого. Круглая ранка на лбу еще не застыла, кровоточит. Я нагибаюсь и приподнимаю его голову. В ладони набегает кровь…
«Дз-у, дз-у…» – поет смерть.
Рядом наступают саперы. Какой-то сдавленный крик, и хрип, и стон вырываются из людских глоток. Зажав в руке пистолет, взбирается по откосу командир саперов Оноприенко; скользя и срываясь от нетерпения, лезет на крутость Макуха; с перекошенным ртом вымахивает наверх Ступин; тяжело трусит грузный Катышев; бежит Буянов. Левофланговый взвод перерезал ветку. Через гребень легко переваливается Шишонок, за ним старшина, потом еще кто-то.
Близится рассвет. Выскакиваю наверх и я. За путями, прямо передо мной, пристанционные постройки, левее – закопченное депо. Вдали виднеются жилые здания. Вот он, город Белев!
На рельсах снег. По линии убегает полураздетый фашист.
– В депо! – командую.
Рота разворачивается влево. Первый взвод пробегает мимо упавшего немца. Фашист приподнимается, в его руке дергается вальтер, и кто-то стреляет в него. Второй взвод проскакивает мимо убитого немца, рассыпается на путях.
Оноприенко с саперами задержался у будки стрелочника. Через несколько минут он догоняет меня.
– Пригрелись, сво-олочи! – задыхается от возмущения Вась Васич.
Взять депо с ходу не удалось. Фашистские автоматчики засели в массивном каменном здании и открыли огонь.
Одна ночь боя… Сколько же сил расходует человек за это время! Вон у стрелки перебегает Буянов, руки у него по-стариковски трясутся, он устал и тяжело дышит, хватает ртом воздух, у него ходит челюсть, он будто жует что-то, и я вижу, как он немолод. За ним вытянулись в цепочку – на полотне между заснеженных шпал – его бойцы, по ним палят немцы, но они жмутся за рельсами и лежат, ждут команды. Какое напряжение нервов, в какой жестокой схватке человеческий разум подавляет взращенное природой чувство самосохранения, какое беспощадное подчинение векового животного инстинкта разуму, какое торжество воли! И мысли. Какими извилистыми, неизмеримыми путями пробегает она, живая и быстротечная, в то мгновение, когда раздается: «В атаку!» О чем успевает подумать человек?..
Утро нас поторапливает. Холодное небо раздвинулось, угрюмые, беспросветные облака ушли куда-то ввысь, и опять ударили вражеские минометы. Звонко брызнули осколки. Я кое-как нацарапал донесение и отправил связного в штаб полка.
Нужно брать депо.
– Из ворот лупит! – крикнул Оноприенко.
– Вижу, что из ворот, – отвечаю Вась Васичу. – Но стреляют еще и сверху…
Мы лежим между рельсами. До здания метров семьдесят, в темных проемах ворот просматриваются подсвеченные полосы. «Просветы в крыше… фонари…» – соображаю.
По фонарям уже бьют автоматчики. Сыплются стекла.
Оноприенко перекинулся через рельс, бросился вправо, к своему взводу. Только бы немцы не разгадали его хитрость…
Мины рвутся со всех сторон, снег брызжет голубыми искрами. Автоматчики и саперы жмутся между рельсами, за столбиками сигнализации, таятся у стрелочных переводов, помалу перебегают вперед. Накапливаются для броска.
Противник тоже примолк. Стреляет только по бегущим. Жуткая тишина… Боец подхватывается внезапно, перебегает два-три шага. «Тук-тук-тук…» – выбрасывает немецкий автомат тягучую, будто замедленную очередь. Бегущий кидается в сторону, падает; десятки глаз смотрят: «Живой?» И опять чей-то рывок, на другом фланге, И снова: «Тук-тук-тук…» Рота охватывает депо полукругом. Противник отстреливается откуда-то из глубины здания, там смутно угадываются верстаки, станки, колеса. Бойцы подбираются все ближе и ближе, сейчас бросок. Это чувствуют и свои, и чужие. Связной протягивает мне заряженную ракетницу. Я задираю ствол…
Рота поднимается. Пули бешено секут камень, в черных провалах ворот сверкают встречные очереди. Над головой все еще тянется дымный хвост ракеты.
Депо зажато с трех сторон, возле него рвутся гранаты. Второй взвод бросается к воротам. Клубы дыма застилают все, внутри закипает короткая перестрелка, и через минуту все кончено. Оттуда выводят пленных.
Через линии прыгает с катушкой связист.
– Ставь здесь, – тычу ногой в снег прямо возле входа в депо.
Меня соединяют с командиром полка.
– Ты где? – раздается в трубке голос Дмитриева.
– В депо! Взяли депо!
От радости и возбуждения у меня срывается голос.
– Ранен? – перебивает Дмитриев.
– Пронесло…
– Батальоны подходят… Сейчас я буду!
Из ворот депо показывается Буянов. Он хромает и в обнимку ведет раненого. Лицо у Буянова строгое, и весь он какой-то новый, подтянутый. Это уже не прежний повозочный.
Рота продолжает бой. Взводы выковыривают немцев из жилых домов, помалу продвигаются вдоль улицы. Улица почти у самой железной дороги.
Люди устали, не обращают внимания на встречный огонь, бредут в открытую. Но это не бравада, просто дает себя знать нервное перенапряжение.
День разгорается по-зимнему светлый. За полупрозрачными облаками угадывается притушенное солнце, разгоряченное тело не ощущает холода. Мне хочется пить, я снимаю с какого-то столбика пушистую макушку и жадно глотаю снег. На путях нет-нет да упадет мина, но я не оглядываюсь, я смотрю на город. Улицы всюду безлюдны, домики пугливо нахлобучили белые крыши на самые окна.
– Тарщ командир, наши!
Оглядываюсь. Верно, левее депо пересекают пути стрелковые батальоны. По сути, каждый из них меньше хорошей роты. Пехота идет быстро, греется. Через рельсы перекатывают станковый пулемет, волочат минометную плиту.
Правее нас тоже подошла какая-то часть, не пойму – нашей ли дивизии или соседней. Бойцы стоят густо, в ротных колоннах, и кажутся свежими и отдохнувшими. А ведь и разницы-то между нашими и этими – всего одна ночь боя. Одна ночь, а как осунулись мои автоматчики, какие серые и заостренные у них лица…
Передо мной неожиданно вырос командир полка.
Тянусь перед ним, мне словно заложило уши, я не слышу ни пуль, ни осколков. Какую-то секунду Дмитриев изучает меня своими умными, много видавшими глазами. Губы у него туго сжаты, по обе стороны рта залегли складки.
– Надень каску, – говорит он.
Кирпичную стену, у которой мы стоим, сечет очередь. Красная пыльца оседает на снег, Дмитриев сердито оглядывается и разворачивает карту. Я касаюсь его рукава.
– Идите внутрь…
Но он прислоняет к стене депо потертую на изломах сотку и красным карандашом жирно отсекает кусок города.
– Зацепились, сапер! – Он по привычке называет меня сапером, и я понимаю, что мысли его сейчас где-то впереди…
Мне пора догонять роту.
– Ступай, сапер, – машет рукой Дмитриев, не глядя на меня. Он уже разговаривает по телефону с кем-то другим.
Кругом пальба, рота ведет уличный бой. Немцы опомнились и, видимо, подбросили резервы. Их автоматчики засели в домах, отстреливаются до последнего. Каждый домишко, каждый сарай берется штурмом.
Светлый день разливается над городом. На свежем, не тронутом с ночи снегу остаются наши четкие следы. Продвигаться вперед с каждым шагом труднее, все тяжелее заставить себя приподнять голову от земли, высунуться из-за сруба, переметнуться от одного укрытия к другому. А нужно.
Нужно взять дом по левой стороне, до него шагов тридцать… С чердачного окна бьет автоматчик, его поддерживает другой, с соседнего двора.
В ближнем уличном бою артиллерия бездействует, тут сошлись смертельные враги грудью, лицом к лицу. Они видят друг друга, чувствуют чужое дыхание…
Дом стоит за оградой. Невысок частокол, а препятствие: поверх нитка колючки. Заботливый здесь хозяин.
– Бутылку в окно! – орет Шишонок. Он лежит возле старшины Кононова. Настороженный, сжатый, готовый вскинуться по первому слову.
– Отставить! – кричит Кононов. – Пожар может…
И только после этого я соображаю, что зажигательных бутылок у нас ведь нет, не брали, ни к чему было.
Шишонок горячечным взглядом ловит малейшее движение, малейшую тень в окнах дома.
Я скорее чувствую, чем вижу, как по-пластунски вползают в соседний двор, по правой стороне улицы, саперы Оноприенко: где-то там засели и прикрывают подход к «нашему» дому немецкие автоматчики. Поначалу казалось, их там трое-четверо, потом мы поняли, что это один. Просто он меняет позиции: то палит из-за поленницы, то из-за погреба, то еще откуда-то.
Шишонок и старшина косятся направо, ждут. Томительно тянется каждая секунда. Шишонок сбрасывает полушубок, подталкивает старшину:
– На частокол…
Оба лежат за сугробом, причудливо наметенным возле старой сухой колоды. Шишонок проверяет автомат и выбивает ногой ямку: упор в снегу.
Боковое зрение схватывает какую-то тень справа. Это сам Оноприенко шмыгнул в соседний двор. Сейчас…
И вот взрыв! Ударила очередь. Еще граната!
Шишонок и старшина метнулись к частоколу, прямо под окно. По окнам хлещут струи огня, бьет с десяток автоматов. Брызжут остатки стекол.
Из чердачного проема вылетает немецкая граната. Крутнувшись, падает возле бегущего Шишонка… Шишонок не останавливается, отбрасывает ее ногой, граната перелетает через забор и пшикает в снегу.
Старшина по пояс в сугробе. Он пробивается к забору, в одну секунду накидывает на ограду полушубок, падает и ползет в сторону.
Из окна прорывается немецкая очередь.
Поздно! Шишонок уже перекатился через частокол, за ним кувыркнулся старшина и еще кто-то.
Из окна – новая очередь. Пули рвут клочья из полушубка.
В оконные проемы летят гранаты. Глухие удары бухают в доме, в клубах дыма мелькают фигуры наших автоматчиков. Конец…
Взводы двигаются дальше. За ними подходит, рассыпаясь на ходу, свежая часть, пехотка…
На левом фланге стрелковые батальоны уже вклинились в городские кварталы. Пехоте не легко: город малоэтажный, возле каждого дома приусадебный участок, сады и огороды перемежаются с надворными постройками, всюду какие-то сараи-развалюхи, курятники, хлевы и голубятни, и все обнесено заборами.
– Че-ерт ногу сломит! – возмущаются бойцы, натыкаясь на частоколы и палисадники.
В переулках бредут поодиночке и в обнимку раненые. Девушка-санитарка волочит к передовой носилки. Кругом стреляют, и девушка приостановилась, удивленно вслушивается в звуки боя. Сориентировавшись, зябко поводит плечами, продолжает свой путь. Следом за ней сбивчиво шагает командир полка.
Перед тем Дмитриев выслушал по телефону резкие и неприятные слова старшего начальника; полк медленно наступает, было сказано. Дмитриев еще раз попытался связаться с комбатами, но из этого ничего не вышло. И он сам отправился в цепь.
Малочисленные сводные батальоны наступают в один эшелон. Их неглубокие боевые порядки простреливаются насквозь, и цепи то в одном, то в другом месте залегают.
Фигура комполка виднеется издали. Он идет стремительно, резко махая руками и по-журавлиному выбрасывая длинные ноги. Цокают очереди, но Дмитриев не обращает на них внимания.
– Где комбат? – это встречному раненому.
– Там… – машет боец рукой на выстрелы.
Дмитриев спешит дальше.
– Где начальство? – опять спрашивает у ковыляющего навстречу бойца.
– Впереди…
Санитарка какое-то время поспешает за командиром, но отстает. Дмитриев скосил на нее глаз и молча пошагал дальше. Перед ним вырос молодой лейтенант: это один из ротных, недавно прямо в бою принявший командование батальоном.
– Комбат один… – начал он рапорт.
– Подтягивайся! – потребовал Дмитриев.
Лейтенант устремился за командиром полка. Дмитриев уже, казалось, совсем не замечал стрельбы, он обходил лежащих и стоящих за укрытиями стрелков, и те опускали головы, словно их уличили в чем-то позорном.
Бойцы начали перебегать вперед, присоединяясь к командиру полка. Людская лавина покатилась вдоль улицы.
– За Родину! За Сталина! – крикнул кто-то.
– Ура-а-а!.. Ура-а-а!..
Обстановка изменилась мгновенно. Пехота рванулась вперед. Занятые противником дома оставались справа и слева, их обходили; часть гарнизонов сдавалась, некоторые немцы отходили, отстреливаясь. А Дмитриев шел и шел…
Длинная очередь нашла его среди улицы. Ему попало в живот. Потухающими глазами обвел он бегущих бойцов и, превозмогая боль, безмолвно опустился на снег. Дмитриев пытался что-то сказать, но язык уже не слушался его, губы сжались, и лицо застыло в затаенной, немного иронической и строгой улыбке…
В тот же день раздались залпы над могилой командира полка, еще один окропленный кровью холмик земли обозначил нелегкий наш путь.