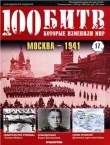Текст книги "Запах пороха"
Автор книги: Игорь Николаев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Запах пороха
1
В штабе – дым коромыслом. Здесь распределяют пушки, винтовки, сапоги, фляжки, подковы, мыло и многое другое, без чего нельзя воевать. Формируется стрелковый полк.
– Ну, как там саперы? – перехватил меня в коридоре Зырянов, высокий, немолодой уже капитан с хорошей выправкой и заметно выгнутыми ногами. На его синих, «чужеродных» для пехоты петлицах – серебряные подковки с саблями.
– Нормально! Отделение разведки выделил, обучаю… Миноискателей нет.
– Получи.
– Нет на складе…
– Будет. Все будет! Народ твой – пеший?
– Пеший.
– Худо… Им не поспеть за конной разведкой.
Зырянов – помощник начальника штаба по разведке, и к тому же кадровый кавалерист. На нас он смотрит как бы с высоты своего седла.
Я прохаживаюсь по коридору, жду комиссара полка. Ко мне подходит лейтенант Пашкевич – командир противотанковой батареи. У него свежее розовое лицо, щеки досиня выбриты. Говорит он весело:
– Куда ни сунусь – всюду временные! Врид, врио, ио…
Действительно, комсостава не хватает, а вновь прибывающих, особенно таких, как я, свежеиспеченных, в первую очередь направляют в подразделения; очумевшие штабники сидят в прокуренных комнатах дни и ночи, тут же, не раздеваясь, поочередно дремлют.
– Понимаешь, мне нужен бк[1]1
Боекомплект.
[Закрыть], а они тянут кота за хвост!
– Может, нету снарядов, – пробую я защитить неизвестного мне врида.
Но артиллерист упрямо стоит на своем:
– Был бы настоящий начальник – достал бы! На этого цыкнут по телефону, он и дышит в тряпочку. А чего бояться? Меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют! Война, друг…
Наконец приходит комиссар Михайлов, ради которого я и толкусь в коридоре. Он долго выспрашивает, куда и сколько человек передано из моего прежнего формирования. Начинаю подробно докладывать, ссылаюсь на документы и распоряжения.
– Испарились у тебя люди! – упрекает он меня, разглядывая сводку и прижимая плечом к уху телефонную трубку. – Да! Да! Есть! Да… – отвечает он кому-то.
Наконец мы с ним находим ошибку и сводим концы с концами. Гора с плеч!
– Не путай гляди, – отпускает меня комиссар. Его смугло-землистое, припухшее от бессонницы лицо тонет в дыму.
Идя обратно по коридору, я думаю: не слишком ли засиделись мы в лагере? Дни бегут, осенние дни сорок первого года… Прошел сентябрь, начался октябрь, а мы все формируемся…
2
– Ну, давай, давай Вась Васич, – уговариваю я командира второго взвода. – Все ж таки добро…
– Пропади оно пропадом! – морщится он и подвигает консервную банку ко мне. Это мы с Василием Васильевичем Оноприенко едим до невозможности надоевший деликатес – «Снатку», который нам систематически выдают по доппайку. Вначале крабы пришлись было нам по вкусу и ели мы их, можно сказать, ложками. Но – сколько можно?
Тут же сидит командир первого взвода.
– Федоров! – заводит его Оноприенко. – Даю вводную: противник с фронта, противник с тыла, противник слева, противник справа! Ваше решение?
– Ну… оценить обстановку… – тянет Федоров.
Оноприенко хохочет:
– Лейтенант Чуб в таком разе командовал: «Взвод, сквозь землю провались!»
– Над кем смеетесь, господа? – морщится Федоров.
Я снова передвигаю консервную банку поближе к Вась Васичу и рассказываю, как в тридцать девятом году привез в Архангельск, в институтское общежитие, арбуз и как мой приятель – северянин ел такую невидаль ложкой. Оноприенко, истый хохол, смеется до колик.
В столовую мы сегодня не ходили – некогда: собираемся на стрельбище. Перед бараком строится рота. На повозку уже погружены патроны, бутылки с зажигательной смесью и старые ручные гранаты – «бутылки». Мысленно проклиная крабов, я забегаю в отгороженную в казарме клетушку, где старшина держит кое-какое ротное добро. Нынче здесь расположился ротный умелец Носов и на скорую руку малюет чернилами на газетах поясные силуэты-мишени.
– Сколько сделал, богомаз?
– Двадцать.
– Кончай.
На стрельбище, как всегда, народу много. Бьют станковые пулеметы, татакают ручные, трещат винтовки и карабины. Отыгрывает сигналы труба.
Мы занимаем свой участок. Назначаю первую смену. Саперы протирают оружие, накалывают на щиты мишени, расставляют в тылу прицельные станки. Во взводе Оноприенко уже заготовили «Боевой листок» – остается ждать отличников.
На огневом рубеже появился комиссар полка Михайлов. Он сразу же подошел к нашей роте.
– Как стреляете, саперы?
– Готовимся, товарищ старший политрук.
Михайлов внимательно посмотрел на меня:
– А раньше рота стреляла?
– Стреляла.
– Ну вот что, брат… Стреляйте получше…
У комиссара необычно серьезный и в то же время рассеянный вид. Он подолгу смотрит куда-то в сторону и, видно, думает о чем-то своем. На гимнастерке у него поблескивает орден Красной Звезды – единственный в нашей части. Говорят, в финскую кампанию получил.
– А верно, товарищ комиссар, будто капиталист может помочь нам? – спросил Носов, с уважением посматривая на редкостный тогда орден.
– Может быть… При условии, конечно…
– Свой своего, значит… – недоверчиво протянул Носов. – Какая польза?
– Не польза, друг мой. Свою шкуру спасать будут!
– Ить шкуры-то у них одной масти?
– Не совсем. Залез же Гитлер к соседям…
Следом за комиссаром прибежал посыльный: меня срочно вызывали в штаб полка. Михайлов обернулся:
– Народ, говоришь, подучился? Так-так…
– Занимались.
– Ну, ступай! Ступай…
По его тону я понял, что вызов не совсем обычный, и стал прикидывать в уме, что и как у меня в роте. Вооружение и боевое снаряжение мы получили почти полностью, а вот что касается учебных пособий, то их почти не было. Различные схемы, плакаты и макеты делали сами. Занятия шли, что называется, с утра до ночи. Так мы учились в финскую войну – я тогда служил действительную в Чапаевской дивизии. Нас хорошо тогда поднатаскали, занимались по десять и более часов, и все в поле, даже политподготовка…
Да, но зачем же все-таки меня вызывают?
В штабе я прочитал первый в моей жизни настоящий приказ. Завтра выступаем.
Ночные сборы… Ротные пароконки стоят возле барака. Чувствуя суету и нервозность, лошади неспокойно мотают головами, дергают поскрипывающие повозки. Где-то около Тулы погромыхивает. Наверное, воздушный налет.
Это подгоняет людей. Саперы движутся традиционным «понтонным» шагом – бегом. Запыхавшийся сержант Васильев – он с недавнего времени старшина роты – озабоченно что-то выговаривает повозочному Буянову, сухонькому и слегка вроде глуховатому красноармейцу. Буянов нестроевик. Он смущенно улыбается и мягко отвечает старшине. Слышно только:
– Мы понимаем… увяжем сено поверх… маненько чувалы… поищем место…
Меня бьет озноб. Я чувствую себя неуверенно, нервничаю. Откидывая сползающий на живот планшет и поддерживая потяжелевший вдруг пистолет, прохаживаюсь между повозок; приказываю, поправляю, помогаю саперам что-то поднять; в третий уже раз забегаю в казарму. В казарме порядок, здесь распоряжается Оноприенко. Он стоит, чуть расставив ноги, и внешне спокойно, неторопливо командует. Но вот он рукой заглаживает набок белесый чубчик, и видно, что у него подрагивают пальцы… Это меня почему-то успокаивает.
Вшестером саперы несут сложенную и зачехленную лодку. Шажок у них мелкий, частый. Командует расчетом Ступин – рассудительный, немолодой уже боец.
– Ступай в ногу. Да держи, держи!
Сам он цепкими руками ухватился за веревку, с побитого оспой лица катится пот. Отделение на одном дыхании подносит лодку к повозке, дюжина сильных рук напрягается, слышно: «Р-р-раз» – и тюк уложен. За ними боком, вприпрыжку трусит Аникей Носов. У него в руках охапка весел, мех со шлангом и деревянная решетка-днище. Он скороговоркой на ходу что-то бубнит подошедшему Васильеву. Но старшина, видно, не слышит, поворачивается к нему спиной и подносит к самым глазам блокнот, тычет в него карандашом. Отмечает, чтобы в спешке не забыть чего.
«Так и оставлю Ступина отделенным», – решаю. А Ступин уже повел своих, только слышно, говорит Носову:
– Что трешься около? Поспешай!
– Там-от… и четверым делать нечего. Захекались… – громко, чтоб слышал старшина, ответил Носов. – На пристанях, бывало, центнер…
– Пяти пудов не выкинешь, – усомнился Ступин.
– Выкину, – неуверенно произнес Носов, чувствуя и сам, что прихвастнул. С виду он рыхлый и нескладный, а движения у него ловкие; в разговоре смешно задирает голову, отчего острый подбородок еще больше вытягивается. Говорит он по всякому поводу, выказывая себя знатоком в любом деле, хотя к нему никто всерьез не прислушивается.
Я иду дальше и на самом проходе встречаю командира первого взвода.
– Проверь, у всех ли противогазы.
– Есть! – Федоров поднес к каске руку. Он, как и полагается, в полной боевой форме. Отношения между нами, несмотря на должностное различие, оставались по-курсантски демократичными.
– Не сосчитал ты порции сегодня в столовой, и вот что из этого вышло, – мягко, по-приятельски укорял я Федорова.
– Ты же не сказал мне!.. – с обидой ответил он.
– Соображать нужно… – легонько жму я.
– Уж как-нибудь, не хуже других! – вспыхнул Федоров, пытаясь сохранить свою независимость. – Вот Вась Васич знает…
– Бро-ось! – не выдержал спокойный и всегда дисциплинированный Оноприенко.
Мы – командиры, это звучит. И сознавать приятно. «В самом деле, не каждый же может быть командиром! – щекочу себя. – Командир – это особенно…» Мы все: и бойцы, и комсостав – привыкли уважать это слово с детства; мы – то поколение, у которого слово «командир» связано с образом Чапаева, Щорса, Котовского…
Еще раз осматриваю бледное лицо своего сверстника. Он сегодня вроде чужой. Из просторного ворота гимнастерки торчит непривычно голая, по-юношески худая шея. Ага, на нем же нет грязноватой нашейной повязки, ставшей уже притчей во языцех! Разбинтовался, значит.
Мимо проносят ящики с патронами и гранатами; кладут в повозку продукты и связки уставов, учебную – с просверленным казенником и погнутым штыком – трехлинейку, валят ломы, кирки, лопаты, кузнечные и плотничьи инструменты, фонари, ведра. С полкового склада пришла пароконка с противотанковыми минами. Поверх мин старшина закидывает мешок с запасной обувью и обмундированием. Повозочный подвязывает лошадям торбы с овсом.
– Много еще добра?
– Есть…
Часа в три ночи меня повторно вызвали в штаб. Получив карту и нанеся маршрут, возвращаюсь в роту. Над знакомым, чуть видимым лесом зависло сонное небо. На востоке оно особенно темное. Ночь стоит теплая. Из раскрытой двери протянулась желтая полоса, она изломами спадает по ступенькам, поднимается по колесу повозки и высвечивает ржавые, еще не сбившиеся шины. Повозка уже укрыта брезентом и увязана веревками. Вижу, как Буянов трогает на вальках постромки, потом забирается на дышло, меж лошадей, и что-то там поправляет.
Ко мне подходит старшина:
– Товарищ командир, погрузка закончена. Сдаю лишнее имущество.
Имущества остается порядочно, все то, что мы не можем поднять на колесо, да многое и не нужно нам теперь – столы, стулья, тумбочки, ружейные пирамиды, кровати… Приемкой распоряжается незнакомый мне упитанный лейтенант с самодовольным лицом и двумя перекосившимися кубиками на новых полевых петлицах.
– Щукин! Пересчитай у них наволочки! У меня чтобы точно! – кричит он куда-то в темноту. После этого уже и вовсе неприятно смотреть на него, хотя понимаю – формально он прав.
Скоро выступать. Предрассветное время тянется медленно. Освободившиеся люди посбились в кучки, курят и о чем-то тихо переговариваются.
Возле самого входа в казарму собралось человек двадцать. Оттуда доносится громкий голос Носова:
– Ежели недостача в роте – что тогда? Известно что! Грузит старшина фуру… ненужным всяким. И – под огонь! Чтобы, значит, снаряд ударил. Скажите – зачем? А затем, доклад потом начальству: так и так, мол, разбито.. Погибло, значит…
– Ло-овко…
– Хэ-хэ!.. А генерал возьми да и сочти, что на повозке, – продолжает Носов. – А та-а-ам… Вагон! Приписано, значит. Зачем? Затем! На чужом дышле в рай хотел старшина… Фокус!
– Не ври, брат.
– Ить было… в ту войну.
– Сам-то ты… видел? Аника-воин… – лениво спрашивает кто-то.
– Было – не было… Чего пристал?
Откуда-то пахнуло сырым ветром. На березе у казармы колыхнулась ветка. Темень стала таять, над лесом растянулась светлая мережка, завиднелась непривычно порезанная колесами песчаная линейка.
– Вытягивай! – командую.
Рота двинулась по линейке, обставленной портретами, лозунгами и плакатами. Так начался наш трудный путь.
3
В стороне от дороги, возле перелеска, присел, пережидая день, серебристый, обмякший аэростат воздушного заграждения. Возле него копошились бойцы. Дальше, под масксетью, обкиданный завядшими сучьями, настороженно торчал орудийный ствол. Зенитчики рыли в стороне запасной окоп. Не переставая копать, они поглядывали нам вслед, один бросил окурок и махнул рукой. И долго еще виднелся установленный возле них плакат, на котором боец в каске, указуя пальцем, грозно спрашивал: «Ты чем помог фронту?»
Полк движется по Московскому шоссе. Саперную роту поставили в хвосте полковой колонны. Вдобавок в общей сутолоке в роту вклинился какой-то тыловой обозик. Поднялся шум:
– Куда прешь?! – возмутился Васильев.
– Командир приказал.
– Стой, говорю!
– Ну-ну…
Повозочные размахались кнутами, в выражениях не стесняются. Пока я подоспел да вмешался, пришельцы отрезали две наши повозки и втиснулись в строй. Так, вперемежку, мы и двигались до привала.
На привале к нам подъехал НИС – начальник инженерной службы полка Гуртовой. Это чернявый щеголеватый лейтенант в суконной пилотке и хромовых, еще из училища, сапогах.
– Привет! – прервал он нашу склоку и соскочил с лошади. Из-под откинутой полы его шинели выглянули синие с голубым кантом брюки.
– Далеченько вы… – заметил он, снова хватаясь за луку седла.
– Займем свое место.
Это был первый малый привал. Его устраивают через пятнадцать – двадцать минут после начала марша, чтобы устранить всякие неполадки.
Пользуясь коротким отдыхом, бойцы курили, проверяли снаряжение и балагурили.
– Вот! Теперь и перематывай свою портянку, – сказал Ступин Носову, который чуть не с первого шага канючил, просил разрешения выйти из строя. – Отстанешь, где тебя искать, шалопутного?
– Я-т всегда найдусь! Обоз рядом… А что? Подъехал бы чуток. Вона землячок правит… Верно?
– Верно-неверно… Пусти вас, все к обозам прилипнете, – проворчал Ступин. – Ходи со своими. Втягивайся.
Носов притворно охнул, нехотя снял туговатый сапог и сделал вид, что поправляет портянку. Потом тяжело вздохнул и, ни на кого не глядя, стал сосредоточенно обуваться. Наконец обернулся к Ступину:
– Портянки прохудились…
– Другие получишь… – Отделенный терпеливо ждал своего подчиненного. А тот все ворчал:
– Души в тебе нет. А как же? Командир должен быть к солдату…
– А солдат к командиру – как? Не, милок, не то… С первого дня киснешь…
Вскоре по колонне раздалось:
– Стано-ви-и-ись!
Не уставшие еще люди легко поднимаются, бросают окурки и выходят с обочин на дорогу. Ветерок относит в сторону облако сизого махорочного дыма. Свежий рассвет бодрит. Красноармейцы затягивают отпущенные, провисшие под тяжестью подсумков, фляжек и шанцевого инструмента ремни.
Мимо нас ехал в голову колонны командир полка Дмитриев. Высокий и худой, он сидел на коне немного сгорбившись. И хотя лошадь у него крупная, по нему, он все равно напоминал Паганеля. Такое сравнение мне показалось смешным и даже неприличным. Чтобы не фыркнуть, я отвернулся. А Дмитриев, как назло, обратился ко мне:
– Отчего тебе весело?
– Так, товарищ майор…
Командир полка, повернув голову, с секунду серьезно и строго смотрел на меня. Ну и секунда. Наконец он шевельнул длинными ногами и проехал вперед.
Колонна трогается. На прямой, скатывающейся под уклон дороге колышутся людские прямоугольники. Далеко впереди двигаются низко пригнувшись, с зачехленными стволами орудия, цокают колесами станковые пулеметы, надрываются в упряжках кони, и опять люди, люди, люди… Все-таки это сила – стрелковый полк!
К концу дня подразделения растянулись. Промежутки между взводами, ротами, батальонами заполняются отстающими. Колонна дергается, идти уже трудно, чувствуется усталость.
Кое-кто из саперов натер ноги. Васильев посменно подсаживает по два-три человека на повозки, а некоторые и без его разрешения сложили туда вещмешки. Я смотрю на все это сквозь пальцы, рассуждаю: «Первый день – тяжело. Потом втянутся». Я иду впереди роты. Рядом со мной, слева, невозмутимо вышагивает Оноприенко. Справа волочит длинные ноги прихрамывающий Федоров.
– Ты что?
– Ничего… – крепится он.
К вечеру роту вывели-таки в голову колонны. Теперь мы идем за пешими разведчиками – конные километрах в пяти впереди – и видим, как четко, по-уставному движутся головной и боковые дозоры. Временами они скрываются в перелесках или кустарнике, а потом снова выходят на чистое место и выравниваются, стараясь держаться уставного интервала. Издали в сумерках кажется, что они более всего озабочены тем, чтобы не потерять равнение. К тому же идут дозорные в ногу, как на учении.
Подъезжает капитан Зырянов. Его красное, в синих прожилках лицо неулыбчиво, он чем-то озабочен.
– Топаем? – обратился он ко мне и, соскочив с лошади, передал ординарцу повод.
– Топаем, – ответил я начальнику разведки. – Что новенького?
Зырянов долго шагал молча, потом сказал:
– Начал фриц на Брянском…
С ударов по войскам Брянского, а через два дня, 2 октября, по войскам Западного и Резервного фронтов началось наступление немцев на Москву. Части Красной Армии оказывали упорное сопротивление, самоотверженно отбивали атаки танков, которые поддерживала авиация. Мы с тревогой читали скупые сводки, тревога отпечаталась и на лице капитана Зырянова. Он долго шагал с нами, затем вскочил в седло.
На ночлег мы расположились в большом селе. Саперы примостились кто у повозки, кто у забора, кто где… Поснимав вещмешки, дремали устало, переговаривались:
– Чайку бы, слышь?
– И пожевать можно…
Часа через полтора квартирьеры отвели нам несколько домов. Расположив людей и оставив старшину хлопотать насчет ужина, я отправился искать штаб полка. Когда я вернулся в роту, мои люди уже поужинали.
Я нашел Васильева, сообщил пароль… Старшина к этому времени позагонял ротные повозки во двор. Мы зашли в отведенный дом. Со стенки мигнула «летучая мышь». Рыпнула хромка. В большой комнате – человек десять. Сидящий возле стола Буянов при виде меня положил гармошку и встал, за ним медленно поднялись и другие.
– Сидите. Играйте, – попросил я и пристроился на свободной табуретке.
Играет Буянов неважнецки, беспрестанно повторяет одно и то же. Он помогает себе, двигая открытым, по-смешному перекошенным ртом, и выражение лица у него такое, словно человек выполняет тяжкую работу.
Но вот кто-то сидя начинает притопывать ногами.
– И-и-эх!
Ага, это Носов. Вот ведь и ноги теперь не болят! Он становится перед гармонистом, дробно пристукивает каблуками и тихо подпевает.
– Играй громче, глухота! – требует он.
Буянов рвет мехи. Хромка давно сбилась с мелодии, голоса фальшивят, басы хрипят невпопад.
– Давай, давай! – подгоняет Носов и грохает каблуками что есть мочи. Руки у него оттопырены. Он уже вспотел, но не сходит с круга.
Музыкант и танцор смотрят друг на друга. Их подбадривают:
– Даю-ют…
– Плакал черт – ноги потер!
Плясун запыхался, с трудом выдавил:
– И душа грешна, и ноги виноваты…
Буянов жует раскрытым ртом, ерзает на стуле – чувствуется: утомился. Музыку его никто не слушает, да она уже и не нужна: каждый – сам себе музыкант. Все прихлопывают в ладоши, громко разговаривают, хохочут и ждут – кто кого.
– Твоя взяла, – сдался наконец гармонист.
Носов победно глянул вокруг:
– То-то! Не замай…
После пляски быстро разошлись. Я лег и моментально провалился куда-то, успев только подумать: «Идем на войну…»
4
Настоящая усталость ощутилась на следующее утро. Саперы шли хмурые, неразговорчивые. Один Носов что-то громко рассказывал и сам же смеялся.
Полковая колонна тянулась наизволок, упираясь на горизонте в свинцовую, стесненную деревьями заслонку неба. И лошади, и люди через силу переставляли ноги.
Но вот живую людскую ленту всколыхнул встречный автомобиль, по колонне побежала мягкая волна. На время людские головы и штыки запрыгали нескладно, вразнобой.
Только к обеду я ожил и стал подбадривать отстающих.
– Подтяни-ись! – механически командовал, хотя видел, что на красноармейцев это почти не действует. Равнение в рядах и шеренгах не держалось. В строю было тихо, слышались только топот ног, цоканье копыт да монотонный, усыпляющий стук колес.
Носову и сейчас не молчалось:
– На рубеж, сказывают, нас. Копать…
– Закройся! Копать пехтура будет, – ответил ему кто-то.
– Всем хватит, – примирительно рассудил Ступин. Он поднял руку и снял с нависшей кленовой ветки багровый лист.
И опять голоса:
– Значит, в действующую…
– Дойдет ли сюда фронт?
– Ну, мы дойдем! Не зря чистое белье понадели.
– Известно! А говорят…
– Говорят – кур доят! До фронта тут, брат… Считай, от Брянска до Тулы…
– До Тулы? Меряй до Серпухова!
– Тогда уж – по смоленской дороге считай.
– Так… От Смоленска, выходит, еще сотни четыре километров.
Третьего октября сорок первого года противник занял Орел. В последующие дни наши войска оставили один за другим старинные русские города: Спас-Деменск, Юхнов, Мосальск, Карачев, Брянск…
Полк остановился в нескольких километрах от Серпухова, на берегу Оки, развернулся фронтом на юго-запад. В этот же день мы начали возводить оборонительный рубеж.
Погода стояла пасмурная, сырой ветер то набегал порывами, то стихал, спускался к реке и вздымал на воде мелкую и частую рябь. За рекой были видны синие полосы леса и по-осеннему тусклые, неприветливые луга, а на самой реке, прямо перед глазами, серели фермы моста.
На пойме грязно. Но никто не удивлялся и не возмущался, всем казалось, что так и должно быть. Все заняты работой: взмахивая лопатами, дружно и напористо копали землю стрелки; оборудовали огневые позиции артиллеристы, минометчики и пулеметчики; на высотках обозначились еще не замаскированные, видимые даже издали НП, между ними сновали с катушками связисты.
Саперную роту поставили на заграждения. Расходовать небольшой запас мин здесь, на тыловом рубеже, нам не дозволили, а колючую проволоку еще не привезли, и неизвестно, привезут ли. Поэтому оба взвода прикрывали стрелковые окопы необычными средствами: загоняли в землю заостренные кверху колья, полосой в два-три метра. Позади кольев выкапывали ямки. Считалось, что перепрыгнуть эти колья вражеский солдат не сможет, а если все же попытается, то попадет ногой в ямку и получит травму. Достоинством этого заграждения являлась хорошая маскировка – свежезаостренные белые колья измазали грязцой, за что саперы тут же получили замечание от какого-то проезжавшего верхом начальника:
– Неаккуратно работаете, саперы.
– Так мы ж… – начал было оправдываться Федоров, но озабоченный начальник только махнул рукой.
Первый взвод работал на левом фланге. Сам Федоров чаще всего стоял, нахохлившись, в стороне или уходил к стрелкам и там подолгу беседовал со знакомым лейтенантом-пулеметчиком. Но его отсутствие не мешало делу.
– На носилки, на носилки! – командовал Ступин Носову, который рыл очередную ямку-ловушку. Носов притомился и откидывал лопатой светлый приречный песок небрежно, обелял вокруг себя траву, демаскировал заграждения.
– Подметем, – тихо оправдывался он.
– Не подметем, а сразу!
Носов не спеша утерся рукавом. На губы ему попал песок. Он поелозил губами по воротнику, сплюнул:
– Тьфу, зараза! К майским дням баба во дворе, помню…
– Насчет баб ты, это самое…
– …клумбу цветочную кирпичом обкладывала. Для красивости.
– И что?
– Нам бы обложить… – усмехнулся Носов.
– Глядь, каб тебя не обложили… Дай сюда! – Ступин забрал лопату. Его грубоватое, побитое оспой лицо стало сосредоточенным.
Лопата с маху уходит в землю. Еще раз, еще и еще… Обрубленный пласт дерна подрезан и осторожно отвален в сторону. Ступин привычно опускается на колено и выгребает мокрый, слежавшийся песок.
– Я уж лучше сам, – не выдержал Носов и протянул руку.
Ступин, не переставая копать, локтем отвел его руку. Закончив, отложил лопату и осторожно прикрыл ямку дерниной. Кругом – ни одной песчинки.
– Понял? – спросил он уходя.
Носов долго смотрит вслед отделенному, затем берет лопату и намечает очередную ямку. Кто-то из товарищей любопытствует:
– Постигнул?
– Замолчи! Я давно постигнул! – вскинулся Носов. – Я погреб копал, и то ничего…
– Оно и по твоей лопате видно… Взялся цыган…
– Лопата у меня в руках – ого! – не заметил иронии Носов. – Помню, годов пятнадцать было мне… А тетка и говорит: «Сладил бы погребок, Аникуша…» Как не сладить, думаю? Да и нельзя отказать, крутовата родственница. Журчит ласково, а и по загривку, если что… За неделю в сенцах выкопал. Накат, как в землянке, сделал. «Приходи завтра, – ласково так просит тетка, – пирогом угощу».
– Пошел?
– Наведался. А что? Дай, думаю…
Вдалеке виден Федоров, он отрывается от дружка-пулеметчика и нехотя направляется к своему взводу. Ветер раздирает полы его длинной шинели. Федоров поворачивается к ветру спиной, и я слежу за ним долгим, не очень дружелюбным взглядом. И опять слышу голос Носова:
– …не говоря худого слова, огрела меня тетка, аж искры из глаз! Взвыл я, братцы! Она испугалась – ну меня обнимать. «Голубчик, – грит, – я не хотела». Мне не легче, а тетка приговаривает: «Покрыша в погребе негодная… Не сдержала меня».
– Вот так тетка! – восхищались саперы, поглядывая на меня: не отругал бы за разговоры…
Прохожу мимо: пускай почешут языки, пока есть время.
– Значит – раненый ты. Как бы обстрелянный…
Не уловив, сочувствие это или насмешка, Носов молчал. А прежний голос задорил:
– Выходит, это тетка отбила тебе па́мороки. В детстве…
– Смех смехом, братцы! А не зря мы тут копаем… – заявил Носов, переждав хохот. – За речкой крепко можно сидеть!
– За речкой… Вперед нужно!
Утро чуть брезжит. Кучка красноармейцев сбилась возле мелкого окопчика. У одного бойца подсумок сполз за спину, у другого воротник шинели поднят, у третьего примятая пилотка съехала на ухо. Иной еще не отошел от сна, а тот уже подтянут, заправлен и толкает сонного товарища, прыгая на одной ноге:
– Протри глаза, ворона!
– Ты еще штаны утюжком, – ворчит разлохмаченный приятель.
Кругом слышались приглушенный говорок, хлопки отбиваемых о бока ладоней. На серебристой траве чернели следы от сапог. Едкая роса пробивала обувь. По часам – начало шестого. Стоявшая под кустом кухня уже дымила, и кто-то препирался с поваром:
– Кипятку пожалел, пузатый.
– Иди, иди.
– Ну, котелок, едрена палка!
– Возьми топор, погрейся.
После завтрака саперы вновь принялись за работу. Горячий чай не согрел их, ноги затекли и застыли во влажных сапогах и портянках, не снимавшихся на ночь; спали, сидя в мелком, наполовину отрытом окопе, прислонясь спиной к сырому песчаному откосу. С вечера зажгли было костерок, но сразу же притушили: демаскировка. Ночь мерзли и сейчас никак не могли согреться. Не оттого ли так отчетливо вдруг вспомнились мне жаркие дни после выпуска из училища?
…Поезд торопился, в окнах мелькали рябые стволы берез. В душном вагоне нас двадцать человек – выпускников. Нам хотелось выглядеть старыми армейскими волками, мы разговаривали степенно и сдержанно, о войне судили свободно, запросто двигали туда-сюда армии и фронты.
Вскоре к нам подсел какой-то опытный вояка. Попутчик – лейтенант оказался человеком общительным, и мы узнали, что едем в одно место, а фамилия его Пашкевич.
– Страшно ль на войне? – вопрошал он, лихо откидывая съезжавший на живот большущий футляр артиллерийского бинокля. И тут же предупреждал: – Скажу чистую правду… Не трус – не страшно. Сдрейфил – каюк!
Мы сдвинулись поплотнее. Рассказчик тронул рукой фуражку.
– Значит, жмет фриц! Танки… – он махнул рукой и обвел всех посуровевшим взглядом. – На батарее осталось полторы калеки!
Прямо против него сидел с разинутым ртом долговязый Федоров. Рядом с ним ерзал на скамейке и толкался локтями рыжий, веснушчатый Саша Ваулин, еще дальше – спокойный Оноприенко. Этот повернулся вполоборота к артиллеристу и смотрел недоверчиво, лишь кадык шевелился у него.
– Прице-ел!.. Тру-убка!.. – кричал в азарте рассказчик. – Горит коробка! Другая…
– …третья, четвертая… – нетерпеливо досчитывал Федоров. Он хватался рукой за свою нашейную повязку и валился вперед, почти к самому лицу фронтовика. Но тот не обращал на него внимания.
– Осталось одно орудие… Сам навожу… Лезет танк…
– Пятый!.. – услужливо подсказывал Федоров.
Но батареец окончательно вошел в раж и уж совсем ничего не слышал.
– Вынимаю бинокль… – Пашкевич лихо сорвал с груди футляр и раскрыл его. Оттуда посыпалась махорка.
Часам к десяти над поймой прояснилось. По-вчерашнему резкий, порывистый ветер гнал куда-то разрозненные хлопья облаков. Выглянуло солнце.
Внезапно на мост вышли два «юнкерса». И почти в тот же миг из воды поднялись фонтаны. Взрывы ударили негромко и нестрашно, все смотрели на реку, ожидая новых взрывов. Но самолеты уже проскочили, и только теперь мы услышали неприятный, раздирающий вой. Бомбовозы сделали еще два захода, но мост остался цел.
– Обнаглел фашист… – вздохнул Носов.
– Поджимает нас, собака! – добавил кто-то.
– Ночью гул доносился… – опять Носов.
С правого фланга вдоль переднего края шагом движется небольшая группа всадников. Они часто останавливаются и, сбиваясь в круг, о чем-то толкуют, потом опять растягиваются позади высокой, издали отличимой фигуры командира полка Дмитриева. Вскоре они поравнялись с нами, я доложил о ходе работ. Дмитриев повернулся в седле к немолодому майору, командиру батальона, и ткнул сложенной вдвое плеткой в направлении заграждений:
– Огоньком прикрыть и посадить бойцов с бутылками КС. Тут не пройдет!
Глаза у Дмитриева лихорадочно блестят, сжатые губы будто вырезаны на сухом, иконописном лице, голос отрывистый, четкий.
– А ты, сапер, – обращается он ко мне, – побольше сажай этого чертополоха. Здесь стык.
– Людей мало, – отвечаю.
– Инженер, подкинуть!
Из-за его спины выступает начальник инженерной службы полка Гуртовой. Мы видим его в эти дни редко: он совсем замотался.
– Из второго эшелона роту… – уточнил комполка, доставая по привычке из кармана небольшую зеленую книжицу – справочник Гербановского «Укрепление местности». – Инструмент есть?
– Есть, – ответили мы с Гуртовым в один голос; хотя инструмента было маловато, люди нам все равно требовались позарез.
Дмитриев тронул лошадь, но опять остановил, продолжая что-то обсуждать с комбатами; возле саперов задержались только командир противотанковой батареи Пашкевич и минометчик Скоробогатов. Они так увлеклись, что не заметили, как отстали от кавалькады.