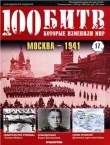Текст книги "Запах пороха"
Автор книги: Игорь Николаев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Краснощекий Пашкевич небрежно скособочился в седле и, похлопывая коня по холке, дразнит:
– Минометы – не артиллерия…
– Я вызову тебя на дуэль! – отвечает темноликий, в одну масть со своей видавшей виды шинелью Скоробогатов. Он украдкой сосет из рукава папиросу и сплевывает.
Пашкевич усмехнулся:
– Берегись, у меня прямая наводка…
Спор прервал командир полка:
– Ну-ка, рыцари-дуэлянты, как у вас с огоньком?
Артиллеристы замолкли и подхлестнули своих лошадей.
Среди дня небо сыпнуло белой крупой. Солнце светило как-то немощно, дальний заречный лес то оживал и синел, подсвеченный холодными лучами, то хмурился под набежавшей тучей.
– Значит, тут и бой примем, – задумчиво сказал Носов, глядя за реку.
– По всему видать… – ответил Ступин и добавил: – Копай, копай, милок.
5
Враг нажимал на вяземском и брянском направлениях. Двенадцатого октября пала Калуга, а через два дня – Калинин. Еще через несколько дней наши войска оставили Можайск и Малоярославец. На некоторых участках бои шли в восьмидесяти километрах от Москвы. С двенадцатого октября в столице ввели осадное положение.
Но мы еще не видели врага. Немцы топтались на подступах к нашим позициям, километрах в десяти – пятнадцати. Мы ждали боя…
Неожиданно нас сняли с рубежа. Опять полк потянулся длинной извилистой колонной по грязной осенней дороге.
Шоссейка поднялась в гору, втиснулась в улицу и пошла через город. До самого поворота мы беспрестанно оглядывались. Внизу, под горой, виднелись наскоро замаскированные брустверы уже обжитых и родных, как дом, окопов.
Сложные и, видимо, схожие чувства одолевали всех нас. Не хотелось уходить с места, где мы ждали встречи с фашистами. Было как-то неловко, стыдно перед собой и перед товарищами. Все мы понимали – кто-то будет стоять здесь насмерть.
День слякотный. К ногам липнет жидкая грязь. Вдали, над церковной колокольней, носятся, по-щенячьи тявкая, возбужденные галки. Душу сжимает тоскливое чувство чего-то далекого, безвозвратно утерянного. Хоть бы выстрел ударил или колокол…
– К Москве ближе… – сказал Носов.
– Значит, так нужно, – отозвался Ступин.
– Прекратить разговоры! – в сердцах оборвал их Оноприенко.
Какое-то время рота идет молча. Громыхают коваными колесами повозки. С тротуаров на нас посматривают редкие прохожие. Слева, возле телеграфного столба, стоит мальчонка. Он продрог, но не отводит глаз от военных, так бы, кажется, и ушел с нами. Красноармейцы поворачивают голову к ребенку, получается «равнение налево», только шаг тяжелый, походный. Вдоль колонны проехала легковушка, за стеклами – сосредоточенные лица командира и комиссара дивизии.
Вскоре полк повернул направо.
– Сошли с большака, – заметил неугомонный Носов.
– От авиации…
Но мы уходили почти строго на восток, все более удаляясь от возведенного рубежа. Мы были уверены, что нас срочно перебрасывали на более горячий участок фронта, что это необходимый маневр. О готовящемся контрударе под Москвой мы понятия не имели. И хотя смутные, неосознанные ожидания чего-то нового, поворотного в войне уже родились в наших сердцах, на душе оставался тяжелый и печальный осадок, чувство было такое, словно ты драпаешь с передовой. По телу разливалась усталость, не хотелось думать ни о чем. Не только люди, даже лошади чувствовали общее настроение: шли, низко опустив голову, ноги переставляли вяло и совсем не реагировали на понукания.
На большом привале к роте подкатила кухня.
– Бери ложки, бери бак! – сыграл кто-то на губах.
Кухня приткнулась под деревом на обочине. Кашевар достал черпак, обтер фартуком.
– Подходи!
Взвод Оноприенко выстроился первым. Ловкий повар ухитрялся одной рукой вливать в подставленный котелок щи, другой – накладывать в крышку кашу.
– Плесни-ка еще чумичку…
– Добавку потом. Следующий!
Хорошо уваренные щи источали аппетитный дух. К котлу подступил взвод Федорова, и в это время подъехал Гуртовой. Не сходя с седла, он потребовал у меня саперов.
– Пообедайте с нами, – приглашаю своего начальника.
– Давай срочно людей! – торопит Гуртовой. – Дорожная труба провалилась, комполка ругается… Пока привал – отремонтируем.
Взвод Федорова получает обед. Приходится поднимать людей Оноприенко, хотя и они лишь первое доедают. Видя такое положение, старшина быстрехонько наливает в котелок щей и подносит Гуртовому:
– Перекусите, товарищ лейтенант!
Гуртовой механически взял котелок и кусок хлеба. Однако спохватился, глянул на часы и с сожалением вернул посудину:
– Поставь, Васильев. Потом… – но хлеб сунул в карман.
Второй взвод торопливо строился. Красноармейцы доедали щи, вываливали из крышек в котелок неначатую кашу, укладывали и завязывали вещмешки.
– Хоть пожрать бы…
– Там доедите, – спокойно отвечает Оноприенко. Сам он тоже не успел пообедать.
Вместе со вторым взводом ухожу и я к этой не ко времени обвалившейся трубе.
– Болото. Не объедешь… – сокрушался Оноприенко.
И верно, выстилка объездов заняла бы слишком много времени. Решили восстановить дорогу. Оноприенко оставил часть саперов расчищать опасную промоину, а остальных послал заготовлять лес тут же, в тридцати шагах от трубы.
С сожалением смотрели мы, как падали подпиленные березы. И жаль было их, и материал неважнецкий, да ничего не попишешь: некогда искать; что под рукой, то и брали. Саперы работали споро, руководил ими сержант Макуха, расторопный весельчак, незадолго до войны отслуживший срочную и не успевший еще износить армейскую форму. Отделенный чувствовал себя во взводе так, словно здесь и родился. Он продолжал точить лясы:
– Перед войной хотел было жениться, да костюм подвел, во!.. Пока искал пиджачок – невеста сбежала…
– Этого добра…
– В нашем кооперативе завоз…
– Тю! У нас без кооператива находят.
– Это как же? – Макуха прищурил глаза. Его красные пухлые щеки распирал смех.
– В одиночку. Всяк сам себе…
– Чудно!
– Да кто ж тебе будет женку подбирать?
– Во! Костюм, говорю.
– Тоже – рассказал… Ел не ел, а за обед почтут! Этак и Носов, из того взвода, может отмочить.
Макуха не обиделся за такое сравнение. Он ступал вслед за пильщиками и тюкал топором, смахивая с поваленных деревьев сучья. Под ногами вязко. Ему, видно, не хотелось лишний раз переступать по мокрому, и он с одного места тянулся далеко по стволу, доставая топором упругие ветки. На самой макушке поваленного дерева сержант заметил что-то белое. Заинтересовавшись, перебрался по кочкам, встал на лесину, протянул руку и снял большой бумажный лист.
– Во! Газетка на дереве, – сообщил он.
Пильщики приостановились. Один заметил:
– Высоко произрастает «Правда»! Не враз добудешь…
– В самом деле – «Правда», – вслух удивился сержант, расправляя газету. – Каким ее ветром занесло?
– Ветра теперь скрозь, командир.
– Однако, свежая. Сегодняшняя. – Макуха разглядывал газету. – Сводка вот. «Доблестные немецкие войска успешно продолжают наступление на Москву. Победный конец войны уже…»
Тут только до него дошло. Он замолк и уставился в текст. Стало ясно – в руках у него искусная вражеская подделка под «Правду».
6
В середине ноября началось второе наступление на нашу столицу. Из рук в руки ходили газеты с крупными заголовками: «Отстоим родную Москву!», «Разгромим врага!».
На нашем направлении противник тоже рвался вперед. Не сумев взять Тулу, пошел в обход, захватил Венев и медленно, но упорно продвигался к Кашире.
В эти дни мы находились вблизи Каширской электростанции. Она продолжала работать. Пожалуй, только наш вытянутый на марше полк и напоминал здесь о войне: сложная, динамичная обстановка уводила нас куда-то дальше, где мы были нужнее… На изгибах и поворотах дороги было видно, как одно за другим топают знакомые подразделения. Мне отчетливо запомнились почему-то два бронебойщика; они несли тяжелое противотанковое ружье на плечах, а к длинному стволу были подвешены вещмешки. Впереди них здоровенный детина держал в готовности ручной пулемет, чтобы стрелять по самолетам. Но авиация нас пока не беспокоила. Только однажды пара «мессершмиттов» неожиданно прошлась над колонной и свалила лошадь.
На привале командир первого взвода затеял беседу со своими подчиненными. Саперы расселись на обочине, вдоль канавы. Земля после дождей была влажная и холодная.
– Товарищи! – звонко, во весь голос взывал Федоров. – Нужно четко понимать сложность обстановки… налагает на нас вдвойне… смело выполним…
Люди курили, почти не слушая пылкую речь своего хилого, всегда безынициативного взводного, посматривали на него с нескрываемым равнодушием.
– Слышь, дезертира поймали, – решили проходящие красноармейцы, поглядывая на пылкого Федорова.
– Припечатают.
– Перед строем его!..
– Эх-ма! Был человек – нет человека…
Слева от дороги виднеется село. От большака к домикам вьется вдоль ручья полоса голого ракитника да сереет по берегу колесный следок. Небо как бы придавило рощи, поля, огороды, дорогу. Даже птица летит низко, еле взмахивая мокрым крылом.
Федоров расслабленно подергивается всем телом. В последние дни у него хорошее настроение, он стал общительнее, разговорчивее и порой забывает о своих хворобах. Вот только по-прежнему любит поучать всех.
– Вы, товарищ рядовой, старайтесь держать равномерный шаг! Не длиннее и не короче. Для сохранения сил расчет нужен…
– Есть.
– А вы, командир отделения, следите. Учиться надо! Учиться, учиться и учиться… Кто сказал?.. – Федоров увлекся, неопределенно помахал рукой и неожиданно улыбнулся: – Не легко нам, но каждый шаг приближает…
К ночи роту направили ремонтировать разгрузочную площадку, и к саперам заглянул комиссар полка.
– Устали люди, – заикнулся было я.
– А если в бой? – спросил Михайлов.
Да, жаловаться не резон. Но ведь часто бывает: скажешь невпопад, а потом спохватишься. Я удрученно подумал о своем невольном промахе, но комиссар уже чему-то смеялся и что-то рассказывал мне. Слов его я не слышал, но понял так: моя жалоба забыта. Однако, уходя, Михайлов все-таки сказал:
– Так оно и будет. С марша – в бой, из боя – на марш.
На месте выяснилось, что работа предстояла несложная. Взводы тут же, возле линии, стали табором и городили из брезентов укрытие. По полвзвода остались отдыхать, остальные пошли с инструментом к полотну.
– На руках вынесем, ежели… Санки – не танки, – подбадривал Ступин.
Стали ладить из шпал клетки – на всякий случай: вдруг колесная техника окажется в эшелоне, не одни сани.
Ночь стояла черная, но глаза привыкли к темноте. Накатанные рельсы блестели. Тихо и согласно пели натянутые по-над землей семафорные провода. Хрустел под ногами гравий.
Позади установленного навеса, под деревом, раскинули походную кузницу.
– Ковалю подмогнуть надо, – слышу в темноте голос Оноприенко.
Ротный кузнец, неразговорчивый красноармеец в тесной, ползущей по швам фуфайке, ворочал колоду с наковальней. Повозочный Буянов закрепил над горном лист фанеры – маскировка; снял с повозки и принес мешок с углем, который достал старшина где-то в деревне.
– Угля привез, – доложил Васильев как-то ночью, после трудного дневного перехода. – Кто ищет…
– Зря лошадей гоняешь, – ответил я. – Да и повозочному отдых нужен.
– Пригодится, – не сдавался старшина. – Скоб и прочих поковок мало. И где их искать на ходу?..
Теперь-то я оценил хозяйственность и предусмотрительность Васильева, а тогда в одно ухо впустил, в другое выпустил…
– Деревня будто и большая, а людей нет, – рассказывал он. – Ни трезвых, ни пьяных. Одна детвора трется у заборов… Спрашиваю, где мастерские эмтээсовские? Прохожая старуха кивнула на законченное строение, я – туда. Дед какой-то в спецовке скучает, ключами звякает. «Кузня, – спрашиваю, – работает?» – «Аль подковы нужны?» – «Уголь. И подковы, ежели лишние…» – «Кузнец наш сам где-то подковами цокает… Под навесом уголь. Нюр, покажь!» Из кособокого прируба вышла деваха с черными, по-мужски широкими ладонями, в прожженной телогрейке и стеганых брюках. Из прогоревших мест торчат клочки ваты. Старик сказал: «Кузнечит молодка, жена ушедшего на фронт…»
На путях загромыхал товарняк. Тяжело груженные вагоны наплывали черными тенями, отсчитывали ночное время: «так-так… так-так… так-так…» Не наш, не остановился.
У горна, уже раздутого, – неторопливый разговор:
– Ай нужна закалка? – голос Буянова.
– Нужна. Железу.
– Известно, железу… Люди, они тянут… И люди, и лошади.
Кузнец бросил в ведро откованный штырь, в воде пшикнуло.
– Пока молотком машу – и в руках, и всюду упругость… Ну к старости, понятно… слабость.
– Именно!
– Как мужика не закаляй, а уж ничего, брат, не поможет… Хоть в холодную воду, хоть в горячую…
– Тебе-е до старости!
– Я – что? Я дождусь конца. Ну, полгода, еще, ну – год.
– Кто знает… – Буянов тихо вздохнул, зацепил ногой ведро.
И опять тихо. У линии саперы ровняют площадку под клетку – для эстакады.
– Ступин, еще на штык! – потребовал Васильев.
Ступину лет под сорок, но он подвижен и сноровист, из тех, чьи руки все могут. Не глядя ни на кого, он поплевал на ладони и руками вогнал лопату в землю по самый черенок.
– На Днепрогэсе закалялись… Слыхал?
– Слышал.
– Покидали земельку. Вот он, механизм. – Ступин оторвался от лопаты и приподнял сильные, как рычаги, руки.
Кругом засмеялись. Кто-то из молодежи посоветовал:
– Не хвались, батька! Нынче – техника.
– На технику надейся, а сам не плошай!
– Ну-ну… Хватил! Есть же механизмы. Канавокопатели и другие…
– Солдатик роет – где пуля свистнет! А там твоих копателей и духу нет!
После дневного марша чувствовалась усталость, хотелось спать. Поодаль прополз маневровый паровоз, своим лязгом он окончательно заглушил разговор, слышалось только: «дзинь-дзинь, дзинь-дзинь…»
После задания мы с Оноприенко, Федоровым и Васильевым расположились у сухонького, необычайно бодрого и живого старичка, бывшего наездника.
Весь дом, все убранство живо напоминали о прошлой профессии хозяина: стены были увешаны уздечками, мундштуками, подковами, пожелтевшими от времени грамотами, выписками из родословных лошадей и снимками знаменитых призеров. На гвозде висела жокейская шапочка, но особо выделялся на стене небольшой литографский портрет Льва Николаевича Толстого.
– Почитаю-с… – сказал старик, перехватив мой взгляд. – Святыня, а нынче враг туда… Зачем это?
Бои у Тулы приобрели большой нравственно-исторический смысл. Это вытекало не только из особого положения города-оружейника. Это определялось также драматичностью событий в Ясной Поляне – памятнике духовного богатства русского, да и не только русского народа. Многие люди на Западе в те времена искали объяснение стойкости русского человека в «Войне и мире». Новый гражданин социалистической России все еще заслонялся у кое-кого каратаевским характером.
– Ничо-о лошадки, – вслух отметил Федоров.
– Хм… – снисходительно улыбнулся старик. – Элита!
– Понимаю. От эллинов, значит.
Мы с Оноприенко хмыкнули, но Федоров не обратил на это внимания и продолжал.
– Ну как же, от греков! А сейчас не ездите?
– Сейчас я стар. Сейчас немец со всех сторон прет! – отрезал хозяин. – До скачек мне… Скачите сами, молодцы! До самой Москвы! Расскакались!
От этого разговора тоска меня взяла, я вышел. В соседних дворах оживленно. Морозец подсушил грязцу, под ногами хрустела земляная корка. Свежий, бодрящий воздух приятно обдувал лицо и успокаивал.
Первый взвод занял два дома здесь же, по нашей стороне. Я завернул в ближайшую дверь, с порога услышал шумок и по голосу узнал Ступина.
– Гляди куда! Сапог сгорит.
Разложив на табуретках масленки, протирки и ветошь, саперы чистили оружие. Почти все босиком, сапоги и портянки – у печки. Ступин отодвигает от распалившейся докрасна дверцы чью-то обувь. По взглядам понимаю – Носова.
У шашечной доски нависли Васильев и Федоров, который умудрился опередить меня. Партия только началась, но стороны знакомы по прежним встречам. И Федоров и Васильев настроены благодушно, прощают взаимные промахи, дают перехаживать. Федоров, как обычно, поучает:
– Всякая победа закладывается с самого начала. Так-то, старшина! Замысел. Расстановка сил. Разведка. Правильное начало предопределяет…
– Вы всегда правильно начинаете, – ровным, безобидным тоном произнес Васильев. Но все поняли – это намек на частые проигрыши Федорова. Федоров вообще-то соображает неплохо, у него, как говорится, «котелок варит». Но он начисто лишен выдержки и терпения, он не может довести до конца ни одного своего плана. Так у него в игре, так и в жизни.
– Шашки – игра военная! – продолжал Федоров. – Здесь, брат, тактика! Маневр. Предвидеть нужно…
– Во всяком деле…
– Здесь особенно: не-об-ра-ти-мые процессы. Тут, брат, нужен копфен! Голова. Понял? Ты вот петришь…
– Куда нам!
– Шахматишки – еще лучше! Суворов как говорил? Русский офицер должен уметь танцевать, играть в шахматы… И еще что-то, не помню.
– Воевать? – угадывает Васильев.
– В этом роде! Но – шахматы! Понял? И шашки, конечно.
Я сажусь к огоньку и вроде бы про себя говорю:
– Скачки! Действительно – скачки. Не пора ли остановиться?
Но рассуждаю, оказывается, вслух. Саперы смотрят на меня с удивлением: заговаривается ротный.
7
Уже было совсем холодно, и нас экипировали по-зимнему: выдали стеганые брюки, телогрейки, валенки, полушубки. В таком виде хоть на снегу спать! Отовсюду докатывалось, что немец одет легковато. Поговаривали, с холодами мы возьмем свое, покажем ему кузькину мать!
Зима была не за горами. Наши обозы «переобулись», мы поменяли колесный транспорт на санный. Подвезти что-либо к месту работ стало почти невозможно. Хотя поля уже белели, дороги оставались голыми, бесснежными. Взмыленные лошади рвали сбрую и, тяжело поводя боками, падали.
В первых числах декабря саперов сняли со всех заданий. Стало ясно – ожидание наше кончилось, мы пойдем в бой. Все говорило об этом – и суетня старшин, спешно дополучавших со складов имущество, и внезапные наезды незнакомого начальства, и прекращение незаконченных работ, и требование всяких справок и сводок, и проверка «паспортов смерти»…
Как раз в это время и завьюжило. Сильный снегопад наконец открыл санный путь. Поначалу мы радовались, но снегу все прибывало и прибывало.
На рассвете пятого декабря мы выступили. Мороз – птица замерзает на лету. С непривычки першит в носу. На дворе темно, хотя темнота какая-то подбеленная, деревья стоят, словно в маскировочных халатах. Глаз скользит по белому мареву, не останавливаясь на отдельных предметах. Да их и нет, этих предметов. Все сровнялось, потерялись привычные границы и контуры. Дорогу можно распознать только по ряду бегущих оснеженных столбов с толстыми, в палец, мохнатыми проводами.
Красноармейцы надели шерстяные подшлемники, из широких вырезов торчали только пыхающие парком носы да посиневшие губы. Люди и лошади, сани и оружие – все заиндевело. В холодном прозрачном воздухе слышался скрип саней да лошадиный храп, растянувшийся длинной лентой полк словно плыл. Колонна почти не выделялась на местности. Размытый горизонт затерялся где-то: не различить ни земли, ни неба.
Повозочные пробиваются по целине, обочь саней. Буянов шагает с закрытыми глазами, торкаясь варежкой в задубевший брезент.
– Уснешь, дядя!..
– Не-е, тарщ командир! – откликнулся он и открыл глаза. – Маненько призадумался… – Он тут же нашел себе работу: забежал вперед и, поравнявшись с лошадьми, поправил на них сбрую, хотя все там исправно, хлопнул по крупу, подбодрил старательного меринка.
И опять тягучее безмолвие…
Тихо подходим к застывшему на самой середине проезжей части попутчику-грузовичку. Это тягач полковых минометов. А вон и сам командир, Скоробогатов, он стоит в стороне и спокойно беседует с озябшим расчетом. Номера молча слушают одетого в шинель-ветродуйку начальника и пританцовывают. Позже его дружки-командиры смеялись, говоря, что это был первый и последний случай, когда у Юры Скоробогатова отказала техника. Скоробогатов и внешне всегда выделялся приятной собранностью и аккуратностью. Даже перед совещаниями в те редкие минуты, когда комсостав сходился вместе и в ожидании начальства пробавлялся шуткой, Скоробогатова не покидало выражение какой-то естественной сдержанности. Доклады его отличались точностью. Он прекрасно знал свое дело и относился к числу тех людей, в которых веришь, что называется, с первого взгляда.
Скорость нашего движения невелика. Так, наверное, когда-то возили чумаки соль на волах. К пословице «Тише едешь – дальше будешь» теперь стали добавлять: «от того места, куда едешь»…
Опираясь на палку, рядом со мной ковылял Федоров. Идти ему действительно тяжело: под шинель кроме гимнастерки и теплого белья он умудрился напялить меховую жилетку и еще ватную фуфайку. Туго перетянутая шинель топорщится из-под ремня складками, как юбка. Я боюсь обидеть его смехом и только киваю головой на свою идущую за санями верховую. Федоров понимает меня, швыряет в сторону палку и неуклюже кидается к лошади. Но вскоре продрогший в седле Федоров опять очутился возле меня. Он еще больше хромает, припадает то на одну, то на другую ногу.
– Что? – спрашиваю.
– Холодно, и натер места…
– Садись на сани!
– Да я… – неопределенно тянет Федоров и, минуту поколебавшись, уходит к саням. Буянов подсаживает его, приговаривая:
– Маненько отдохните, отдохните…
Оноприенко с Васильевым по-своему откомментировали это небольшое событие.
– Вот и потери у нас, – сказал Оноприенко.
– Баба с воза!..
– Навоз…
На привале саперы столпились возле кухни, прижимали руки к котлу и кидали в топку бумажки, пустые спичечные коробки, конверты – у кого что было, – чтобы поглядеть на огонек и вдохнуть горьковатого дымка.
Подъехал начальник инженерной службы Гуртовой.
– Замерзли? – спросил он, видя, как сержант Макуха вынул ногу из валенка и подвернул под портянку газету.
Мы с Гуртовым зашагали по дороге.
– Подготовь отделение. С разведчиками пойдут, – сказал Гуртовой.
– Есть! Карту нужно?
– Вместе будут действовать, Зырянов обеспечит… Миноискатели проверь, смени батареи. Мороз.
Ни я, ни мои саперы не видели еще немецкой мины. Какая она? Что это за противник?.. Я впервые по-деловому, а не отвлеченно подумал об этом. И тут же спросил:
– Что, близко?
Гуртовой разомкнул посиневшие на ветру губы, блеснул золотым зубом:
– Уточняют… Был в Серебряных прудах, у Михайлова…
– Скоро тронемся?
– Ждут приказа.
К ночи колонна втянулась в село. Саперная рота заняла один дом, люди заполнили и жилую комнату, и сенцы. Грелись на ногах, понимали: стоянка кратковременная, вроде привала – полк вот-вот вступит в бой.
Газет сегодня не доставили. А тем временем политрук Чувилин принес из штаба отпечатанную на тонкой бумаге сводку Совинформбюро. В ней ничего особенного, но в ожидании важных событий люди строили всяческие предположения и по нескольку раз перечитывали одни и те же строчки.
В последние дни рота наконец-то обзавелась постоянным политруком. А до этого в отделе кадров от меня отмахивались, как от кусачей мухи: «Ты и так скомплектован. Подожди». Обещал и комиссар Михайлов, даже прислал было одного, да тут же забрал куда-то в другую роту.
Федор Чувилин – не из кадровых. У него темные и жесткие, как щетка, волосы, быстрые глаза и угловатое волевое лицо. При среднем росте он в свои тридцать с небольшим тяжеловат. Из-под расстегнутой вверху фуфайки видны неровно разбросанные на петлицах кубики. Несколько дней мы подчеркнуто «выкаем» друг другу: он из почтения к моей кадровой закваске, я – из уважения к его возрасту. Потом на одном из совещаний у комполка Дмитриева нам обоим за что-то изрядно влетело, и в этом общем горе мы незаметно сблизились.
Собрав солдатские треугольники, Чувилин обратился ко мне:
– Давай, что ли, твою писульку.
Я отмахнулся от него: некому писать, не сохранил я никаких связей. Собственно, у меня их и было немного. А тут немецкое наступление на родной моей Украине обрезало и последние нити.
Постукивает по крыше ветер. Сквозь маленькие, до черноты запотевшие стекла заглядывает в хату пасмурный день. Тоскливо воет вьюга.
– В каком ухе звенит? – дурашливо спрашивает Носов.
– В левом, – отвечает Ступин.
– Тю ты! Ложку потерял…
Странное дело, накануне боя и красноармейцы, и командиры говорят о чем угодно, только не о бое, если не считать обязательных, так сказать, служебных разговоров. А служебных разговоров не так-то много, речь чаще всего идет о самом обыденном: связи, донесениях, шанцевом инструменте, транспорте. Перед боем мы вдруг все становимся очень хозяйственными и в этой деловой суете коротаем томительное время.
И Ступин, и Васильев, и Носов, и многие другие кажутся мне очень давнишними, хорошо знакомыми и понятными людьми.
Вот только Федоров…
Ночью, когда я вернулся из штаба, все спали вповалку. В темной избе было душно, несло махорочным дымом: кто-то недавно курил украдкой. Мигнув фонариком, я снял шинель и почти на ощупь пробрался на оставленное мне место под столом. Рядом головой на противогазе лежал Оноприенко.
– Где Федоров? – спросил я.
– За ним пошли, – неуверенно доложил проснувшийся Ступин.
«Пошли… Куда пошли? К пулеметчикам?» Я припомнил, что у него там были знакомые. Во мне закипела злость: «Без спросу ушел, оставил взвод!» Жду появления Федорова, намереваюсь отчитать его как следует, но мне вдруг вспоминается его болезненность и неприспособленность, какая-то внутренняя беспомощность; вспоминается училище и вечное отлынивание хилого Федорова от физзарядки; вспоминается нераспорядительность и многословие.
– Товарищ красноармеец! – начинает, бывало, Федоров. – Сходите к старшине, получите у него дополнительно лопату, наточите ее на точиле и вместе с этим вот товарищем красноармейцем протрассируйте вон ту линию. Потом вымойте лопату, смажьте и отнесите старшине. Да не потеряйте чехол и тренчик! Повторите…
У красноармейца скучные глаза. Сбиваясь, он повторяет приказание:
– Есть, сходить и получить лопату и точило…
– Только лопату! Повторите!
– Получить только лопату и сдать старшине…
– Да вы что, товарищ красноармеец? Я же приказал коротко и ясно! А если бы дал сложную тактическую задачу?
Злость моя растаяла. Мне просто жаль Федорова. Даже его всегда грязноватая нашейная повязка кажется необходимой и, может быть, единственной защитой этого слабого человека, который так тогда и пропал, словно в воду канул…