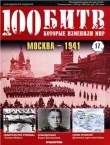Текст книги "Запах пороха"
Автор книги: Игорь Николаев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
8
Лютует тридцатиградусный мороз. Рота, растянувшись, пробивается по глубокому снегу. У каждого сапера в руках две противотанковые мины. Люди идут нагнувшись, стараясь хоть как-нибудь уберечь лицо от ветра. Ветер шаркает по щекам, зло посвистывает и выдувает из-под ног бойцов сыпучие белые струйки. Идти по занесенным грядкам неловко. Ступни подвертываются, заснеженный огород кажется бесконечным.
Впереди Оноприенко. Поравнявшись с большим, видно, колхозным садом, он приостановился, что-то беззвучно скомандовал и опять упрямо склонился на ветер. В саду работают малознакомые армейские саперы.
– Мины в саду… – сказал кто-то из моих.
– Яблочки Гитлеру! – донеслось в ответ из сада.
И опять все замолкают. Холод не располагает к разговорам.
Низкорослые деревья жмутся распущенными, заиндевелыми ветвями к сугробам. Возле снежной лунки стоит молоденький высокий лейтенант и держит в руках противотанковую мину. Изо рта у него пыхает белый пар. Он с жаром вразумляет своих саперов. Ба-а, да это же наш Федоров, вот где он нашелся! Я подлетаю к нему, за мной Оноприенко.
– Ты почему? – грозно начал я с ходу. – Ты где?
– Болел… В лазарете… Перевели меня… Приказ… – В нем видна боязнь, как бы я не сказанул о нем чего-нибудь лишнего и нелестного при новых подчиненных, и он заверяет скороговоркой: – Сейчас подойду. Подойду… сейчас…
Опять болел… Мы с Оноприенко отворачиваемся, невольно ускоряем шаг и выходим в заданное место: у нас тоже дела.
Первая установка боевых мин, первое настоящее задание. Саперы действуют медленно, с опаской, и это понятно: даже мы с Оноприенко до сегодняшнего дня не ставили боевых мин. От сознания значительности и серьезности нашей работы у меня к горлу подступает ком и тревожно сжимается сердце. Я перестаю ощущать холод. Осматриваюсь по сторонам. Вон следы Гуртового, а вот и мой след, мы уже были здесь на рекогносцировке. Огород начинается слева от сада и сбегает вправо к неширокому замерзшему ручью, обозначенному извилистой полосой ивняка. Среди запорошенного кустарника краснеет, как флаг, рябина. Она служит мне ориентиром.
На правом фланге работает с минами первый взвод.
– Такая рванет, – заверяет Носов, – взвод танков раскидает!..
– Ну уж и взвод! – сомневается его отделенный Ступин.
– Ей-богу!
У Носова посинели губы. Он держит возле лунки мину на вытянутых руках, словно каравай на рушнике. Ступин смотрит на бойца серьезно, без смешинки и говорит:
– Не снаряжена еще…
– Понятное дело.
– Не чуди!
– На мне от всех осколков броня – ватник…
Носов скосил глаза на отделенного, но продолжал стоять все так же вытянувшись. Ступин шагнул к нему, забрал мину. Вместе они опустились на колени и колдуют в снегу.
– На ровное сдвинь, на ровное!
– Грудка тут, мерзлое…
– Лопатой сбей!
Ветер рвет из-под лопаты снег. Ступин сбросил варежки, достал из сумки взрыватель, потянул ударник. Не тут-то было!
– Вставляй, – нетерпеливо потребовал замерзший Носов.
Ступин отвернулся от ветра, подул на пальцы, разобрал взрыватель и полой ватника начал протирать детали. «Двужильный…» – вспомнил я о нем.
– Пружина… сгусла смазка… – определил Ступин.
На таком морозе железо жжет как огонь. А Носов надоедливо советует:
– В середке протри.
– Отойди! Ну? Тебе ж говорилось, милок: взрыватель ставит один человек! Один на один…
Опыт потом-таки научил: складскую смазку следует снимать загодя. Да, наука далась дорого, на этом первом минировании несколько человек отморозило пальцы.
Тем временем Носов отошел на указанное место и стал разгребать снег под следующую мину. «И отойду, и что ж…» – слышалось его беззлобное ворчание.
Минуты через две отделенный вновь оказался возле Носова.
– В такой банке – такая сила! – сказал Носов. Даже работая на морозе и на ветру, он не мог долго молчать.
– Угу, сила… – согласился Ступин, – а только не дойдет сюда фриц!
– Понятное дело… А ежели дойдет?
– На всякий случай, конечно…
Ко мне подходит Оноприенко. Он нахохленный и необычно вялый. Какое-то время мы тоже говорим о войне, о прикрытии минных полей фланкирующим и кинжальным огнем, подсчитываем на всякий случай, сколько в роте гранат и бутылок с зажигательной смесью.
Потом Оноприенко отправляется на левый фланг. Мне опять слышен разговор Ступина со своим подчиненным.
– Подвезли бы мины сюда… Мы не ишаки, – возмущается Носов.
– Не положено на передок ездить, – поясняет Ступин.
– Передок – когда стрелять зачнут.
– Все одно, маскировка… – неуверенно отговаривается Ступин.
– Небось Буянов замерз там со своим мерином! Промялся бы…
После паузы Ступин говорит:
– Евонной жене похоронку прислали… сын в танкистах был.
– Э-хе-хе… Крошево!
Я поворачиваюсь и ухожу в «тыл» – это в двухстах метрах позади левофлангового второго взвода, недалеко от яблоневого сада. Там стоят ротные сани с минами, нужно и впрямь подъехать поближе. Как же я не сообразил?
На полдороге меня колыхнул взрыв. «Снаряд!» – была первая мысль. Но лохматый султан в саду сразу же надоумил: несчастье у соседей-саперов. Я прибавил шагу.
– Ле-лейтенант… – дрожащими губами произнес незнакомый сержант, глядя поверх моей головы.
Я тоже поднял голову и обвел глазами яблоньки. На оголенных взрывом бурых ветвях повисли розовые клочки. Это все, что осталось от Федорова. Меня стошнило. Война открылась еще одной стороной, и, может быть, в этот миг я окончательно попрощался с юностью.
9
Шустрая штабная полуторка бойко пробежала по укатанному снегу и выскочила за околицу. Тут мы покатили тише. Мы – это капитан Зырянов в кабине и двое его разведчиков да я в кузове. Не избалованные автотранспортом, мы лежим втроем на покрытом брезентом сене и блаженствуем. Трое незнакомых людей.
– Ложись в середку, товарищ командир, – приглашает старший из разведчиков. Ему лет тридцать, он беззаботно сунул автомат под голову и по-мирному греет руки – рукав к рукаву, дремлет.
– Ложитесь, – говорит и другой. Он заметно моложе и суетливей своего товарища. Он то вытянется на спине, то повернется на бок, а то и вовсе привстанет, что-то высматривая по сторонам. Лицо у него возбужденное, подвижное. Оружия из рук не выпускает.
Остаюсь лежать, как лежал – с краю.
По бокам свистит ледяной ветер. Вот и знакомый сад, озябшие, печальные яблоньки… Машина остановилась перед проходом в минном поле, никаких ограждений и указателей здесь нет, все в полной боевой готовности: где-то впереди движется в нашем направлении враг, фашисты рассчитывают попасть в не занятый нашими частями промежуток, но они ошиблись… У самого прохода стоят двое саперов-проводников. Они накоротке что-то объясняют водителю и следуют впереди машины. Зырянов знает о вчерашнем подрыве Федорова и открывает дверцу, встает на подножку. В руках у него развернутая карта-сотка.
– Километров двадцать пять гнать, раньше не встретим фрица, – цедит он сквозь зубы, механически откладывая на листе пальцами, как плотник, четверти.
Зырянов мне кого-то напоминает, но я не могу вспомнить – кого. Мне тоже не по себе после вчерашнего несчастья, я поправляю поднятый воротник полушубка и молча соглашаюсь: расстояние от нашего штаба до совхоза, куда мы едем и где предположительно встретим противника, меряно-перемеряно.
Нам поставлено много задач, но мы понимаем: главное зимой – дорога. И противник. Где противник? У нас есть, конечно, кой-какие данные, а все-таки: где окажется немец через несколько часов и как растянутся наши двадцать пять тщательно измеренных километров? Оба понимаем: перед нами дорога в неизвестное.
Машина тронулась. Мы отправились в командирскую разведку.
Декабрьский день – куцый. Послеобеденное сумеречное небо быстро потемнело, посыпал снежок. Нас укрыла серая мгла.
– Курнуть бы…
– Доставай.
Разведчики зашевелились, появился кисет. Я не различал кисета, лишь угадывал его по едва заметным движениям рук, не видел я и лиц своих попутчиков и прикрыл глаза.
– Длинные версты… – сказал разведчик.
– Длинные, – повторил другой.
– Сколько отдано, сколько брать!
– Брать…
Дорогу заносит все больше. Надоедливо дребезжат расшатанные борта машины. Полуторка бежит, бежит… Глаза у меня закрыты, весь я растворился в полудреме, и разговор доносится до меня будто издалека. Я пригрелся под боком у соседа, он чувствует это и не шевелится, дает мне подрыхнуть. Я отчетливо понимаю все, но витаю в мире ином, вижу другие лица, мне представляются жаркие училищные дни и ночи, перед глазами встает Саша Ваулин. Почему именно Ваулин? Бог его знает… Может, оттого, что в училище мы частенько работали бок о бок; а может, из-за Кручинского, из-за стихов, которые мы слушали разинув рот…
…Ночами курсанты оборудовали в подвалах жилых домов убежища: подводили накат под перекрытие, ставили воздушные фильтры, герметизировали двери и окна. После напряженного учебного дня работа эта была нелегкой даже для саперов, привыкших таскать бревна, копать, рубить, пилить. Во время этих трудных работ мы с Ваулиным часто вспоминали Кручинского, бывшего нашего начальника школы младшего комсостава при саперном батальоне Чапаевской дивизии. Закончив школу, мы у него же потом служили отделенными. Колоритная это была фигура – Кручинский. Нормального училища он не кончал, но после кадровой и длительной сверхсрочной службы экстерном сдал за инженерное училище. По своим знаниям и эрудиции он выгодно отличался среди знакомого мне в то время комсостава. Был он до жесткости требовательным по службе и душевным, мягким, даже, пожалуй, несколько сентиментальным в неслужебные часы. В свободное время он заходил к нам и декламировал стихи, брал гитару, играл и пел. Каждое его слово было настолько искренним, что не слушать его было нельзя. Сухощавый, с черными, пронизывающими глазами, энергичными и расчетливыми жестами, он являлся для всех нас идеалом и предметом подражания. Он знал, у кого что стряслось дома, кого что волнует сегодня, и вообще – видел нас насквозь. Никто никогда не пытался доложить ему что-нибудь не точно, это было немыслимо. В трудные минуты мне частенько вспоминался Кручинский, видел я его и сейчас перед собой и вдруг понял – на кого был похож Зырянов…
Едем без света. Проезжая часть дороги ничем не отличается от обочин, машина несколько раз съезжает на стороны. Кюветы отлогие, выбираемся, но вот наконец застреваем.
– Что-о? Замерзли, суслики? – слышится голос Зырянова. Он уже вышел из машины, а мы еще лежим за кабиной, никак не решимся высунуться на ветродуй.
– Толкнуть нужно!
Мы перескакиваем через борт.
Ориентировки никакой. Кругом мутная, чуть подбеленная снизу темнота. Звезд нет. Только компас, шевельнув стрелкой, подсказывает направление.
– Давай, братцы! – командует Зырянов.
Разбираемся, становимся поудобней, водитель сдает назад, толчок, другой, третий и – полуторка на дороге. Согрелись чуток.
– Сколько отмерили? – спрашиваю Зырянова.
Капитан долго осматривается, но ничегошеньки не видно. Он переводит взгляд на карту, потом на часы.
– Километров пятнадцать…
– Не блуднули?
– Не-е-ет!
– Дорога на уровне… А где же противник? – сорвалось у меня. Зырянов тактично промолчал.
Дорога действительно пока что вполне проходима для нашего стрелкового полка. Никаких серьезных водных преград здесь нет, грязь замерзла, ручьи и болотца подо льдом. Скатерть, не дорога! Вот не занесло бы чересчур…
Мысленно переношусь к Туле, где со второго декабря наседают танки генерала Гудериана. В сознании моем какое-то раздвоение: подсознательно слово «противник» все еще связывается с немецким наступлением, хотя разумом я уже вышел из-под влияния недавних событий, уже не подчинен им, поднялся над ними, ощущаю и знаю: начинается новая, какая-то иная страница войны. Вижу, как приближается день расплаты, вижу сосредоточенные лица своих саперов, вижу в снегах нескончаемую колонну войск…
– Приехали!
Открываю глаза, кругом – темно. Машина стоит.
– Слезай, ребята…
Над бортом смутно маячит голова Зырянова. Мы соскакиваем на снег, под ногами скрипит. Жгучий в безветрие мороз перехватывает дыхание. Я обращаюсь к капитану с вопросом, но замерзшие губы не слушаются меня, получается что-то невразумительное вроде: «Куа ы ыали?»
– Отдельный дом, – поясняет Зырянов.
И тут только замечаю, что мы топчемся у одинокого, припорошенного снегом домика. Разведчики немного повозились у подворотни, потом один перемахнул через заборчик, отпер калитку. Стучим в дом. Минут через двадцать нам открыла заспанная женщина.
– Здравствуй, хозяйка.
Женщина спросонок пугливо осмотрела наши посиневшие лица, пропустила ночных гостей в дом.
Вижу, как дрожат ее плечи под наспех накинутой шубейкой. Меня тоже бьет озноб. Всем телом ощущаю уютное тепло жилья, меня клонит в сон. Но понимаю – нельзя, мы здесь ненадолго: погреемся, сориентируемся – и дальше.
Фонарик Зырянова скользнул по стенам.
Под окнами мурлычет незаглушенный мотор. Водитель остался у машины.
– Как она, жизнь? – любопытствует капитан, снимая с ремня флягу. Сначала он налил положенные порции разведчикам, затем подвинул кружку ко мне.
– Пей.
Спирт-сырец отвратительно воняет. Мне не хочется пробовать его, но я креплюсь, боясь показаться смешным и неопытным юнцом. Окоченелыми пальцами зажимаю нос и опорожняю посуду.
– Согрелся? – участливо спросил Зырянов.
Я молча хватаю закуску. В горле першит, перед глазами расплылось добродушное лицо Зырянова, на щеках у него проявились, как на цветной пленке, синие прожилки. По знаку Зырянова один из разведчиков подменил водителя. Тот, промерзший и сонный, ввалился в дом, буркнул что-то и принялся за еду.
– Далеко до совхоза? – спросил Зырянов.
– Верст пять.
До совхоза мы добрались ранним утром. Неезженная дорога была обозначена одетыми в белое деревцами. В предрассветной тиши притаились разбросанные по усадьбе строения, они словно вмерзли посреди громадного, безжизненного поля. По нашим данным, этого района вполне могла достигнуть и немецкая разведка.
– Ни своих, ни чужих… – усомнился Зырянов. Он долго разглядывал в бинокль совхозную усадьбу, затем приказал развернуть полуторку и держать на ходу. Машина приткнулась под белесым кустом. Пока мы с Зыряновым проверяли оружие, разведчики уже куда-то скрылись.
Зырянов пошел по дороге. Я – за ним, след в след. Перед глазами у меня – широкий полушубок и ноги капитана. Он шагает быстро, решительно, за отворотом его правого валенка – пистолет; о вороненую сталь тонко звякает пряжка витого ремешка. Скрипит снег.
– Тишина-то, тишина! – тревожится мой старшой.
Подозрительная тишина. Мы оба держимся левой обочины, переходя от дерева к дереву. Молодые вязы нас ничуть не закрывают, но кажется – так надежней.
Не слышно ни людей, ни петухов; не поднимаются столбы дыма из труб; только потягивает далеким, устоявшимся запахом хлева да горчит что-то горелое. Я убеждаю себя, что здесь нет ничего живого. Все вокруг как будто оправдывает мою догадку: и припорошенная снегом водовозная бочка, и длинные, опрокинутые набок корыта, и белый стожок соломы, и до половины занесенная соломорезка, и высокая куча неколотых дров. Все мертво.
– Никого! Брошено.
– Постой, голуба… – шепчет Зырянов.
– Чего там… Пошли!
Зырянов прижимает палец к губам. Его настороженность вдруг заражает и меня: может, немец давно держит нас на прицеле? В конце концов, мы находимся в нейтральной зоне, а точнее – в незанятом войсками промежутке, в разрыве между отошедшими частями. В этот промежуток целится наш полк, который сосредоточился для наступления; но кто знает, что произошло за ночь, как изменилась обстановка на этом участке?
Холодная тишина давит. Шаг за шагом гребем мы ногами снег, продвигаемся вперед. Поставленный наискосок посреди двора длиннющий коровник отступает влево, из-за угла открывается погасшее пожарище.
– Вот, голуба…
По пожарищу бродит какая-то живая душа. Мы с Зыряновым оставляем всякие предосторожности и крупно, размашисто шагаем прямо туда. В этот момент из-за коровника показываются наши разведчики.
– Разрешите доложить… – подходит старший к Зырянову.
Обстановка прояснилась: вражеская разведка была здесь, но уже ушла.
Подходим к груде черных головешек. Оттуда несет гарью. Стоящая по колени в пепле женщина не обращает на нас никакого внимания, пристально смотрит под ноги и вяло переходит с места на место, что-то ищет.
– Что там, матушка? Ответа нет.
Возле нас собирается несколько перепуганных женщин и подростков да стайка детей. Дети разговорчивей взрослых, и вот что мы узнали…
Немцы нагрянули в совхоз под вечер. Их было человек десять, на автомобиле. Они согнали людей на двор.
– Рус зольдат? – допытывался очкастый унтер, поводя перед собой автоматом.
– Ну – русь… Все мы русь! – отвечала ему разбитная, не по летам подвижная бригадирша. Она стояла вместе со своими девочками-малолетками.
Поговорив между собой, немцы пошли по квартирам. Непонятно было – ночевать ли собрались, погреться ли, но только расположились все в одном доме, у бригадирши.
Часа через два примчался мотоциклист. Немцы живо сняли охрану и полезли в свой грузовик. Последним вышел на крыльцо унтер, он зябко ежился и потирал руки.
– Что… замерз? – бросила ему в лицо бригадирша.
Унтер окинул взглядом ее по-мужски распахнутый ватник и велел снять шарф. Он обмотал этим шарфом уши, надел каску.
Солдаты в машине возбужденно и громко переговаривались.
– Поджала собака хвост… – снова не удержалась бригадирша.
Унтер, видимо, малость понимал по-русски. По его знаку двое солдат соскочили с машины, принесли к дому канистру с бензином…
Бригадирша, как была простоволосая, кинулась тушить огонь. Ей помогали ее девочки и соседки.
– Сволочи, сво-олочи!
Унтер поднял автомат. Девочки упали…
10
Лежит опаленная огнем и укутанная снегами земля русская. Тяжелой цепью повис фронт на широкой груди ее, от Белого до Черного моря.
К нам доносятся отзвуки сражения на далеком юге, мы еще переживаем взятие нашими войсками Ростова, знаем об упорных встречных боях под Тихвином. Но факт остается фактом: к началу декабря фашистских захватчиков остановили почти повсюду.
Все ждут наступления.
Для нас оно началось с тридцатикилометрового броска. Утром шестого декабря наш стрелковый полк двинулся вперед. Заиндевелые люди, артиллерия и санные обозы тонули в снежных заносах.
Полк шел, словно караван в пустыне: все вытянулось в нитку. Рассыпчатый, звонкий снег не трамбовался, порхал под ногами, и казалось, люди старательно вышагивают на месте.
Саперная рота движется между первым батальоном и противотанковой батареей. Лошади у артиллеристов крепкие, но и они начинают сдавать: снег по брюхо. Незаметно набежал полдень. Люди еще пробиваются, они понимают – нужно, а лошади уже пристают, барахтаются на месте и все чаще останавливаются. У них жалко дрожат ноги, они тяжело дышат и поводят потными, в сосульках, боками.
– Нужно проталкивать полк, – распорядился Гуртовой.
И саперы проталкивают. Вооружившись лопатами, гребут снег. Работают все: холодно. Поджав губы, не спеша машет лопатой Оноприенко; вспотевший и уже ничего не видящий Васильев швыряет снег налево и направо; рядом с ним Носов. Копнет и поставит лопату, копнет и поставит… Он замерз, хукает на руки и втихомолку ругается; равномерно и методично, как машина, работает старый землекоп Ступин. Ветер пересыпал снегом дорогу вкривь и вкось. Саперы переходят от одного сугроба к другому, взводы давно перемешались.
Недалеко от Ступина оказался отделенный из второго взвода Макуха.
– Навьюжило – пропасть, – громко возмущается он. Ни мороз, ни ветер не берут его темно-бурое, небритое лицо. Подшлемник он подкатал и запихнул под каску. Ему работать не мешай! Не подходи! А подойдешь – и тебя, кажется, подхватит на лопату. Один политрук стоит с ним рядом и нет-нет да скажет:
– Запалишься… Степан! Запалишься…
Макуха дышит, как конь. Не глядя на Чувилина, повторяет:
– Поддам! Поддам!
Политрук задумчиво мусолит карандаш, потом достает из сумки полевую книжку и начинает что-то царапать.
Вперемешку с саперами работают батарейцы Пашкевича. Здесь занос, намело по плечи. И обойти не обойдешь: дорога в выемке.
Народ в батарее крепкий, дружный. Как на подбор.
– Что нам лошади? – смеются они. – Пушчонку сами кидаем!
Верно – кидают. Кажется, Пашкевич только бровью поведет, а орудие уже на руках; глядь – перемахнуло через сугроб. Хороши батарейцы! Не то что обозники. В обозе каждые сани вместе с конягой саперы на себе волокут.
Пашкевич и сам видит, как славно действуют его ребята. Он доволен и чуть-чуть рисуется.
– Раз, два – и в дамках! Такие-то дела… – похваляется он передо мной.
За спиной у нас фыркнул мотор. Подъехали минометчики. Из первой машины выбирается минометный бог – Юра Скоробогатов.
– Форсируем? – бодрится он, поворачиваясь боком к ветру.
На нем, как всегда, темная, изрядно выношенная шинель. Тонкой кожаной перчаткой он небрежно перекидывает куцую ушанку с одного уха на другое. «В кабине-то можно щеголять!..» – подумал я, хотя знал, что в ЗИСах нет обогрева. Глядя на него, я ощутил, насколько плотно и ладно затянуты на подбородке завязки моей ушанки. Пашкевич тоже опустил уши, он хлопает варежками и скачет на одной ноге, норовит толкнуть Юру:
– Хо-хо… Сидень ты, интеллигенция. Разомнись!
– Разошелся, Пушкович.
Скоробогатов иногда звал Пашкевича Пушковичем. А тот злился:
– Те-е-ехника на колесах! Ползете, ползете…
– За тобой не разгуляешься!
И правда, на дороге то и дело возникают пробки. Достаточно где-нибудь остановиться одной выбившейся из сил лошаденке, и она надолго рассекает полковую колонну.
К вечеру задула поземка. Ветер немилосердно бил в лицо, бойцы закрывались рукавами, шли боком, прятались за лошадьми и друг за другом, пытаясь сохранить хоть каплю тепла. Но тепло держалось только в душах людских…
Часа два простояли мы на дороге. Саперы сбились в кучи, топтались, искали затишка.
Немного протолкнулись и вновь стали. Стрельнуло на морозе одинокое дерево.
Дорога завернула вправо. Впереди город Михайлов, там – враг. Впотьмах постройки не видны. Спряталась подо льдом и речушка Проня. Верно, промерзла до дна.
Колонна рассыпалась. Пропали где-то в холодном мареве скрипучие обозы, растаяла в снегу пехота.
На дороге – саперы.
Слышен посвист в наушниках. Мы с Макухой рядом, он с миноискателем. Таясь от невидимых глаз, пробиваемся по глубокому снегу.
Макуха водит рамкой над самой кромкой, шаркает, сбивает сыпучие гребешки.
– Тише ты!
Макуха загнал рамку в снег, вынул, обметает варежкой. Мне все видно и слышно. В напряжении жду первого выстрела. Когда же бой?
Фон в наушниках прервался.
– Пропало… – почти вслух доложил сержант. Он сбросил варежку и ковырялся в миноискателе, голая рука липла к железу.
– Т-твою губернию!.. Подержи, лейтенант.
Забираю у Макухи миноискатель, осматриваю. Все подключено. В наушниках шуршит, но слабо.
– Питание…
Макуха убежал за новыми батареями.
И вот бухнул первый орудийный выстрел. Вспышка высветила в поле серые фигуры людей; побежал куда-то связной; пропахал щитком снег станковый пулемет; вздыбилась в санях одинокая испуганная лошадь; потянулась наискосок телефонная жилка.
– Впере-ед! – слышна команда.
Ударила батарея, еще залп. Белыми простынями махнули отсветы. Где-то впереди грохнуло, и в наступившей тишине цокнул винтовочный выстрел.
Возле меня упал Макуха. Из полы вывалил батарейки:
– Во!
Начинаем менять питание. Макуха достает складной нож, но раскрыть его не может. Я тоже не могу: пальцы не сгибаются. Меня берет отчаяние.
– Ну что?! – кричу со слезой.
Макуха молча зажимает батарею в омертвевших, как культи, запястьях и зубами счищает изоляцию. Потом зубами же хватает стальные клеммы. На них остаются лоскуты кожи с языка и с губ. Он сплевывает и снова прикладывается к металлу. Мы с Макухой движемся по дороге к городу и ведем разведку; что-что, а дорогу немцы могли засорить минами, хотя бы внаброс: метель дула всю ночь…
Ракета прорвала темноту, над землей зачернела щербатая линия крыш. На флангах торопливо стучал «максим», ударили одиночные выстрелы. Бой то притухает, то разгорается. В сознании лихорадочно, клочками вспыхивает странная, красочная мозаика. Все мое внимание приковано к миноискателю, и бой воспринимается как набор отдельных, разрозненных фрагментов.
…По полю шагает длинный, как коломенская верста, комполка Дмитриев. Выплывает из темноты Зырянов. «Ваулина убило!» – произносит он и растворяется в дыму. «Эх, Саша! Друг рыжий…» – огорчаюсь я.
Свистят пули. Вой в наушниках миноискателя изводит душу…
Мы с Макухой упрямо пробиваемся по заметенной дороге. Петляем по проезжей части, слушаем прибор, замерзшими, нечуткими руками шарим по снегу. Ищем мины.
Мороз сковал воздух. Горький запах пороха щекочет ноздри, я жадно дышу и прибавляю шаг. Голой рукой достаю пистолет. Пальцы липнут к железу. И опять – как во сне: фыркает лошадь, нас подпирает ротный обоз. Как он сюда выбился? Впереди – кухня, голос повара:
– Куда ж…
– Ни слова! Ни полслова! – требует Чувилин. Самого политрука не видно, он где-то дальше, с небольшим ротным резервом. Там же подвижной запас противотанковых и противопехотных мин, взрывчатки, саперного инструмента. «Зачем же сюда кухню?..» – мелькает у меня отрывочная мысль.
Вокруг все туго запеленато и стиснуто. Трудно дышать. Густая, одурманивающая смесь выстрелов и человеческих голосов, топота ног и санного скрипа, посвиста пуль и жуткого всхлипа снарядов вгоняет меня в транс. Я делаю все, как заводной.
Тошно пахнет дымом. Как самогоном. Встречь нам ковыляет раненый. «Взя-ли! Взя-ли!» – орет он.
Незаметно пришел долгожданный рассвет, бой кончился. На утреннем морозе скрипят сани, тянется через город стрелковый батальон, проходит полковая батарея, идут штабы, кухни, обозы. Идут на запад.
– Взяли!
– Взяли!!
– Побе-е-еда!!
Седьмое декабря 1941 года. Мы заняли первый город.
Вот и боевое крещение. Забыт тридцатикилометровый марш, бой снял усталость.
Мы идем дальше. Опять поле, снега, снега… Лютый мороз подстегивает, бодрит нас, и кто-то пробует голос:
По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге…
Это Макуха. Его поддерживает Васильев, но нестерпимый холод парализует дыхание, глушит хриплые голоса, и песня стынет, замерзает. Только слышен скрип под ногами.
Но и безмолвие невыносимо.
– Всыпали Гитлеру! – не выдерживает кто-то.
– Непобеди-имый…
– Был…
На тусклом горизонте синеет сплюснутый лесок, над лесом светится полоска неба. Ветер подпирает в спину, помогает нам. Но идти с каждым шагом все труднее, ноги деревенеют, наливаются свинцом.
Дорогу перегородила здоровенная дальнобойная пушка. Ствол – в два обхвата.
– А… бросили!
Желто-коричневое, по-летнему камуфлированное чудище давно остыло. Мертво. На стволе, колесах, лафете – снег.
– Во – дура! – сказал Макуха.
– Нырнешь – вынырнешь.
– Угу… Тонн двадцать.
Такую не сдвинуть с места. Мы проходим обочь, удивленно крутим головами. Возле орудия разбросаны немецкие гранаты с длинными деревянными ручками, тоже невидаль. В стороне – обгорелый, с перебитой гусеницей бронетранспортер. На закопченном заднем борту просвечивает черный крест.
– Умылся…
Возле бронетранспортера россыпь стреляных гильз, пустая металлическая лента от пулемета. Уткнувшись головой в снег, лежит чужой солдат.
– По-одтяни-ись! – командует Оноприенко.
Саперы вяло волочат ноги. Говор смолкает, но все с любопытством осматривают вражескую технику: это наш полк отбил! Теперь она безвредна, пожалуйста, можно смотреть!
Среди подбитых и поспешно брошенных пушек, бронетранспортеров и автомобилей я увидел мотоцикл.
– Стой! Возьмем?
– Возьмем, – отвечают мне хором.
Новехонький, блестящий БМВ не заводится. Через минуту мотоцикл уже погружен на сани, это наш первый ротный трофей. Народ опять повеселел, шутит:
– Немецкая техника на русской кобыле! Называется – взяли машину.
– Товарищ ротный, пушку возьмем?
– Возьмем, – отвечаю.
И опять хохот, победа опьяняет. Я тоже смеюсь, мне весело и легко.