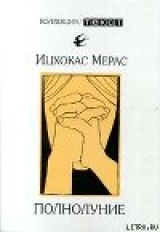
Текст книги "Вечный шах"
Автор книги: Ицхак (Ицхокас) Мерас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Глава пятая
ХОД ТРИНАДЦАТЫЙ
1
Шогер принял жертву.
Он знал, что Исаак волнуется, и ему было приятно, смахнув с доски эту пешку, чувствовать себя более уверенно и ждать, когда противник сдастся.
Сегодня его день.
Сегодня он должен одержать двойную победу: выиграть партию и не проиграть партнёра.
Вокруг немым кольцом стояла толпа, которой было суждено ощутить эту победу на своей шкуре.
Такой партии, как сегодня, еще не было.
– Ты знаешь, почему действительно невозможно, чтобы ты сидел в моем кресле, а я – на твоей табуретке?
Исаак не ответил.
– Если не знаешь, могу сказать. Шахматные фигуры– сухие деревяшки, но чем-то похожи на людей. Есть только один король, второй должен сдаться. Мы, арийцы, – короли, которые побеждают. Мне очень жаль, что ты из тех, кому суждено проиграть.
Исаак молчал.
– Понятно? Это азбучная истина, и поэтому каждый из нас сидит на своем месте. Ты – на табуретке, я – в кресле. Иначе и быть не может.
"Я не слышу, я не желаю слышать, что он там болтает. Пусть разглагольствует-знает ведь, что никто не смеет возразить.
Он – король…
Его слово – закон.
Мое дело – шахматы.
Плохо, что я не имею права ни выиграть, ни проиграть, а ничья… Бывает ли она вообще? Вскочить бы, смахнуть фигуры и убежать отсюда на широкий цветущий луг…"
2
В гетто нет цветов. Цветы запрещены. Приносить их тоже нельзя. Запрещено.
Почему цветы под запретом?
Этого я никак не могу понять. Будь я самым последним негодяем, я бы и то не запрещал сажать цветы. Люди мигом отыщут семена, найдут клубни. Долго ли раскопать тротуар под окошком, очистить двор от камней… И закивают тяжелыми головками яркие пионы, стройные лилии, будут терпко пахнуть тонконожки-настурции. Много-много цветов, будто рассыпанных щедрой рукой.
Если б даже я был самым последним негодяем и запретил цветы, я бы все-таки не запрещал приносить их с полей и лугов, когда люди возвращаются из рабочего лагеря. Колонны шагают по городу, усталые, но не видно опущенных голов. Над колоннами сплошь цветы, множество букетов, и можно подумать, что людей вовсе нет. Просто вышли погулять цветы. Торопиться им некуда, могут двигаться медленно, не спеша. Еще только пять часов, и до шести они наверняка успеют в гетто.
Насчет оружия все ясно. Об этом можно не говорить. Я понимаю, почему запрещено приносить в гетто продукты. Шогер хочет, чтобы мы голодали.
Понимаю, почему неразрешается приносить одежду. Они хотят, чтобы мы ходили в рванье, чтобы нам было холодно. Но почему Шогер запретил цветы? Этого я не могу понять. Цветок. Хрупкий стебель, яркая чашечка. Кто может запретить цветы?
Мы с Эстер сидим на своем дворе. Я – на бревне, она – на деревяном ящике… Мы смотрим в глаза друг другу и молчим. Эстер нагибается, выискивает пробившуюся меж камней зелень. Она выбирает одну травинку и, нашептывая что-то, обрывает крошечные листочки. Листьев мало, поэтому Эстер не спешит. Острыми ногтями аккуратно отщипнет листик, подержит его на ладони, потом отпустит. И он летит, порхает малой птичкой. Я знаю, что нужно Эстер. Эстер нужна ромашка.
Эстер хочется держать в руках этот полевой цветок, отрывать его белые лепестки и шептать что-то так, чтобы я не слышал.
Она работает здесь же, в гетто, помогает родителям – она санитарка. Эстер давно не была в полях и, наверно, забыла, как выглядят цветы. Но все равно ей хочется держать в руках ромашку. Я знаю. Она сама сегодня белая, как ромашка.
– Не смотри на меня, – говорит Эстер. – Я бледная, да? Ничего, поправлюсь. Папа делал операцию мальчику. Обычно все дают кровь, ничего особенного. А сегодня понадобилась моя группа, и отец позвал меня. Он говорит, что нельзя брать так много крови сразу, но ведь я здоровая, со мной ничего не будет. Мальчик был совсем плох, а теперь он наверняка поправится.
Она смотрит на меня, но я молчу, ничего не говорю.
– Тебе не нравится, что я такая бледная? Да? Ты сердишься?
– Что ты? Как я могу сердиться, если твоя кровь понадобилась этому мальчику.
Я закрываю глаза, и мои мысли уже далеко отсюда. Мне кажется, будто мы с ней идем, идем куда-то по высокой траве и выходим на широкий луг. Эстер сидит, упершись руками в землю, а я бегаю по лугу и собираю цветы. Их много-много. Белые, желтые, розовые, синие; одни цветы нежно пахнут, другие позванивают своими колокольчиками. Я нарвал уже полную охапку, а мне все мало.
– Шимек!
Так зовет меня Бузя;
– Иду! – говорю я. – Довольно! Шимек!
– Еще два, еще один – и довольно.
– Хватит… Пусть растут… Они такие красивые…
– Ладно, хватит.
Тут я слышу:
– Изя…
Я открываю глаза. Вижу наш двор, мощенный булыжником. Я сижу на бревне, а Эстер – на деревянном ящике.
Мы возвращаемся с работы. Скоро покажутся ворота гетто, и сердце стучит неровно. То забьется часто-часто, то остановится, потом стукнет раз и опять замрет.
У меня за пазухой цветы.
Я попросил часового, и он разрешил мне подойти к лугу, а луг весь пестрел ромашками, похожий на зеленую скатерть в белых пятнах с желтыми крапинками. Я рвал их горстями, вместе с травой. Мне казалось, я унесу весь луг. Потом спохватился, что луг унести нельзя. И почти все бросил. Бросать было жалко, но я мог оставить только маленький букетик, поэтому он должен быть очень красивым, из самых отборных ромашек.
Мы возвращаемся домой. Вот уже видны ворота гетто, и мое сердце стучит неровно: то вдруг забьется часто-часто, то остановится, потом стукнет раз и опять замрет.
Мужчины разозлились, увидев мои цветы. Я знаю, в другой раз никто бы и слова не сказал. Но сегодня они правы. Сегодня в гетто несут немецкий автомат, который удалось украсть на складе, где мы работаем. Два дня разбирали автомат на части и прятали. Что могли разобрать-разобрали, что не смогли– сломали. Ничего, и гетто есть слесаря, починят. Сегодня мужчины распределили все это между собой и несут в гетто.
Я знаю, почему они злые. Если я попадусь с цветами, немцы могут устроить такой обыск, что найдут у кого-нибудь деталь автомата.
Я так просил! Я не мог иначе. И они умолкли, больше ничего не говорили, только поставили меня в самый конец колонны.
Мы уже в воротах.
Сердце замерло.
У ворот сам Шогер.
Мне холодно. Мне кажется, что его глаза, острые, как иглы, проникают сквозь куртку, впиваются в хрупкие ромашки. И я, не выдержав, подымаю руки к груди, заслоняю цветы.
Колонна уже в гетто, все прошли, а Шогер смотрит на меня и подмигивает.
– Ну, сеньор Капабланка? – спрашивает Шогер и принимается обыскивать меня.
Он распахивает мою куртку, вытаскивает рубашку из-под ремня – и на землю сыплются цветы.
– О! Хо-хо! – удивляется Шогер. – Так много? Куда тебе столько?
Я молчу.
– На первый раз достаточно пяти, – кивает Шогер Яшке Филеру.
Цветы он пинком вышвыривает за ворота. А мне говорит:
– Сам понимаешь… Ты мой партнер и все такое прочее. Однако закон есть закон. Ничего не поделаешь, не имею права. Он кивает на меня часовому:
– А? Вы каждый день обыскиваете его? Надо, надо. Закон есть закон, это сильнее нас.
Яшка Филер – палач.
У Яшки тройной затылок и красные, заплывшие жиром глазки. Шогер кормит Яшку как на убой, и руки у него толстые, как колоды.
Яшка Филер показывает на скамейку. Я ложусь и сам говорю ему:
– Быстрее…
Филер не понимает. Он смотрит на меня, таращит свои крысиные глазки.
– Быстрей! – говорю я.
Откуда ему знать, этому Филеру, палачу, что я думаю. Он привык бить других, чтобы не били его. Где ему знать…
А я так спешу… Я боюсь, чтобы не увидела Эстер. Ведь она может проходить мимо и увидеть, или Янек может увидеть и потом рассказать, или ее родители могут оказаться поблизости от ворот, где я лежу и палач отсчитывает пять ударов.
– Быстрее, – тороплю я палача.
Он работает на совесть.
Он слишком сыт и думает, что плеть – это самое страшное на свете. Неправда!
Что такое плеть? Витая кожа снаружи и стальной прут внутри. Ну и что ж такого? Тоже мне, самое страшное. Кожа да железо.
Мы возвращаемся с работы.
Сердце стучит, стучит.
Позавчера отняли мой букет, вчера – тоже. Неужели и сегодня?
Сегодня я иду в голове колонны. Мужчины хотят попробовать: может, мне удастся проскочить. Они напирают с улицы так, что трещат ворота. Мужчины хотят протолкнуть меня в гетто, хотят, чтобы я прошел со своим букетом.
Часовой орет. Шогер тоже. Он снова у ворот. Мужчины замешкались. Они уже не напирают. Сегодня они распределили по частям два автомата, и кто знает, чем это кончится.
– Ну, – обращается ко мне Шогер. – Теперь ты, надеюсь, стал умнее.
И обшаривает меня до последней нитки.
– Пятнадцать! – орет он и швыряет цветы за ворота. Но еще не отпускает меня. – Вот видишь, – с грустью говорит Шогер. – Я хотел бы сыграть с тобой сегодня партию или две, а ты все испортил. Нехорошо… Сидеть ты теперь не сможешь, а стоя – какая же игра?
– Эй, ты! – кричит Шогер палачу, и голос его еще печальнее. – Бей по ногам и спине, чтобы он мог сидеть. Половину по ногам, половину по спине. Что? Не делится пополам? Ладно, пусть будет четырнадцать!.. Нехорошо, очень нехорошо, – говорит мне Шогер. – Капабланке не приходилось так, сам понимаешь. Однако – закон! Все мы рабы закона.
Я лежу на скамье. Сегодня это слишком долго. Четырнадцать.
– Быстрей, быстрей! – прошу я палача.
Он засучивает рукава.
Колонна проходит. Все в порядке.
Может быть, даже лучше, что меня поймали? Шогер был занят, и остальных уже почти не обыскивали… Может, это в самом деле к лучшему? Ведь до сих пор мужчины обходились без меня, хоть бы раз патрон дали пронести…
…девять, десять, одиннадцать…
– Быстрей, быстрей…
Колонна уже в гетто. Но люди не расходятся, чего-то ждут.
…тринадцать, четырнадцать. Все!
Если постараться, совсем не трудно встать.
Шогера уже нет, часовые по ту сторону ворот, палач тоже уходит. Ему что – отмахал свое и гуляй до завтра.
А колонна, распавшаяся, растянувшаяся, ждет.
Я иду – и мужчины идут со мной. Останавливаюсь – и все останавливаются. Мы отходим подальше, за угол высокого дома, и мужчины обступают меня со всех сторон. Они вынимают что-то из-за пазух, из-под расстегнутых рубах. Вынимают осторожно, как мотыльков, чтоб не поранить крылышки.
У меня рябит в глазах. Я вижу луг: зеленую скатерть, белые пятна, желтые крапинки.
– Бери, – говорят мужчины. – Бери скорее. Ты думаешь, у нас есть время стоять тут с тобой?
Они дают мне цветы, и я собираю их в букет. Каждый дает всего по одной ромашке, но они такие красивые, крупные и ничуть не помялись. Букет… Большой, мне бы никогда не собрать такого. Никогда.
Я подымаю голову, но мужчин уже нет.
Я стою один, с большим букетом.
Прихожу домой. Ставлю цветы в воду, медленно умываюсь. Надеваю свою голубую рубашку. И снова бреду на другой конец гетто, к большому гладкому порогу.
Лицо Эстер еще бледное, белое и сливается с ромашками.
Мы идем в наш двор.
Мне можно сидеть, и я сажусь на бревно, а Эстер забирается на свой деревянный ящик. Она раскладывает букет: сама в середине, вокруг– цветы.
– Это не я, – говорю я Эстер. – Это все, кто со мной работает. Каждый принес по одной ромашке, и видишь, как много цветов?
Она молча кивает. Когда Эстер встряхивает головой, ее пепельные волосы колышутся, как вода в реке, как спелые хлеба в поле.
Эстер выбирает самый большой цветок, держит его в руках и смотрит на меня. Почему она так долго смотрит, не притрагиваясь к лепесткам ромашки?
– Мы уже большие? – спрашивает Эстер.
– Конечно, – говорю я.
– Мы почти что взрослые, правд?
– Конечно, правда.
– Ведь нам с тобой уже тридцать три с половиной…
– Нам с тобой уже много лет, конечно. И мы даже можем их сосчитать, – тихо добавляю я, сжимая левую руку.
– Ничего, что я такая бледная?
Я сначала сержусь, но потом отвечаю Эстер так:
– Знаешь, я закрою глаза, а ты делай что хочешь.
Я делаю вид, что зажмурился, а сам подглядываю сквозь ресницы.
Я вижу, как Эстер наклоняется к цветку, который держит в руке, а затем начинает осторожно обрывать лепестки.
Она обрывает лепестки и что-то нашептывает. Я не слышу, что она шепчет, но все равно знаю. И она, должно быть, догадывается, что я знаю.
Да – нет, да – нет…
Я должен бояться, как бы не вышло «нет».
Эстер, может быть, и вправду боится. Лепестков уже мало, и она обрывает их все медленнее.
Она – возможно… Откуда ей знать?
А я не боюсь.
Она может взять не только самый большой, она может взять любой, может взять все цветы, все подряд они скажут одно и то же слово.
Да, да, да, да.
Цветы не могут сказать иначе. Цветы знают.
– Изя… – негромко зовут меня.
Отец.
Мой Авраам Липман.
Он не стал бы мешать без дела. Раз зовет – значит, нужно.
– Сейчас, – говорю я.
С трудом встаю со своего бревна и иду. Я уже вышел со двора, а мои глаза еще там, где мы сидели. Я вижу Эстер. Она бледна, ее голова склонилась. Но это не важно. Она – в середине, а вокруг цветы.
Кто сказал, что цветы запрещены?
Кто может запретить цветы?
Глава шестая
ПЕРЕД СЕМНАДЦАТЫМ ХОДОМ
1
Теперь его голос был резким, а взгляд колючим, как шило. Казалось, он вот-вот пронзит одежду, лицо и грудь, вопьется в самое сердце.
Шогер понял, что напрасно взял пешку.
– У тебя есть девушка?
Исаак вздрогнул. Он уже было поднял руку, чтобы сделать очередной ход, но рука дрожала.
– Я допустил ошибку, – продолжал Шогер. – Нет, не с пешкой.
Исаак молчал.
– Могу объяснить, если ты не понял. Уговор был неполным. Мне следовало добавить… добавить следующее: то, что будет с тобой, будет и с твоей девушкой. У вас одна судьба. Не так ли?
Исаак снова вздрогнул. Исчез шахматный столик, земля скользнула из-под ног, перед глазами зияла пустота – черная, непроглядная.
"У тебя есть девушка?.."
– Твой ход, – сказал Шогер.
"У тебя есть девушка?.. У тебя есть девушка?.."
– Твой ход, – беззвучно повторил Шогер.
Исаак протянул руку и коснулся фигуры.
Пальцы ощутили округлость дерева, привычные, знакомые линии, но только линии были совсем не те– другая фигура, не та, которой он хотел пойти.
Еще не глядя на доску, он снова увидел ее всю, отчетливо, как раньше. Это действительно была другая фигура, окруженная со всех сторон, которую ни в коем случае нельзя было трогать.
2
– Я родил дочь Басю, – сказал Авраам Липман.
3
По вечерам, когда люди возвращались с работы. Бася переодевалась и выходила из дома. У нее была пунцовая блузка с открытым воротом и темная юбка, короткая, узкая. Она переодевалась и выходила на улицы гетто. Женщины смотрели на нее с упреком и злобой либо с завистью. Одни презирали ее, другие восхищались ею. Люди смотрят на все по-разному и никогда не будут смотреть одинаково. Бася жила так, как ей хотелось. И кто бы мог сказать, правильно это или нет? Женщинам гетто запрещалось красить губы, но ей, Басе, это не мешало. Ее губы и без того были алыми, как кровь. Басе исполнилось двадцать.
Она медленно шла, задрав подбородок и гордо выгнув точеную шею. Она закладывала руки за спину, так что распахнутый ворот блузки открывался еще глубже, обнажая белую, казалось, еще никем не тронутую девичью грудь. Стройные, длинные ноги Баси слегка пружинили, бедра покачивались в такт шагам, а желтая звездочка на груди смахивала на украшение.
Чего не бывает в мире, где живут мужчины и женщины. Все бывает. Когда вечерние сумерки превращались в ночь, Басю уже не видели на улице. Домой она заявлялась поздно, провожали ее не всегда, но девушка радовалась, что еще один день не пропал зря, и на другой вечер, вернувшись с работы, она опять выходила на улицу, сверкая пунцовой блузкой, открытой белой шеей и довольной, слегка насмешливой улыбкой.
В тот же час из соседнего дома выходил чернобровый семнадцатилетний Рувка. Он шел медленно, вразвалочку. Между ним и Басей всегда было двадцать шагов, ни больше ни меньше.
Бася знала, что Рувка ходит за ней как пришитый. Первое время было странно, она стеснялась, а затем привыкла. Он был молод, слишком юн еще, и это его дело, если малый ходит за ней как хвост. Расстояние было всегда одно и то же– двадцать шагов, ни больше ни меньше, и Рувка нисколько не мешал Басе. Она жила своей жизнью, жила так, как считала нужным; она хотела, чтобы ни один день не пропал даром, потому что всю свою жизнь, хотя бы сорок женских лет, ей надо было прожить за год, а может, за полгода или еще меньше. И когда она изредка оборачивалась, чтобы взглянуть на Рувку, она не видела его лица, только кудлатую голову и густые сросшиеся брови во весь лоб. Ей было безразлично, что Рувка бредет за ней, опустив голову и глядя себе под ноги. Позже, когда вечерние сумерки сгустятся в ночь, когда Бася, еще более оживленная, будет идти уже не одна, Рувка замедлит шаг и отстанет, исчезнет.
Глаза у Баси были зеленые и зоркие, как у кошки.
В поздний час, подходя к своему дому, она видела, что кто-то маячит за углом, но был ли то Рувка или кто другой, она не знала.
Рувка исчезал и в тех случаях, когда в гетто появлялся фельдфебель Ганс Розинг, который увлекал Басю в подворотню и принимался горячо убеждать ее, путая немецкие, литовские и еврейские слова.
Рувка исчезал, но Бася знала, что он близко, что он все слышит и ждет, и достаточно ей крикнуть, как он тут же очутится рядом.
В последние дни Ганс приходил все чаще, и его уговоры становились все настойчивее. Он забыл, что настали иные времена, что гетто – не гимназия, где они когда-то учились, и Ганс Розинг – уже не гимназист, а фельдфебель одного из отделов штаба оперслужбы Альфреда Розенберга.
Вот и сегодня они вышли на улицы. Бася и Рувка, думать свои думы, жить своей жизнью. Они миновали уже третью улицу, и было между ними двадцать шагов, ни больше ни меньше, и вечерние сумерки густели, переходили в прозрачную темноту летней ночи.
Бася ускорила шаги– ее ждали.
– Постой, – услыхала она и остановилась. Она редко слышала голос Рувки и поэтому удивилась. – Бася, – сказал он. – Сюда идет Ганс. Может, хочешь скрыться? Он тебя ищет, ты ведь знаешь.
– Ганс? – переспросила она. – Я не собираюсь прятаться. Мне всегда приятно с ним повидаться. Разве ты не заметил?
– Ладно. Как знаешь, – ответил Рувка.
И точно сквозь землю провалился.
Бася оглянулась и не нашла его: будто поговорила с человеком, которого не было. Она увидела коричневую форму и красную повязку на рукавефельдфебеля Ганса Розинга.
Ганс подбежал, схватил ее за руку и потянул в подворотню. Он часто дышал, долго не мог перевести дух и ощупывал глазами ее гладкие щеки.
– Ты снова на улице, – сказал он, скрипнув зубами.
– Я снова на улице, – ответила она.
– Ты каждый день… так?
Он спросил, и это было глупо, ибо знал, что услышит в ответ.
– Каждый день, – ответила она.
– Я просил, я ведь так просил тебя. – Он опустил голову, и его розовая шея, поросшая мягкими щетинками, напружинилась, как у готового боднуть быка.
Он взял ее руку.
Только теперь она почувствовала, что другая все время была в его ладони, и выдернула обе.
– Пусти… – сказала Бася тихо, чтобы не слышал Рувка.
– Ладно, все ерунда, – снова заговорил Ганс. – Я пришел не для того. Я тебя ни в чем не виню и никогда ничем не попрекну. Ты должна понять, что мне трудно. Ты день за днем так… каждый вечер… все время. А я не имею права даже прикоснуться к твоей руке!
Бася улыбнулась своей обычной насмешливой улыбкой и посмотрела Гансу прямо в глаза. Она любила улыбаться, глядя в его расширенные зрачки, где мерцали влажные отблески.
– Не смотри на меня, – вскипел Ганс. – Когда ты так смотришь, я готов тебя убить. Лучше послушай, что я хочу сказать.
– Хорошо, я послушаю. И не буду смотреть на тебя. Опустив глаза, Бася глядела под ноги и видела булыжники мостовой, неровные, угловатые, истершиеся от времени.
"Камни, камни, они давно лежат, прижавшись друг к другу. И будут лежать так десятки, а может, сотни лет. И век у них долгий, как само время. По ним ходят люди, их бьют копыта лошадей, а они лежат, прильнув друг к другу, не шевелясь, твердые и неподвижные. И только каменщик, человек с железными мускулами и тяжелым молотом, может их разбить, расколоть. Только разбить на куски, но не уничтожить. И новые половинки будут снова лежать, припав друг к дружке, и будут жить вечно, и вечно будут тверды и неподвижны". Бася думала о камнях. Почему о них? Потому что у нее под ногами были камни? Потому что смотрела в землю? Она сама не знала, почему думала о камнях, да это и не имело значения.
Ганс говорил, размахивая руками, говорил долго, но Бася слышала лишь отдельные слова, и ей было все равно, что он скажет и что она ответит ему. На один и тот же вопрос могла бы ответить и да, и нет, даже не думая.
Она улавливала обрывки фраз:
– Мой отец… он согласен, ведь он не против… Мы договорились с хозяйкой… спрячем тебя в кладовке… Она замурована, там два выхода… никакая собака не найдет… буду приходить каждый вечер… радиоприемник, все, что хочешь… я сожгу твои желтые звезды, ты забудешь, что они когда-то были… Отец устроит… документы будут настоящие, со всеми печатями… через месяц я получу назначение в Италию… жить будем в Риме, потом в Венеции… в Италии не надо скрываться… ты все забудешь… Почему ты молчишь?
– Хорошо, – ответила Бася. – Да…
– Ты будешь итальянкой… Мы сделаем тебе итальянский паспорт… дадим тебе самое красивое итальянское имя… В Риме не нужно прятаться, и мы поженимся.
– Да, – сказала Бася.
Он снова взял ее руки и сжал их своими горячими пальцами, но она не чувствовала, потому что думала о камнях.
– Я знал, что ты согласишься, – говорил Ганс. – Я даже не сомневался. Сегодня еще нельзя. Надо привести в порядок твою новую комнату. А завтра вечером я приду и выведу тебя из гетто. Ты слышишь меня?
– Я слышу.
– Жди меня завтра здесь, в подворотне, в десять вечера. Ты слышишь?
– Слышу.
– Бася…
Она заметила наконец, что ее руки в его руках, и высвободила их. Она подняла голову и усмехнулась, а потом, оставив на губах свою насмешливую улыбку, посмотрела ему, Гансу, прямо в глаза. Она дьявольски любила улыбаться так и смотреть в его расширенные зрачки, где мерцали влажные блики.
Бася острым взглядом окинула его с ног до головы, всего Ганса Розинга. Коричневая форма на нем была гладкой, чистой, отутюженной до последнего шва. От кончика сапог, высоких, лакированных, чеканящих шаг по тротуару, и до блестящего козырька выгнутой фуражки, сидящей точно на месте, ни миллиметром выше или ниже, – эта коричневая форма так ладно облегала тело Ганса, что, казалось, слилась с ним, фельдфебелем оперслужбы при штабе Розенберга. Сейчас его можно было хоть на трибуну выпускать. Будь здесь трибуна, фельдфебель Розинг взлетел бы ли нее, скрипя новыми подметками, предстал бы перед публикой во всем своем блеске и великолепии, выбросил вперед руку с красной повязкой и крикнул бы, еще раз крикнул:
– "Дамы и господа! Друзья! Вам известно, кто такие евреи? Евреи-наши заклятые враги! Дамы и господа! Друзья!.."
Она опять усмехнулась и уставилась на него своими зелеными глазами.
– Бася… – сказал он. – Бася, не смотри на меня. Когда ты так смотришь…
– Я рада, Ганс, – заговорила она. – Знаешь, Ганс, я очень рада.
– Ну конечно же…
– Погоди, Ганс, – продолжала она – Ты знаешь, чему я рада? Я очень, очень рада, что не ты был первым мужчиной, которого я почувствовала. Хотя это вполне могло случиться, правда? И ты никогда не станешь тем мужчиной, с которым я буду что-то чувствовать. Ты понял, Ганс?
Фельдфебель Розинг выгнул шею и ударил Басю. Кулаком в лицо.
– Шлюха! – рявкнул он. – Жидовская подстилка! Ты… ты… еще смеешь… – И ударил еще раз, другой рукой.
– Отстань! Уходи отсюда! – тряхнула головой Бася. Она почувствовала, что возле них вырос кто-то третий.
– Тварь… Потаскуха… – хрипел Ганс Розинг, собираясь снова ударить Басю.
– А ну проваливай! Дуй отсюда! – шагнул к нему Рувка. – Ты слышал, что сказала Бася?
– И ты еще тут… Кто ты такой? Она спит с тобой? Да? Эта шлюха с глазами, как у кошки… Да?
Рувка пригнулся, сжал кулаки и пошел на Ганса. Он приближался к нему и говорил тихо, отчетливо, чтобы Ганс понял:
– Пошел вон отсюда, Розинг. И не хватайся за кобуру, фельдфебель. А не то я свистну друзьям, и от тебя останется только мокрое место, Ганс Розинг.
Ганс отдернул руку от кобуры, пятясь, выбрался из подворотни и пустился бежать по тротуару. Он бежал до самых ворот гетто, а там уж кто знает – может быть, пошел шагом.
Рувка тоже хотел уйти. Бася была слишком близко. А его расстояние известно – двадцать шагов, ни ближе, ни дальше.
– Постой, – сказала Бася и взяла его за руку. Он все еще сжимал кулак, и Бася удивилась, что у него, такого молодого, совсем еще мальчишки – ему всего лишь семнадцать, – такой большой, грубый, жесткий кулак.
– Ты работаешь вместе со всеми, да?
– Да, – ответил он. – Я работаю со всеми.
– Что ты делаешь? – спросила она – Ты ремесленник?
– Нет, – ответил он. – Я каменщик.
Теперь ей стало понятно, почему у Рувки такое серое лицо: в его поры въелась каменная пыль. Она двумя руками гладила большой, грубый, жесткий кулак и смотрела себе под ноги, туда, где лежали камни, прижатые друг к другу, камень к камню, твердые и неподвижные. Она вспомнила, как только что думала о камнях и о руках, которые раскалывают эти камни. Было странно, что он, Рувка, такой молодой, дробит камни и что они, даже разбитые, будут лежать веками, долго, как жизнь, а его, Рувку, того, что дробит камни, могут схватить завтра или даже сегодня, заломить руки за спину, бросить в черный автомобиль и увезти в Понары, чтобы убить там эти семнадцать лет, которые еще не знали женщины, не чувствовали ее ласки.
– Рувка, – сказала она. – Идем. Ты хочешь пойти со мной?
Он удивленно посмотрел на нее, и его густые сросшиеся брови поднялись еще выше.
– Я всегда хожу с тобой, – ответил он.
– Нет, – усмехнулась Бася. – Сегодня я никуда больше не пойду. Я не пойду туда, где должна была быть сегодня. Понимаешь?
Он молчал.
Она повела Рувку за руку. Она шла впереди, а он чуть сзади. Он не видел дороги, не знал, куда идет. Он смотрел на Басю и, казалось, впервые так близко видел ее ноги, пружинящие при каждом шаге, ее шею, высокую и теплую, зеленые блестящие глаза и алые, ярко-красные губы. Бася то и дело оборачивалась, и он думал, что хорошо бы купить какую-нибудь дорогую, сверкающую, искрящуюся брошь и приколоть ей на грудь вместо этого привычного украшения– желтой звездочки.
– Идем быстрей, – сказала Бася. – Еще увидит кто-нибудь.
– Пусть видят, – ответил он. – Чего ты боишься?
– Я не боюсь, – усмехнулась Бася. – Чего мне бояться. Может, ты не хочешь идти со мной? Я уже старуха, а ты еще так молод.
– Тебе двадцать, – ответил он.
– Нет, нет! Мне уже тридцать, а может, и все тридцать пять. Ты не знал, что я такая старая?
– Все равно тебе только двадцать. Не важно. Все равно двадцать. Она опять усмехнулась и сверкнула своими кошачьими глазами.
– Я тебе нравлюсь? – спросила она.
– Да. Очень, – ответил Рувка.
– Уже близко, – сказала Бася. – Ты знаешь этот дом?
– Нет, не знаю.
– Там, внизу, есть уголок. Там никто еще не был. Иногда я там сижу. Когда мне хочется побыть одной, я прихожу сюда.
Они спустились по кривым ступенькам, толкнули скрипучую дверь.
– Не запнись, – сказала Бася, – и не отпускай мою руку.
Рувка молчал.
– Там, в углу, под окошком, видишь? Там скамейка. Моя скамейка. Проходи, садись.
Они молча сидели рядом.
– Тебе нравится здесь?
– Очень нравится.
– Я же говорю, что здесь никто еще не был.
– Я знаю, – ответил он. – Ты думаешь, я не знаю?
– Правда? – сказала она. – Так что же ты сидишь?
– Не знаю.
– Ты любишь меня, Рувка?
– Люблю.
– Дотронься до меня. Почему ты боишься ко мне притронуться?
Она прижалась к нему, и он неловко обнял ее плечи. Он чувствовал ее теплую шею и боялся шевельнуться. Осторожно потрогал звездочку – украшение и хотел сорвать ее, чтобы приколоть на этом месте брошь, которой не было. Она сама повернулась, крепко обвила руками шею Рувки и поцеловала его в губы. Он чувствовал сладость ее губ и смотрел в ее зеленые глаза, блестящие, как у кошки.
– Обними меня крепче, – сказала она.
– Не хочу, – ответил он и убрал руку.
– Ты не любишь меня?
– Люблю.
– Так что же?..
– Не надо, – проговорил он.
– Не надо?!
– Нет, не надо.
– Но больше я тебе ничего не могу дать. Больше у меня ничего нет, сказала Бася.
– Не важно. Все равно не надо.
Тогда она обхватила голову руками, уткнулась в колени и заплакала.
Рувка сидел рядом, обняв ее вздрагивающие плечи; он гладил волосы Баси и не утешал ее. Он молчал и только время от времени негромко повторял одну и ту же фразу:
– Не плачь, Бася. Не надо. Никогда не надо плакать.








