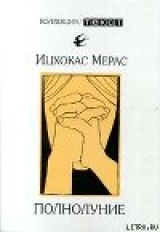
Текст книги "Вечный шах"
Автор книги: Ицхак (Ицхокас) Мерас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Мерас Ицхак
Вечный шах
Глава первая
НАЧАЛО
1
Когда фигуры были расставлены, Шогер прищурился и, помедлив, взял две пешки – белую и черную. Он их спрятал в ладони и встряхнул.
– Ну, кто начинает? Я или ты?
Его уши подергивались, бледная кожа под редкими, прилизанными волосами вздрагивала.
Он волновался.
"Будь я индейцем, – думал Исаак, глядя на его шевелящиеся волосы, – я бы, наверное, срезал этот скальп…"
– Не знаешь? – спросил Шогер и выставил руки перед собой. – Если не знаешь, я скажу тебе. Все на свете – лотерея. Шахматы – лотерея, мир лотерея и жизнь – тоже лотерея.
"Он здесь хозяин, и все-таки боится…" – думал Исаак.
– Знаешь что? Ты можешь выбрать. Я предлагаю тебе черные. В лотерее, как правило, проигрывают.
– Левую, – сказал Исаак.
– Ну, смотри.
Шогер разжал пальцы. На ладони была белая пешка.
– Еврейское счастье, – усмехнулся он. – Я не виноват: ты выбрал сам.
"Неужели это смерть? – подумал Исаак. – Я не хочу умереть. Разве есть на свете человек, который хотел бы смерти?"
И все же ему достались белые.
Исаак повернул доску, бросил взгляд на фигуры и сделал первый ход.
2
Вы знаете, как светит весеннее солнце? Вряд ли вы знаете, как оно светит. И откуда вам знать, если вы не видели, как улыбается Бузя. Весеннее солнце светит, как улыбка Бузи, а ее улыбка – такая же светлая, как весеннее солнце.
Я знаю, я увидел ее вчера, и мне стало страшно, что только сейчас я встретил ее. Она живет в конце темной улички на другой стороне гетто.
Я был просто дурак все это время. Я не знал, что у нас в гетто живет Бузя.
Она шла с подругами.
Я взглянул на нее и остановился, не в силах оторвать глаз. Тогда она улыбнулась. Она пожала легкими своими плечами, будто не понимая, чего я встал на ее пути. Улыбнулась и пошла своей дорогой.
Потом она обернулась, и я снова увидел ее улыбку. Теперь я знаю, как светит весеннее солнце. Оно светит, как улыбка Бузи, а улыбка Бузи-как весеннее солнце.
Вчера я не знал еще, как ее зовут. Но увидел ее и вспомнил "Песнь песней".
Я вспомнил девочку из "Песни песней" Шолом-Алейхема, первой книги, которую прочел в детстве, и дал незнакомке имя Бузя. Мне хотелось, чтобы я был Шимек, а она – Бузя. Чтобы вокруг не было узких уличек гетто, обнесенных высокой стеной.
Чтобы не было людей с желтыми звездами. Чтобы мы были еще маленькими и только вдвоем. Шимек и Бузя.
Чтобы сидели на широком, без конца и края лугу, на мягкой зеленой траве, и чтобы я мог сказать:
"… Бузя-сокращенное имя: Эстер-Либа, Либузя, Бузя. Она старше меня на год или два, а обоим нам нет и двадцати. Теперь потрудитесь посчитать, сколько лет мне и сколько Бузе…"
Вы знаете, где я сейчас?
На другом краю гетто, в конце узкой улички, той, на которой живет Бузя. Я сижу на каменном пороге. Странная прохлада исходит от этого гладкого Камня и растекается по всему телу, но я не встаю. Может быть, это холодок, оставшийся еще с зимы и не успевший растаять на весеннем солнце, но мне совсем не холодно. Мне тепло. Если бы мама была жива, она бы поправила платочек, ровно лежащий на голове, и всплеснула бы руками.
– Изя! – сказала б моя мама. – Изя, ты же молодой человек, ты уже почти жених, а сидишь на холодном камне, как мальчик. Изя! Ты ведь, можно сказать, мужчина, чтоб не сглазить, а того и гляди придешь домой с готовой болезнью, не дай тебе Бог! Я сижу. Мне тепло.
Мы только что вернулись с работы. Я тут же умылся, натянул свою красивую голубую рубашку и побежал сюда, к этому каменному порогу.
Я жду. Жду, когда появится Бузя. Когда сидишь возле дома, на каменном пороге, слышишь все: каждый шаг, каждый шорох, малейший звук. Хлопнула дверь – и мне кажется, что это Бузя. Прошуршали шаги– и я думаю, что это Бузя. Скрипнули деревянные ступеньки – я жду: вот сейчас выйдет Бузя.
Ее нет, не выходит. Может, вовсе нет никакой Бузи? Может, мне просто вспомнилась "Песнь песней", первая книга, которую я прочитал в детстве?
Снова хлопает дверь, шуршат шаги и скрипят старые ступеньки. Сейчас она выйдет. Не может быть иначе.
Да, это Бузя.
Я вскакиваю, смотрю на нее и не знаю что сказать. Все слова перепутались, перемешались у меня в голове.
У нее пепельные волосы. У нее большие синие глаза. Они смотрят на меня молчаливо и удивленно.
Я должен что-то сказать, не важно что. И я говорю.
– Бузя!.. – говорю я и сам над собой готов смеяться. И она действительно смеется.
Сверкают белые жемчужные зубки. Ее губы горят, как алые ленты, а щеки цветут, как маки.
– Кто ты? – спрашивает она. И опять смеется.
– Я – Изя, – поспешно отвечаю я. – Я – Исаак Липман, но ты зови меня Изей.
Она уже не смеется. Она слушает.
– Пойдем со мной, девочка Бузя, – говорю ей, – я расскажу тебе, кто я.
– Почему ты называешь меня Бузей?
– Идем, я все тебе расскажу.
Она идет со мной.
Я хотел бы идти с ней так далеко-далеко. Чтобы мы вышли на широкий луг и сели там на мягкой траве друг перед другом. Я рассказал бы ей все, что она пожелает. Но луга у нас нет, и уйти нельзя. У ворот– часовые.
Не важно. Мы можем сидеть и на этом дворе. Нам никто не мешает, здесь валяются деревянный ящик и трухлявое длинное бревно. Мы можем сидеть где угодно, все равно нам будет казаться, что мы на большом лугу, среди душистых цветов, и нет им конца и края.
Правда, Бузя?
Она молчит.
Мы заходим во двор и садимся. Я – на бревно. Бузя– на ящик. Она сидит на ящике, обхватив коленки и прижав к ним подбородок. Я улыбаюсь. Я хотел, чтобы она сидела вот так, подняв колени. Широкая юбка закрыла ноги, пепельные волосы рассыпались по плечам. Я могу сидеть так очень долго. Сидеть и смотреть на Бузю. Я не хочу уже ничего рассказывать. Зачем слова, если можно просто сидеть и смотреть.
Но она хочет, чтобы я говорил, она хочет знать, кто я.
– Кто же ты, Изя? – спрашивает она, и в ее больших синих глазах появляются два смешливых чертика.
– Я – Изя, – говорю. – Я – Липман. Я родился здесь, в этом городе, мой отец– портной, и его пальцы исколоты иглой чаще, чем небо звездами.
Конечно, я мог бы рассказать, что брат у меня без пяти минут философ: он учился в университете, но не успел закончить из-за войны,
Я мог бы рассказать, что сестра моя – Ина Липман, та самая, певица, которая до войны объездила полмира.
Я мог бы рассказывать и рассказывать.
Лучше не надо. Она подумает, я хвастаюсь, задаюсь своими братьями и сестрами. Она еще рассердится, встанет и уйдет, и я останусь один. И снова, буду думать, что никакой Бузи нет на свете, просто мне вспомнилась "Песнь песней", первая книга, которую я прочел в детстве.
– Ина Липман – твоя сестра?
– Сестра…
– Та самая, знаменитая певица?
– Да, – торопливо говорю я Бузе, – но это не важно, правда? Ина – это Ина, моя сестра, а я – это я, Изя.
Бузя кивает, соглашаясь со мной, и я рад. Она кивает быстро-быстро, и ее пепельные волосы колышутся, как мягкие волны на реке, как спелые хлеба в поле.
Не сердитесь. Я соврал.
Это вышло нечаянно.
Я сказал, будто она старше меня на год или на два, а обоим нам нет и двадцати.
Это неправда. Я только хотел, чтобы так было. Как в "Песни песней".
На самом деле нам обоим уже много лет. И старше я, а не Бузя. Ей шестнадцать, мне – семнадцать с половиной. Теперь потрудитесь посчитать, сколько нам обоим. Нам уже тридцать три года с половиной. Много, правда?
Мы считаем вместе.
Сначала я загибаю один, другой и все пальцы правой руки, потом быстро загибаю на левой, но пальцев не хватает. Тогда я осторожно беру Бузю за руку и сгибаю ее пальчики. Но их тоже не хватает– так много нам лет!
Мы смеемся, оттого что нам не хватает пальцев.
И она говорит:
– Все равно не сосчитать. Один палец – один год. А где взять половину?
Я не смеюсь. Молчу.
Мы могли бы сосчитать.
У меня есть полпальца, только Бузя не заметила.
Это было давно, год назад. У ворот гетто лежала железная балка. Шогер подозвал меня и велел ее поднять. Я оторвал конец балки от булыжной мостовой, хотел было выпрямиться, но Шогер что-то крикнул и вскочил на балку. Я так и не успел вытащить палец…
Мы могли бы сосчитать, сколько нам лет, но я не хочу. Я сожму левую руку в кулак, и Бузя не узнает, что можно сосчитать и полгода.
Я снова смеюсь. Потом спрашиваю:
– Как тебя звать, Бузя?
– Меня зовут Эстер.
Она снова обнимает колени и опирается на них подбородком.
– Я тоже родилась здесь, в этом городе. Только у меня нет ни братьев, ни сестер. Был старший брат, но его уже нет. Папа – врач, а мама медсестра. Оба много работают, дни и ночи. Они работают в больнице гетто, и им очень трудно. Ты ведь знаешь, что евреям запрещено болеть заразными заболеваниями. Но таких заболеваний ужасно много, поэтому мама, и папа, и все другие лечат людей, вписывая неправильный диагноз.
Она говорит, но я почти не слышу.
– Как твое имя? – снова спрашиваю я. – Как ты сказала?
– Эстер.
Я изумлен.
– И Либа тоже?
– Нет, только Эстер.
– Не важно! – кричу я. – Не важно! Тебя зовут Эстер-Либа.
Снова скачут веселые чертики у нее в глазах.
– Ты хочешь, чтобы я была Бузей? – спрашивает она и щурится. – Хочу, чтобы ты была Эстер-Либой, Либузей, Бузей… И я рассказывал бы тебе всегда одну и ту же сказку из "Песни песней".
– Но тогда ты должен быть Шимеком?
– Я буду Шимеком… Хочешь послушать?
– "… Я – Шимек, и у меня был старший брат Беня. Он отлично стрелял из ружья и плавал как рыба. Однажды летом он купался в речке и утонул. На нем сбылась поговорка: "Все хорошие пловцы тонут". Он оставил водяную мельницу, пару лошадок, молодую вдову и ребенка. От мельницы мы отказались. Лошадей продали. Вдова вышла замуж и уехала куда-то далеко. А ребенка забрали мы. Это и была Бузя". Ты слышишь, Бузя? И вдруг я слышу чей-то голос:
– Откуда тут у нас этот юный Шолом-Алейхем?
Передо мной стоит гладко причесанный парень с желтой заплатой на груди. Он стоит и смотрит мне в глаза, хитро, по-стариковски щурясь.
– Откуда ты, Шолом-Алейхем? – снова спрашивает он. Я встаю, подхожу к нему и говорю:
– Я – Изя, Исаак Липман. Я не Шолом-Алейхем. Ты же видишь, у меня короткие волосы и нет очков. А ты кто?
– Янек, – отвечает он и усмехается. – Это неполное имя? – спрашиваю я.
– Хм! – говорит он.
– Ты, наверное, Янкель и поэтому Янек?
– Хм!
– Как твое полное имя?
– Янек, – повторяет он.
– Я что-то не знаю такого странного имени…
– А что такое пся крэв, ты знаешь? Это я! – хохочет он. – Я поляк, и меня зовут Янек.
Он действительно говорит по-еврейски не совсем как мы. Да и с виду мог бы сойти за поляка… Но тогда почему он в гетто?
Янек и Эстер смеются. Они довольны, а я ничего не понимаю.
– Вот ты где, – говорит отец. – Я все гетто обошел. Помоги мне найти Ину. Куда она могла пропасть? Идем, Изя, идем.
Мои новые друзья уже не смеются. Они смотрят нам вслед. Я машу им рукой и ухожу с отцом искать Ину.
Куда она могла пропасть?
Глава вторая
ХОД ПЯТЫЙ
1
Шогер неторопливо двинул слона, держа его аккуратно, двумя пальцами, как драгоценность. «Я плохо начал, – подумал Исаак. – Сегодня мне трудно играть».
– Лично я отдаю предпочтение медленному наступлению, – проговорил Шогер. – Известно, что блицкриг не всегда ведет к победе.
"Не понимаю, куда он клонит, – размышлял Исаак. – Себя успокаивает или меня? Шогер мог бы играть еще лучше, если бы меньше думал о том, что должен выиграть. Как он говорит? Лотерея…
Шахматы – лотерея, мир – лотерея и жизнь – тоже лотерея.
Почему я сижу перед ним?
Риск и лотерея…
Разве это одно и то же?"
2
– Я родил дочь Ину, – сказал Авраам Липман.
3
У больших ворот обычно караулят двое. Один – немецкий солдат, другой наш полицай из гетто.
И сегодня тоже. Но только сегодня это не совсем так. Ворота охраняет не немец, а чех. Я так старалась запомнить его имя и фамилию и все-таки забыла. Они похожи на польские, а польские– на их. В конце концов, не это важно. Я спрошу еще раз и запомню как следует. Важно, что вчера чех согласился выпустить меня в город на час и даже не спросил, куда и зачем я пойду.
Почему я волнуюсь?
У меня дрожат руки, наверное, дрожал бы и голос. Со мной всегда так, пока не освоюсь. Волнуюсь на сцене, волнуюсь на людях, а сейчас – особенно.
Чех, когда я договаривалась с ним вчера, стоял, почтительно склонив голову. Видно, полицейский сказал ему, что я – Ина Липман. Может быть, он из Праги, этот парень, и слышал, как я пою. В Праге я выступала дважды. Там были огромные афиши с гигантскими буквами, только букв почему-то было больше, чем надо. INNA LIPPMANN. Что ж, если им так нравится!.. Они кричали мне: "Браво, бис, браво, Инна!" – и я пела им снова и снова.
Я стою, прижавшись за углом, и жду, когда сменятся часовые. Они все противные, будто не люди даже, а какие-то мерзкие твари в зеленой форме, и я всегда боюсь нечаянно прикоснуться к ним.
Да, я вижу, чех уже здесь.
Он тоже в зеленом, но выглядит почему-то иначе. Я вижу его самого, вижу его лицо и вовсе не замечаю зеленой формы, не замечаю даже винтовки. Боже мой, ну конечно же, все зависит от человека, и ровным счетом ничего не значит, во что он одет! Как на сцене. В каком бы платье ни вышла, я – это всегда я, Ина Липман.
Но все-таки хорошо, что на свете не только немцы, хорошо, что на этой земле есть много-много живых людей.
Если когда-нибудь мне удастся собрать их в большом зале, таком большом, чтобы в нем уместились все-все… Я выйду на сцену и не стану говорить, кто я. Не будет афиш с гигантскими буквами, и букв будет не больше и не меньше, чем требуется. Просто женщина, такой же человек, как и они, хочет петь для них. Я буду петь им долго, самые лучшие свои песни. Они будут сидеть и слушать. Я не хочу, чтобы кричали «бис», «браво». Пусть себе молча сидят и слушают. Я буду петь им, как не пела еще ни разу, как не спою никогда и нигде. Я буду петь им так, как пою здесь, в гетто.
Чех заметил меня и махнул рукой.
Я подхожу.
Он озирается.
– Можете идти, – говорит чех, – если хотите… Только лучше бы вам не ходить, конечно. Оставайтесь тут, а если вам что-то нужно в городе скажите, я сделаю.
Я качаю головой.
– Как вам угодно, – продолжает он. – Только будьте осторожны, когда станете возвращаться. Смотрите в оба: Шогер имеет обыкновение шнырять у ворот по вечерам.
– Хорошо, хорошо, не бойтесь, – отвечаю я. – Бояться нечего.
Я быстро иду но улице.
Я впервые одна выхожу из гетто. Желтые звезды пришиты к жакету, а жакет перекинут через руку вверх подкладкой.
Мимо проходят женщина и мужчина. Я не знаю их, но они оборачиваются раз, другой и даже третий. Пробегают дети. Они тоже оглядываются на меня. Неужели меня еще можно узнать по изображению на афишах, которых давно нет и в помине?
Я знаю, я нехороший человек. Я хочу, чтоб меня узнавали. Да, в глубине души хочу. Ведь столько людей слушало когда-то, как я пою. Но я не имею права. Меня не должны узнать. Это во мне все еще говорит артистка… В свое время Ина Липман была знаменитостью и считала, что принадлежит только самой себе. Но на самом деле было не так, и это тем более не так сейчас.
Я захожу в подворотню, достаю из кармана зеркало, грим и косынку. Теперь уж наверняка меня никто не узнает. Можно идти смело, с высоко поднятой головой и на минуту представить, что я свободна и вокруг нет того, что есть на самом деле.
Нет, не могу.
Странно, но я не могу представить себе это. Я, должно быть, могу играть только на сцене. Время накладывает свой отпечаток, суровый, жесткий, и тут не поможет никакой грим. Лучше не буду слишком смелой. Надо сделать еще очень много, сделать то, что теперь всего дороже.
Четыре месяца подряд, вернувшись с работы, мы вновь принимались за работу – тайком, по ночам, чтоб никто не слышал, не видел. Мы репетировали «Аиду».
И наконец сегодня, в эту ночь, состоится генеральная репетиция.
Боже мой! Сколько раз я пела Аиду, но это как бы впервые в жизни. Мы все измучились. Но работали так, как вряд ли под силу людям. У нас все как в настоящем театре, даже дублеры. Нет, дублеры, наверно, – самое важное. В театре они лишь у главных исполнителей, а тут у всех: у главных и второстепенных, у статистов и у хора. У каждого человека свой дублер, даже в оркестре. Это время наложило свою печать, и другого выхода нет.
Мой дублер – Мира. Мирка. Ей девятнадцать лет. Из нее вырастет хорошая певица. Я хочу, чтоб она пела лучше меня, намного лучше, и чтобы в Праге или Вене, в Париже или Милане к ее имени и фамилии прибавляли уйму ненужных букв. Я буду старушкой с седыми буклями, мне будет зябко, я накину пуховый платок, сяду в первом ряду партера и буду слушать голос Мирки. Хорошо, что сегодня я вышла из гетто и сама все скажу Марии. Она будет рада, я знаю.
Певица Мария Блажевска…
В свое время мне говорили, что Мария Блажевска – это почти что Ина Липман, а ее уверяли, что Блажевска и Липман – это одно и то же. Мы встречались за чашкой кофе у нее или у меня – и дружно смеялись над тем, что нам говорили. Мы знали больше, чем другие, и потому нам было смешно. Ей тоже трудно сейчас, но легче, чем нам.
Ей передали, чтобы ждала меня сегодня, и, наверное, она уже ждет. Мы так долго не виделись – полжизни! Она просила, чтобы я не приходила. Она еще не знает, чего я хочу, даже не догадывается, и поэтому я должна пойти к ней сама, сегодня меня никто не может заменить.
Сегодня генеральная репетиция. Наконец-то… Но сегодня, когда угаснет последний аккорд, надо выйти на сцену, высоко поднять партитуру и крикнуть:
– Вот опера, которую мы хотели! Вот «Жидовка»!
Именно сегодня.
Наши ребята где только не искали, но так и не смогли найти партитуру «Жидовки». Она есть у Марии. И вот я иду к Марии Блажевской просить «Жидовку».
Ее подарил Марии Арон Цвингер. Это был славный малый, настоящий друг. Конечно, Мария знала это лучше, чем кто бы то ни было. Она заказала специальную шкатулку, обитую красным бархатом, и маленький ключик от нее всегда носила с собой. Антикварное французское издание с пометками и автографом самого Галеви. Арон тогда продал все, что у него было, и купил Марии «Жидовку». Цвингера уже нет, но там, на титульном листе, остались две строчки, написанные его рукой.
Я думаю, как бы я поступила, если б Мария оказалась на моем месте и пришла ко мне за этой партитурой…
Нет, опять не могу себе представить. Я могу играть только на сцене. Время. Во всем виновато время. Человек может многое, очень многое, но он не может одного-удержать время, повернуть его, погнать вспять.
Имею ли я право идти к Марии?
Вот парадное, и я вхожу. Поднимаюсь на третий этаж, останавливаюсь перед дверью и звоню. Звучат торопливые, встревоженные шаги. Распахивается дверь. Передо мной Мария Блажевска… Боже, она взволнованна, у нее нет слов, но глаза горят, и я вижу, что она счастлива, помогая мне переступить свой низкий порог.
Вам интересно, что было дальше. Я понимаю. Но и вы должны понять, что бывает, когда встречаются две лучшие подруги, которые не виделись полжизни, полжизни не слышали голоса друг друга. Не поющего, а обычного, произносящего "день добрый", «здравствуй», «входи», «я», «ты». Когда встречаются Мария Блажевска, которая почти что Ина Липман, с Иной Липман, которая почти Мария Блажевска.
Мы говорили недолго, а может, мне только так показалось: чех дал всего час, и нужно было возвращаться. Надо было спешить и остерегаться. Многого остерегаться, но главное-евреям запрещено появляться на улице без желтых звезд на груди и на спине, тем более в одиночку и после шести вечера. А этой ночью в гетто генеральная репетиция первой нашей оперы.
Я сказала, зачем пришла.
Мария только глянула на меня и выбежала в другую комнату. Она принесла партитуру, зачем-то полистала ее. Мне казалось, ее пальцы чуть-чуть дрожали, хотя это, должно быть, лишь показалось мне. Она открыла титульный лист, посмотрела на него, потом легонько потянула и тут же отпустила. Неужели она хотела вырвать эту страничку? Нет, мне, должно быть, показалось.
– Я бы не пришла к тебе, если б не…
– Ладно, Ина. Ты ведь знаешь, мы без слов понимаем друг друга.
– Видишь ли, Мария…
– Ничего не говори, Ина. Я начну плакать, и тогда… Лучше подумай, что сказал бы сейчас Арон.
– Мы будем беречь ее…
– Я знаю.
Мы простились.
Мария искала, что бы мне дать с собой, и наконец нашла – мешочек гороха. Я не хотела брать, но отказаться было невозможно.
Уже в дверях она взяла меня за руку и сказала:
– Знаешь, что я хочу? Собрать людей в большом зале, таком большом, чтобы там уместились все. И выйти на сцену и долго-долго петь им самые лучшие песни.
Я слушала, не дыша.
– И еще… Еще мне хочется, чтобы мы, две старушки, закутавшись в платок, сидели в первом ряду партера и слушали, как поет твоя Мирка, мировая знаменитость.
Тут я сказала:
– Не надо, Мария.
Я не могла больше слушать и ушла.
Теперь действительно никто не смотрел на меня, не оборачивался. Я никого не боялась, хоть и знала, что надо остерегаться.
Вот узкая уличка. Ворота гетто близко, возле них по-прежнему ходит чех, значит, я успела, надо только прибавить шагу. Еще быстрее. В конце пути время как бы останавливается, растягивается. Я бегу, и ворота уже близко, близко.
Вдруг я останавливаюсь и начинаю идти медленно, очень медленно. Зато время теперь спешит. Мы поменялись ролями. Как на сцене.
У ворот, рядом с чехом, стоит Шогер.
Все-таки он подстерег меня.
Я думала, сегодня его не будет, но он здесь, он улыбается, манит меня пальцем и ждет. Он, должно быть, счастлив, Шогер. Он давно хотел уличить меня в том, что запрещено под страхом смерти. А я только сейчас хватилась, что жакет с желтыми звездами висит на руке. Может быть, Шогер не заметил. Я могу еще надеть жакет, и тогда меня только высекут за горох. Может, только высекут… Но в жакет завернута партитура. Он увидит ее, с автографом Галеви, с двумя строчками Арона, и тогда сегодня, на генеральной репетиции, никто уже не выйдет на сцену и не крикнет:
– Ребята! Вот «Жидовка»!
Шогер может улыбаться. Его час настал. Совсем недавно, собственноручно обыскав меня, когда мы возвращались с работы, он сказал:
– Лично вы не существуете для меня. Мне плевать-живая вы или мертвая. Мне мешает только ваш голос, пока он не попал в мои руки. Надо полагать, это рано или поздно случится, и тогда вам несдобровать. Я, конечно, буду весьма огорчен. Но что поделаешь…
Почему я волнуюсь?
Теперь и в самом деле не стоит волноваться. Я не на сцене и не на глазах у людей. Надо думать и надо стараться, чтобы не дрожали руки, тогда и голос дрожать не будет.
Одной рукой я прижимаю к себе жакет, а другой встряхиваю мешочек с горохом. Все равно несдобровать мне сегодня: я без желтой звезды, и горох уже не имеет значения. Я накрасилась, а нам запрещена любая косметика.
Я иду твердым, шагом, подняв голову. Я действительно могу уже никого не бояться, я обрела это право. Я встряхиваю мешочек, горох гремит, как тысяча кастаньет, и мне весело.
Я усмехаюсь.
– Вы довольны? – спрашиваю Шогера. Он тоже улыбается.
Я гремлю горохом высоко, под самым носом у Шогера, и тысяча кастаньет взрывается тысячью залпов.
Он вырывает у меня мешочек и швыряет прочь.
– Жакет не мой, – говорю я. – Разрешите вернуть владельцу, и я к нашим услугам, господин комендант.
– Только быстро, – отвечает Шогер.
Я вхожу в гетто, всей спиной чувствуя обжигающий взгляд Шогера.
Мимо кто-то идет. Я не знаю кто, но кто-то знакомый. Поспешно сую ему в охапку жакет и говорю:
– Передайте Мирке Сегал. Вы знаете Мирку Сегал?
– Да, знаю.
– Передайте ей немедленно, хорошо? Это жакет Мирки, я одолжила у нее.
Теперь я свободна.
Я вижу, как ходят желваки на скулах чеха, как он скрипит зубами, словно жует железо. Не хватало еще, чтобы он сорвался. Все равно это ничего не даст. Пусть уж лучше он, а не другой караулит у ворот, пусть делает то, о чем просят его люди из гетто, и не видит того, чего видеть не надо. Его жизнь только начинается, и в ней будет еще много и добрых, и горьких минут, так же как у всех, как у каждого человека.
Я смотрю на него в упор. Он понял и хмуро отвернулся. Мне немножко жаль, что я не успела еще раз спросить его имя и фамилию. Они похожи на польские, а польские…
Я могла бы рассказывать дальше. У меня есть еще капля времени. Но я не стану рассказывать. Такие истории кончаются все одинаково, и это уже не интересно. Главное – чтобы был дублер. Я рада, что мой дублер – Мирка, Мира Сегал. Она будет большой певицей, моя Мирка.








