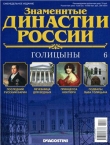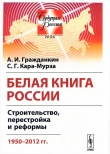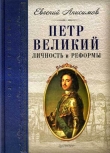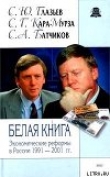Текст книги "А чем Россия не Нигерия?"
Автор книги: И. Смирнов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Получается настоящее зазеркалье! «Радикальные реформаторы» не проводят, по крайней мере в сельском хозяйстве, никаких реформ. И не потому, что не могут, а потому, что не хотят. А их противники твердят, что обвал сельского хозяйства произошёл из-за «радикальных реформ».
ПАКТ МОРО – БЕРЛИНГУЭРА: РУССКОЕ ИЗДАНИЕ?
Одна из причин бездействия «реформаторов» достаточно очевидна. Единственной «реформой», которую они проводили с подлинным энтузиазмом, была приватизация. Применительно к России это слово желательно писать с буквой «х», поскольку такое написание лучше отражает суть дела. «Реформаторы» не могли не знать о дотационности сельского хозяйства в развитых странах и на этом основании делали вывод, что и в России в этой сфере нельзя рассчитывать на высокие доходы. А потому сельское хозяйство их просто не интересовало. То ли дело нефть и газ!
Но следует ли считать эту причину нулевого варианта реформ единственной? Уверенности в этом нет. Есть целый ряд оснований думать, что в России 1990-х годов действовало соглашение, аналогичное итальянскому пакту Моро – Берлингуэра.
Напомню: сделка между премьер-министром Италии и одновременно председателем христианско-демократической партии (ХДП) Альдо Моро и генсеком итальянской компартии (ИКП) Энрике Берлингуэром была заключена в 1974 году. В соответствии с этим тайным соглашением компартия отказывалась от «раскачивания лодки» и из непримиримой оппозиции превращалась во вполне лояльную. Заодно коммунисты разрывали со своей прежней – просоветской – внешнеполитической позицией. Как раз на это Берлингуэр и его соратники пошли с лёгким сердцем, поскольку после подавления советскими танками «пражской весны» СССР им действительно разонравился. Но поскольку рассчитывать на советскую денежную помощь компартия уже больше не могла, она потребовала финансовых вливаний из иных источников. И получила деньги! Схема выглядела так: правительство предоставляло субсидии красным сельскохозяйственным кооперативам, которыми руководили члены ИКП. А кооперативы жертвовали часть этих денег любимой партии. Так правительство взяло на себя финансирование компартии, на словах всё ещё решительно оппозиционной.
В итоге все остались довольны. И христианско-демократические волки были сыты (а значительная часть руководства ХДП имела теснейшие связи с мафией, хотя о Моро этого сказать нельзя). И коммунистические овечки... тоже сыты. А что касается обмана подавляющего большинства избирателей, по привычке считавших ХДП и ИКП непримиримыми противниками, то о такой мелочи участники сделки вовсе не думали.
Существовал ли аналогичный договор между «партией власти» и верхушкой КПРФ в России 1990-х годов? Прямых доказательств пока нет. Но некоторые косвенные основания предполагать наличие подобной сделки имеются. По какой-то необъяснимой странности за сельское хозяйство в правительствах Ельцина – Черномырдина с 1993 по 1998 год неизменно отвечали представители очень близкой в то время к коммунистам Аграрной партии: А. Заверюха, А. Назарчук, Г. Кулик. Следует напомнить, что аграрная фракция в Госдуме 1995-1999 годов существовала только благодаря тому, что коммунисты делегировали в неё внушительную группу своих депутатов. Так что распределение субсидий и кредитов для сельскохозяйственных предприятий – пусть и небольших по размерам – находилось всецело в ведении дружественных компартии чиновников. Попадала ли часть этих денег в партийную кассу? Исключать такую возможность не стоит, тем более что, по свидетельству «Новой газеты», видный деятель КПРФ Илья Пономарёв в 2003 году признал, что компартия получала-таки деньги от «антинародного государства». Но, во всяком случае, прокоммунистические вице-премьеры и министры были полны решимости не допустить каких-либо аграрных реформ и в этом преуспели.
Если в России действительно был свой «пакт Моро – Берлингуэра», то можно с большой уверенностью вычислить время его заключения. Это либо самый конец 1993-го, либо самое начало 1994-го. Именно тогда и правительство Ельцина – Черномырдина, и верхушка КПРФ явно повернули от действительно жёсткого противостояния к «номенклатурному примирению».
Вряд ли нужно объяснять, что судьба отечественного сельского хозяйства обе стороны мало интересовала. «Партия власти» мечтала о «стабильности» и беспрепятственном проведении «прихватизации». Коммунисты считали, что при сохранении колхозно-совхозного строя голоса сельского населения на выборах им обеспечены. Ведь ни для кого не тайна, что большинство сельских избирателей голосует так, как прикажет начальство. А колхозное и совхозное начальство тогда было сплошь красным. Вот только расчёт коммунистов на то, что такое положение сохранится навсегда, не оправдался. В последние годы основная часть агрочиновников перебежала на сторону «партии власти».
ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИКИ
Итак, «радикальные реформы» не могли вызвать кризис сельского хозяйства 1990-х годов, потому что в сельском хозяйстве их просто не было. Но при этом производство упало сильно, а реальная зарплата работников сельского хозяйства – ещё сильнее. Следует выявить подлинные причины этого падения. Начнём с макроэкономики.
Во всех развитых странах сельское хозяйство получает более или менее значимые государственные дотации. Этот факт часто упоминают, но на удивление редко хоть как-то пытаются объяснить. Но не найдя ему объяснения, мы ничего не поймём и в нашем собственном кризисе.
В любой стране сельское хозяйство – это та отрасль экономики, которая менее других поддаётся монополизации. Независимых производителей всегда много. Если цены рыночные, то эти независимые производители конкурируют между собой и в ходе конкурентной борьбы сбивают цены на сельскохозяйственные продукты. Такое положение выгодно для потребителя, но самим производителям наносит ущерб.
Однако те отрасли, от которых в высокой степени зависит нормальная работа сельскохозяйственных предприятий, как правило, организованы иначе. Так, электроэнергетика в большинстве стран мира представляет собой государственную или контролируемую государством монополию. За последние десятилетия из этого правила появились исключения, главное из которых – США. Но там ослабление (отнюдь не полная отмена!) государственного регулирования отрасли положительных результатов пока что не дало. Вместо всеобъемлющей монополии под государственным контролем образовалась сеть частных монополий регионального масштаба. И вероятность «конца света» (электрического) в одном отдельно взятом регионе даже возросла. А реальной конкуренции как не было, так и нет.
В ряде других отраслей существует не монополия, а олигополия. Например, нефть и нефтепродукты в западных странах находятся под контролем примерно десятка крупных ТНК. Похожую картину можно увидеть в производстве минеральных удобрений и химических средств защиты растений. В основном на западном рынке удобрений и ядохимикатов господствуют шесть гигантских корпораций. Есть и более мелкие независимые производители, но их роль невелика. Олигополия отличается от монополии тем, что конкуренция не исчезает. Поэтому олигополия не ведёт к технологическому застою. Но ценообразование в таких условиях нельзя считать вполне рыночным. Всегда возможен прямой сговор между немногими крупными фирмами. Однако и при отсутствии такого сговора компании могут одновременно «играть» таким образом, чтобы поддерживать цены на выгодном для себя (= высоком) уровне.
Несколько лучше для фермеров западных стран обстоят дела в производстве сельскохозяйственных машин и орудий. Конкуренция между производителями в этой отрасли сильнее. Но всё равно число независимых производителей в с.-х. машиностроении не слишком велико.
Итак, цены на сельскохозяйственные продукты оказываются заниженными вследствие острой конкуренции. А цены на товары и услуги других отраслей, от которых зависят с.-х. предприятия, наоборот, обычно завышены. Об этом «заботятся» моно– и олигополии. Так возникает диспаритет цен. Ничего самобытно российского в этом явлении нет. Оно существует и в западных странах.
Но в условиях демократии (без кавычек) никакое правительство не может быть заинтересовано в массовом разорении своих фермеров и упадке сельского хозяйства в своей стране. Поэтому государство придумывает разные способы возмещения тех потерь, которые несут аграрии. Частично это открытые субсидии, к разряду которых относятся и закупки продукции в государственный фонд по высоким ценам, частично – налоговые льготы. Существование такого механизма возмещения действительно необходимо и неизбежно.
В СССР цены назначали чиновники. В конце советской эпохи, в 1970-1980-х годах, соотношение цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию стало относительно благоприятным для аграрного сектора. Выгодность этого соотношения не стоит преувеличивать. Современный российский экономист-аграрник Е.И. Царегородцев отмечает, что и в 70-х годах паритета цен не существовало, ибо ценовые пропорции всё равно были искажены в пользу промышленных товаров[38]38
См.: Царегородцев Е.И. Основы адаптивного управления в сельском хозяйстве. Йошкар-Ола: МарГУ, 1996.
[Закрыть]. Но в последнее 20-летие советского режима уровни цен на продовольствие и промтовары всё же можно признать терпимыми для сельхозпроизводителей.
Следует отметить, что так было не всегда. При Сталине, проводившем политику систематического ограбления деревни, существовали весьма разорительные для крестьян «ножницы» цен. Это тот же диспаритет, только возникший вследствие сознательных действий государственной власти. Да и в 1960-е годы соотношение цен никак нельзя было назвать выгодным для деревни. В то время рентабельность колхозов и совхозов зависела преимущественно от наличия у них подсобных цехов. Если такие цеха существовали (скажем, гнали плодово-выгодное вино), то хозяйство получало доход, в противном случае оно обычно оказывалось убыточным. Но к концу советского периода положение действительно несколько изменилось в лучшую для села сторону.
После отмены государственного контроля над ценами в постсоветской России вновь возникли «ножницы» цен. Но механизма возмещения, подобного существующим в западных странах, не было создано. Отчасти это объясняется объективной причиной – бедностью нашего государства. Государственная поддержка сельского хозяйства в тех масштабах, которые свойственны странам «большой семёрки», у нас просто невозможна – шишей не хватит! Но совершенно очевидно, что и при нынешних скромных финансовых возможностях государство могло бы возмещать сельскохозяйственным предприятиям гораздо большую долю их потерь от диспаритета цен. Хватило же у российского государства денег на две безусловно вредные и позорные войны в Чечне! Следовательно, дело не только в ограниченных возможностях, но и в полном нежелании поддерживать отечественное с.-х. производство.
Кроме ценовых «ножниц», огромный ущерб сельскому хозяйству нанесла гиперинфляция 1992-1995 годов. Но гиперинфляция, вообще-то, равно вредна для любого реального производства. При инфляции в сотни и тысячи процентов в год такая нехитрая «экономическая» деятельность, как обмен валюты, а точнее, игра на понижение национальной «деревянной» денежной единицы по отношению к твёрдым валютам всегда доходнее и надёжнее, чем какое бы то ни было производство. Кроме того, высокая инфляция резко усиливает имущественное расслоение. Меньшинство (спекулянты и те, кто приближен к государственной кормушке) обогащается, а большинство неизбежно нищает. При этом совокупный платёжеспособный спрос тоже неотвратимо и очень сильно падает. Обнищавшие рабочие, интеллигенты, пенсионеры даже продукты питания покупают в меньшем количестве. А падение спроса вызывает свёртывание производства. Естественно, при сокращении производства себестоимость продукции растёт, рентабельность падает или сменяется убыточностью. Возникает порочный круг, из которого без обуздания инфляции выбраться нельзя.
Вдобавок гиперинфляция отучает думать на перспективу. «Инвестиции» при инфляции в сотни и тем более в тысячи процентов в год – это инвестиции на неделю, на месяц, очень редко на полгода. О более долгих промежутках времени никто не вспоминает. Но никакая отрасль экономики не может обойтись без долгосрочных капиталовложений, а сельское хозяйство в особенности. Поэтому отсутствие долгосрочных инвестиций на протяжении целого пятилетия 1992-1996 годов (в 1996 году инфляция уже потеряла приставку гипер-, но инфляционные ожидания оставались очень высокими) не могло не привести к глубокому спаду в сельском хозяйстве в последующие годы.
Когда в почву не вносят удобрения, не закупают новые машины и орудия, не ремонтируют фермы и теплицы (не говоря уж о постройке новых), не закладывают новые сады и толком не обрезают существующие, всё это в будущем может привести только к развалу.
Вред гиперинфляции для сельского хозяйства состоял и в том, что между сбытом продукции (чаще конец лета или начало осени) и получением выручки за неё, с одной стороны, и затратами на новый урожай – с другой, у большинства хозяйств существовал временной разрыв. За этот промежуток в несколько месяцев деньги сильно обесценивались.
Однако ошибочно думать, будто глубокий кризис сельского хозяйства в 1990-х годах обусловлен одними макроэкономическими, внешними по отношению к селу причинами. Огромную роль сыграл и давно уже нараставший...
...САМОРАСПАД КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОГО СТРОЯ
Любой колхоз или совхоз – воплощение советской бюрократической системы на клеточном уровне. Он всегда чётко подразделяется на: 1) контору; 2) работяг.
Среди служащих колхозной (совхозной) конторы есть некоторое количество полезных для общества людей. Таковы, например, многие агрономы и зоотехники и даже некоторые председатели (директора) и их замы. Но основная часть обитателей конторы не имеет никакого отношения к земле и вообще к производству. Эти служащие составляют и заполняют бумаги или, говоря высокопарно, работают с документами. Важно подчеркнуть, что даже при идеальном председателе (директоре) число таких решительно бесполезных людей не может быть равно нулю. Дело в том, что вышестоящие чиновники различного уровня постоянно изобретают всё новые и новые формы отчётности, которая неуклонно усложняется. И кто-то ведь должен заполнять эти бланки! Так большая бюрократическая система, стремясь исключительно к самосохранению и расширению, подпитывает малые.
Идеальные председатели (директора) в природе встречаются редко. Даже если в момент своего назначения они горят энтузиазмом, его в большинстве случаев хватает ненадолго. Обычно спустя некоторое время после назначения один руководитель начинает воровать, другой спивается, третий опускает руки и впадает в прострацию. А четвёртый суетится и мельтешит, но у него ничего не выходит. Наконец, пятый обеспечит себя квартирой в доме городского типа и машиной (скажем, джипом-внедорожником) и при этом жалуется на правительство. Это правительство виновато в том, что простые работяги получают в его хозяйстве по тысяче рублей, да и то с задержками, а он – народный заступник – ни в чём не виноват.
И во всех этих случаях колхозная (совхозная) контора, повинуясь закону Паркинсона, начинает разбухать. Обозначим численность служащих колхозной (совхозной) конторы, или людей с ложкой, буквой Л. Эта величина подчиняется следующему закону: Л→∞.
Совсем другой закон определяет численность работяг, или людей с сошкой, которую мы обозначим через С. Воспроизводство этой части сельского населения давным-давно стало суженным – где в 1960-х годах, а где ещё раньше. И дело тут не только и не столько в падении рождаемости, хотя этот фактор тоже нельзя списывать со счётов. Дело прежде всего в нежелании детей колхозников и рабочих совхозов оставаться в деревне. Да и кому охота выполнять тяжёлую, нередко грязную (в буквальном смысле слова) работу за гроши, да часто ещё к тому же при ненормированном рабочем дне?
Итак, С→0.
Две величины устойчиво меняются в двух прямо противоположных направлениях. Их соотношение, конечно, тоже не остаётся неизменным. Величина Л/С, то есть число людей с ложкой, приходящихся на каждого человека с сошкой, неуклонно возрастает. Оттого экономическая эффективность колхозов и совхозов с течением времени устойчиво падает. Слишком уж тяжёлый груз в виде непомерно разбухшей конторы висит на шее у немногих оставшихся производительных работников. И притом не следует забывать, что средний возраст этих работников увеличивается, здоровье же хотя бы уже по одной этой причине не улучшается. А количество трезвых колхозников и рабочих совхозов падает быстрее, чем их общее число.
Это грустная тема. Но не стоит по-страусиному прятать голову в песок, скрывая от самих себя неприятную правду. Большинство хозяйств «общественного сектора» или уже развалилось, или медленно умирает. Причём это явление никак нельзя назвать новым. Ещё в 1970-1980-е годы всего 30% колхозов и совхозов давали более 80% всей с.-х. продукции «общественного сектора». А остальные 70% лежали на боку. И если в то время они не всплывали кверху брюхом, то только потому, что в условиях нефтяного бума (1973-1986) государство обладало возможностью их подпитывать.
Таким образом, никак нельзя сказать, что крайне неблагоприятные для села макроэкономические условия 1990-х годов – это первопричина кризиса. Макроэкономические факторы просто превратили хронический и вялотекущий кризис в острый. Но не породили его.
Самораспад колхозно-совхозного строя неизбежен по той простой причине, что землю с успехом может возделывать только хозяин, а не батрак. Так что аграрно-продовольственный кризис в России на рубеже XX-XXI веков был спланирован лет за 70 до его наступления, когда верхушка ВКП(б) приняла решение об уничтожении крестьянства как класса. Очень важно отметить, что массовое бегство из колхозов началось буквально сразу же после их создания. Поэтому-то основатель колхозного строя, Сталин, был вынужден дополнить коллективизацию всеобщей паспортизацией горожан, лишением колхозников права иметь паспорта и введением прописки (1932). Другого способа предотвратить повальное бегство из деревни не нашлось. Забавно, что в 1932 году ещё у многих советских граждан имелись советские энциклопедические словари 1920-х годов, в которых паспортную систему определяли как «систему закрепощения трудящихся». Это точно! Лучше не скажешь!
ЧТО ТАКОЕ ПРОПИСКА?
В 80-х годах минувшего века одна интеллигентная московская дама обнаружила, что её тётушка, увезённая из России малолетней в первые годы после революции, до сих пор живёт и здравствует во Франции. Племянница и тётка начали оживлённую переписку. Тётушка осталась до кончиков ногтей русской, прекрасно знала родной язык, но некоторых явлений советской действительности совершенно не понимала. «Ты мне, пожалуйста, объясни, что такое прописка?» – спрашивала она в одном письме. Племянница была поставлена в тупик. Как объяснить, что это такое, французской гражданке, которая никогда ни с чем подобным не сталкивалась?
Действительно, иностранцам это самобытное явление понять трудно. А наши ничего – привыкли. Даже и тогда обычно не ропщут, когда кто-то попадает в замкнутый круг: прописку не дают, потому что нет работы, а на работу не берут из-за отсутствия прописки. А ведь так бывает нередко! Скажем, мой однокурсник по Тимирязевке Валентин Скуратов, ныне отец четверых детей, годами жил в подмосковном Ногинске, а прописки тем не менее не получил. Не удостоили. И на постоянную работу он никак не мог устроиться. А сколько таких семей по России, которые маются годами, иногда – десятилетиями!
Конечно, введённая Сталиным система закрепощения трудящихся не сохранилась в неизменном виде. Она существенно ослабла в 1950-1970-х годах, когда колхозникам постепенно выдали паспорта. Эта гуманная (без кавычек!) мера существенно ускорила бегство из колхозной деревни и, следовательно, сильно приблизила наступление аграрно-продовольственного кризиса.
Но в целом крепостнический институт прописки благополучно дожил в России до наших дней. Нельзя сказать, чтоб он был совсем уж уникальным. Сходная «паспортно-прописочная» система действовала в ЮАР времён апартхайда. Правда, там она распространялась только на чёрное большинство. Господствовавшее белое меньшинство обладало свободой передвижения. В середине 1980-х годов массовые выступления чёрных южноафриканцев вынудили режим белого меньшинства отменить полукрепостнические порядки. Это произошло задолго до полной ликвидации апартхайда.
Жители России пока ещё очень далеки от той степени свободы передвижения, которую получило чёрное население ЮАР в последние годы существования расистского режима. Между прочим, это одно из самых ярких доказательств того бесспорного факта, что никакой всамделишней демократизации в России не было и в помине. Любое мало-мальски демократическое правительство отменило бы прописку в первые дни после прихода к власти. Но у нас всё ограничилось в высшей степени забавной «реформой»: при Ельцине прописку зачем-то переименовали в регистрацию. (Тогда же несколько раз меняли название КГБ.) Это уж проявление какого-то первобытно-магического сознания: если переименовать какую-то вещь, не называть её настоящим именем, то вроде бы и сущность её изменится. А теперь, под предлогом трагедии в Беслане (а на самом деле с целью повышения доходов ментов), режим прописки хотят ужесточить ещё сильнее!
И не следует думать, будто это отступление не имеет отношения к теме. Ещё как имеет! Прописка исторически возникла как следствие коллективизации. И, похоже, избавиться от этих двух зол нам удастся только одновременно. Порознь – не выйдет.
Но вернёмся к проблемам сельского хозяйства. Всё-таки около 30% колхозов и совхозов в конце советского времени работали сравнительно неплохо. Как было возможно такое чудо?
РОЛЬ ЛИЧНОСТЕЙ В ИСТОРИИ
Директор одного из крупнейших хозяйств Волгоградской области – совхоза «Волго-Дон» В.И. Штепо славился в 1970-1980-х годах на весь Советский Союз. Возглавляемое им предприятие действительно могло гордиться своими успехами. Помимо орошения из одноимённого канала, грамотных севооборотов и высоких доз органических и минеральных удобрений, совхоз добивался неплохих урожаев и надоев ещё и благодаря аккордно-премиальной системе оплаты труда. Поясню, что это такое, для закоренелых горожан. В обыкновенном колхозе или совхозе советского времени работники утром спешили не в поле или на ферму, а к зданию главной конторы. Там им давали наряд на работу. А в конце дня надзирающие товарищи принимали проделанную работу, так что зарплату работники получали на основе выписанных нарядов. Вся эта тягомотина отнимала уйму времени (уж не меньше часа в день!), но в большинстве колхозов и совхозов отойти от этой системы не смели или не хотели. Тем более что тружеников конторы она устраивала. Кстати, не надо думать, что эта система повсеместно умерла. Кое-где утреннее хождение на наряд сохраняется по сей день даже неподалеку от МКАД.
Штепо выписывание нарядов упразднил. Каждому звену платили за выращенную продукцию. Рабочее время экономилось, а у рабочих совхоза даже появился стимул работать хорошо, что, вообще-то, противоречит самой сути колхозно-совхозного строя.
Как и большинство людей с предпринимательской хваткой, Штепо был жёстким руководителем. И далеко не все подчинённые испытывали к нему тёплые чувства. В 1991 году, когда изрядная часть наших соотечественников уверовала во всамделишнее наступление демократии, против Штепо вспыхнул открытый бунт. Коллектив демократическим путём избрал другого директора. А разобиженный Штепо ушёл в фермеры.
Прошли годы. От былой славы хозяйства остались одни воспоминания. Его финансовое положение сейчас тяжёлое. Там сменилось уже несколько руководителей, но упадок нарастает. И тогда селяне решили снова обратиться к Штепо. Пришли к нему с челобитной – звать обратно на царство. Каялись в былых прегрешениях, особенно в увлечении митинговой демократией, и твердили, что впредь лукавый их не попутает.
Однако... в одну реку нельзя войти дважды! Штепо отказался вернуться на пост директора и предпочёл остаться фермером. Спрашивается, почему? Ведь Штепо из того поколения, большая и лучшая часть жизни которого прошла при социализме. И не приходится сомневаться в том, что он – на уровне лозунгов – остался приверженцем этого строя. Казалось бы, такой человек должен мечтать о возвращении в «общественный сектор»... Ан нет! Это явление давно известно на Западе: самостоятельные собственники не хотят переходить на положение наёмных служащих, даже если они при этом выиграют в деньгах. Конечно, не все люди таковы. Но – большинство.
Несколько поколений советских граждан не могли заниматься частным предпринимательством, поскольку в СССР оно считалось уголовным преступлением. Однако люди с соответствующими способностями продолжали рождаться и в Советском Союзе. В сложившихся условиях они шли в хозяйственники и делали карьеру на государственных предприятиях, включая совхозы и колхозы. (Думаю, не надо доказывать, что колхозы в советский период представляли собой государственную собственность и что их кооперативная форма – чистой воды юридическая фикция.) И можно сказать с полной уверенностью: большинство успешно работавших колхозов и совхозов было обязано своим относительным благополучием именно управленческим талантам своих руководителей.
Это правило не без исключений. Кое-где на юге России природные условия для сельского хозяйства настолько благоприятны, что там очень трудно не добиться успеха. В данном случае всё дело в природной ренте. Помимо природной ренты, существует и рента местоположения, обусловленная близостью к большим городам, прежде всего к столице. Поэтому подмосковные совхозы и колхозы в 1980-х годах в большинстве своем жили довольно благополучно, да и их производственные показатели заметно отличались от постыдно низких средних по стране. Наконец, в советский период существовал обычай создавать отдельные хозяйства-маяки. Они получали государственные капиталовложения в таких количествах, о которых остальные не смели и мечтать. Но, повторим, за вычетом всех этих не слишком многочисленных исключений, благополучные колхозы и совхозы держались благодаря своим директорам и председателям.
А теперь? Нынешнее поколение людей с предпринимательской жилкой в руководители хозяйств «общественного сектора» не пойдёт. Зачем, когда можно завести своё дело? А возврат к полному запрету легального частного предпринимательства уже просто невозможен! Даже если к власти придёт компартия (во что автор настоящих строк не верит), такого не будет. Руководящий слой этой партии уже слишком основательно оброс частной собственностью, чтобы запретить её. Но невозможность возврата к прежним порядкам означает, что даже в том фантастическом сценарии, в котором государственные капвложения в аграрный сектор вернутся на уровень 1973-1986 годов, поднять производство в «общественном секторе» до уровня тех лет не удастся. Не только рядовых работников не хватит, но ещё более – толковых управленцев.
ДРУГИЕ СЛАГАЕМЫЕ КРИЗИСА: ДУРАКИ И ПЛОХИЕ ДОРОГИ
Главный разговор о дорогах у нас впереди. Заметим лишь вкратце, что дороги в России плохи не по природно-климатическим, а по криминально-экономическим причинам. Правда, степень нашего бездорожья от климата всё-таки зависит. В степной и даже лесостепной зоне благодаря меньшему количеству дождей дороги не раскисают до такого состояния, как в средней полосе и на Севере. Не с этим ли связано относительно лучшее положение дел в сельском хозяйстве на Юге? Во всяком случае, пока по всей России не проложены хорошие дороги, любые ссылки на суровый климат как на причину кризиса сельского хозяйства смехотворны. При существующем в большинстве районов России бездорожье оно придёт в упадок во всяком климате!
А вот о дураках стоит поговорить подробнее. Глубина кризиса в той или иной отрасли сельского хозяйства часто в сильной степени зависит от их усилий.
Сильнее всего пострадало в России животноводство. Конечно, отчасти это объясняется тем, что резкое падение реальной зарплаты в годы гиперинфляции (1992-1995) и вторично – после дефолта (1998) превратило несколько десятков миллионов наших сограждан в вынужденных вегетарианцев (или полувегетарианцев). Но это только часть правды. Ведь импорт мяса, масла и других продуктов животноводства вырос, а не упал. Почему же российское животноводство оказалось неконкурентоспособным? Из-за холодного климата? Да нет, всё гораздо прозаичнее: пресловутые «коровьи дворцы», усеявшие нашу страну в 1970-1980-х годах, в принципе не могут быть конкурентоспособными в рыночных условиях независимо от долготы, широты, среднегодовой температуры и суммы осадков. Такова уж их «гениальная» конструкция!
Дополнительный ущерб нанесла так называемая монопсония. Это такой вид монополии, когда у множества покупателей один продавец. Почти в любом районе бывшего СССР существовал единственный молочный комбинат и единственный мясокомбинат, куда колхозы и совхозы обязаны были сдавать свою продукцию. С отменой госконтроля над ценами эти предприятия, как монополисты районного масштаба, начали душить животноводческие предприятия при помощи низких закупочных цен. Молоко и мясо – такие товары, которые надо продавать быстро, поэтому животноводческие хозяйства попали в особенно тяжёлое положение.
Большие трудности возникли и у ранее процветавших тепличных комбинатов. В 1990-х годах многие из них стали убыточными. Формально вроде бы тут как раз подходит теория г-на Паршева: электричество резко подорожало, и поэтому затраты многократно выросли. Но вот почему затраты оказались столь высокими: из-за холодного климата или по какой-то иной причине?
Когда в 1984 году я поступил в Тимирязевскую сельхозакадемию, нас повели знакомиться с Овощной опытной станцией. Там среди прочих стояли две теплицы, построенные по иностранным образцам: голландская и финская. Помню, меня тогда поразило, что голландская теплица выглядела очень привычно. Она была покрыта стеклом, как практически все зимние теплицы в нашей стране. А вот финская теплица имела необычный, почти экзотический вид: плёночная, но зимняя! У нас плёночных теплиц тоже строили много, но всё весенние. И плёнку на них натягивали такую, что к осени она рвалась в клочья. А финской плёнке и зимние снегопады были нипочём. Но почему в СССР и Голландии строили одинаковые зимние теплицы, а в Финляндии какие-то другие, я в то время не понял, тем более что слабо разбирался в технике.