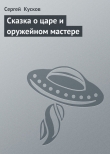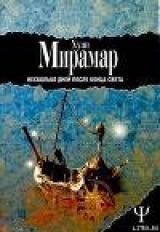
Текст книги "Несколько дней после конца света"
Автор книги: Хуан Мирамар
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Хуан Мирамар
Несколько дней после конца света
А зовется наш город – Федор-Кузьмичск… а прежде имя ему было Южные Склады, а совсем прежде – Москва.
Татьяна Толстая. «Кысь»
1. Рудаки
Рудаки вышел из подвала, когда четвертое солнце почти зашло. Уже стало довольно прохладно, и, остановившись перед дверью, он поплотнее закутал шею шарфом и даже думал было поднять воротник плаща, но потом передумал и только чуть поправил рюкзак.
Четвертое солнце весь день ходило близко к горизонту, а сейчас, перед закатом, казалось, просто перекатывалось по; земле как шар, выглядывая из-за стен. Он глубоко вдохнул; холодный воздух.
«Как в Финляндии», – подумал он и вспомнил, как они жили в Финляндии: широкое, почти всегда пустое шоссе перед общежитием и сразу за ним блекло-синее озеро и совершенно дремучий лес; аспирантское общежитие, где они жили, – двухэтажный сарай с маленькими оконцами, сложенный из грубого серого камня и напиханный внутри всеми прелестями цивилизации вплоть до кондиционеров и микроволновки на кухне.
«Так же холодно в тени, и такое же яркое низкое солнце, – продолжал он вспоминать, выходя со двора на улицу и привычно радуясь безлюдью. – Жутко было холодно там в тени, какой-то даже ледок чувствовался в воздухе, и солнце низкое всегда, как вот сейчас».
– Очень похоже на Финляндию, – сказал он наконец вслух, что стало у него в последнее время уже привычкой, опять поправил на спине рюкзак и пошел вниз по широкой Безаковской, бывшей Пушкинской, бывшей Петлюровской, а сейчас Земле Софийского патриархата и как улице пока безымянной.
Идти предстояло далеко, до самого Голосеевского леса, где он с Ивановым и Штельвельдом договорился в очередной раз ждать Капитана Нему этой ночью. Он свернул на Красноармейскую, которая чудом избежала переименований при всех последних властях и принадлежала теперь Белым Братьям. Эта мистическая секта, наделавшая в мирное время много шума своим совращением молодых умов и, казалось бы, искорененная советской властью, теперь вдруг опять возникла и развила в ожидании конца света бурную деятельность. Сектанты заявили свои права на «позвоночник» города, как они выражались, – две длинные улицы, Красноармейскую и знаменитый Крещатик, делившие пополам правобережный город. Права свои Братья защищали активно, и на Красноармейской вполне можно было угодить под перекрестный огонь их автоматов и карабинов Черных гусар из Печерского майората, то и дело пытавшихся захватить «позвоночник».
Он шел и внимательно смотрел то вперед, то по сторонам, но, видимо, опасаться было некого – Красноармейская была пуста, только собачья «свадьба» весело перебежала улицу далеко впереди.
Профессор сравнительной типологии Аврам Рудаки, «лицо персидской национальности», как он себя называл, был похож на странную нездешнюю птицу – маленькая головка с длинным хищным носом венчала долговязую фигуру в широком плаще до пят, рюкзак на спине казался сложенными крыльями. Он широко шагал по круто спускающейся с холма Красноармейской своими длинными ногами, наклоняясь вперед, и, казалось, вот-вот расправит сложенные крылья и тяжело взлетит над поблескивающей в косых лучах плиткой тротуара.
Шагая по Красноармейской, он привычно перебирал в памяти события последних лет: ужас и панику первого дня, когда на небе с небольшим промежутком появились четыре солнца; давку на вокзале, когда он отправлял в Россию семью дочери; страшные слухи первых дней, толпы на папертях и непрерывный колокольный звон; первое землетрясение и переселение в подвал.
Вспомнил, как исчезла в одночасье власть, как бежали из города на своих «мерседесах» толстомордые «народные избранники» и как бандиты приходили в университет, умоляя, предлагая огромные деньги испуганным профессорам, чтобы только те объяснили, что произошло и что делать; как началось движение луддитов, как громили компьютеры, как исчезли деньги, как потом все понемногу привыкли и стали как-то жить.
– Если это жизнь… – сказал он вслух и увидел, что из подъезда к нему идут двое, один из них, повыше, держал в' руке древко с остатками какого-то флага.
«Интересно, какой там был флаг?» – некстати подумал он и, сунув руку в карман, нащупал там пугач, подарок Вольфа Штельвельда, и тут же вспомнил предупреждение Иванова: «Вот им тебя и пристукнут, как только вытащишь».
– Дывы, жид! – сказал высокий своему товарищу, но тот никак не прореагировал: вытаращив глаза, он старался удержать подступавшую к горлу водку. Перегаром несло от них так, что даже Рудаки, человек привычный и сам не без греха, поморщился.
«Хулиганье, – довольно спокойно подумал он, – может, и обойдется».
– Какой я жид, – сказал он высокому. – Я профессор из университета, домой иду.
– Профессор, что жид. Скажи, Тарас? – парировал высокий.
– Хуже, – лаконично дополнил Тарас, справившись со своим организмом.
«Начинается дискуссия, можно и мирно разойтись, не впервой», – подумал Рудаки и подал свою реплику:
– Это смотря какой профессор.
Его оппоненты не успели высказаться – тишину безлюдной улицы разорвал грохот автоматной очереди. Стреляли совсем рядом. Обернувшись, Рудаки увидел открытый джип, который быстро ехал по тротуару, стоявший рядом с водителем человек в черном держал автомат. Джип подъехал вплотную, человек с автоматом открыл заднюю дверцу и крикнул:
– Садись! Чего ты ждешь?! Бикицор![1]1
Быстро (ивр.).
[Закрыть]
Рудаки с трудом втиснулся на заднее сиденье – мешал рюкзак, а снять его он не успел, – и джип тут же рванул с места. Садясь в джип, он заметил краем глаза, что парочка с непонятным флагом опять скрылась в подъезде.
Джип мчался по пустой улице, сразу набрав большую скорость. Человек с автоматом обернулся к Рудаки носатым профилем:
– Ты шо, совсем? – он покрутил пальцем у виска. – У них же футбол сегодня с Патриархатом. Видишь, все попрятались. Скоро громить пойдут – проигрывают они Патриархату.
– Спасибо, – сказал Рудаки и только сейчас сообразил, что его спасители из Еврейской самообороны Подольского раввината. Оба были в черной форме с шестиконечными звездами на погонах.
– Спасибо, – сказал он еще раз и привычно подумал: «Вот опять меня за еврея приняли, и из-за этого одни чуть не убили, а другие спасли».
– Сухое спасибо… – обернувшись, сказал тот, что вел джип, и Рудаки несколько удивился, увидев его явно славянское лицо. Только он успел подумать, что, наверное, у них наемники в Самообороне, как «славянин» и носатый начали о чем-то громко спорить на иврите.
– Куда вы меня везете? – спросил он.
– К нам на Подол отвезем, отсидитесь там до ночи, – носатый перешел на «вы». – А вы где живете?
– На Пушкинской, в подвале, но мне в Голосеево нужно. Высадите меня где-нибудь здесь, – попросил Рудаки, заметив, что они доехали уже до Лыбедской и джип сворачивает налево, к землям Печерского майората.
– Давай, если ты такой рисковый, – сказал «славянин» и остановил джип.
– Спасибо еще раз, ребята, – Рудаки неловко вылез из джипа, зацепившись рюкзаком, – с меня причитается.
– Не за что, – ответил носатый, – и не бойтесь, в Голосеево они не пойдут.
– И вообще, к нам перебирайтесь, – добавил он, – у нас спокойно.
– Спасибо, – еще раз сказал Рудаки.
– Сухое спасибо… – опять намекнул «славянин» и добавил: – Шутка.
Джип резко взял с места и исчез за поворотом.
Рудаки поправил рюкзак и пошел наискосок через площадь в сторону моста, который ему надо было перейти, чтобы попасть в Голосеево. Площадь была совершенно безлюдна, как и отходившие от нее улицы. Он пересек сквер с разбитым памятником чекистам – памятник раскололся надвое во время землетрясения, и сейчас один чекист с укоризной смотрел с земли на своего товарища по борьбе с контрреволюцией. За сквером дымилось высокое здание Института информации – пожар охватил два этажа где-то посередине, но его никто, похоже, не собирался тушить.
«Чего только не было в моей жизни, – подумал Рудаки, равнодушно глядя на пожар. – Империя была с такими вот символами имперского могущества, как этот памятник, – нерушимой казалась, вечной, а рухнула в одночасье и как-то удивительно быстро забылась, как будто и не было ее, потом Украина, но и она тоже исчезла, и тоже как и не было ее, вспоминается сейчас, как булгаковский Петурра – был, был и исчез, а какие потуги были: в Европу собирались, а где теперь, между прочим, и Европа – тоже, наверное, остались майораты и патриархаты, как и здесь.
Но вот что интересно, – он уже шел по мосту и увидел сверху, что вдали на Красноармейской, откуда он только что приехал, собралась довольно большая толпа. – Матч закончился, должно быть, – отметил он и продолжал вспоминать:
– Но вот что интересно, пережили все это без особых потрясений, никаких баррикад не было, стрельбы почти никакой – все как-то развалилось само собой в один момент. Впрочем, в последний раз не до стрельбы было – все так перепугались этой игры природы, что не до стрельбы тут, каждый шкуру свою спасал… не известно от чего, правда, как выяснилось, шкуре ничего не угрожало, но это уже позже выяснилось».
Где-то справа, в районе вокзала, раздались автоматные очереди, но стрельба быстро затихла.
«А теперь вот опять начинают стрелять, отошли немного от первого страха и уже постреливают. Этот вот из Самообороны лихо с автоматом управлялся, – подумал Рудаки и оглянулся, но мост был безлюден и только собиравшаяся далеко внизу толпа все разрасталась».
Он уже прошел мост, когда со звуком оборванной басовой струны село четвертое солнце и сразу сделалось темно и похолодало. Он поднял воротник плаща и зашагал быстрее. От неба, усыпанного крупными звездами, на дорогу падал отсвет, и дорогу было хорошо видно.
«Звезды-то какие, как в Сирии или в Египте, – подумал он, взглянув на небо, – и каждую ночь другие. А как все испугались сначала, когда заметили, а теперь и к этому привыкли, как к четырем солнцам и землетрясениям, – живучая скотинка человек».
Тут его мысли переключились на то, что идти лучше не через лес, а мимо Сельхозакадемии, по дороге, а то в лесу страшновато.
«Еще полчасика и буду на озере, – он машинально взглянул на левую руку, где должны были быть часы, и улыбнулся, – вот и время перестали считать, уже больше года, как никто не считает, а рефлекс остался».
На озеро Рудаки пришел приблизительно через час – пришлось обходить стаю одичавших собак, которых он издали заметил на дороге. К озеру он вышел на свет костра.
«Эти уже и сюда добрались», – подумал он, подходя к костру, у которого сидели Аборигены. Они неподвижно сидели на корточках вокруг костра, и его отсветы поблескивали на блестящих коричнево-глянцевых телах. Аборигены были' рослые с какими-то негроидными лицами и действительно выглядели, как туземцы с какого-нибудь южного острова. Когда Рудаки вышел на поляну, один из Аборигенов встал и тонко крикнул:
– Тумба!
– Тумба-тумба! – хором откликнулись остальные, их голоса звучали гулко, как в бочку, над озером разнеслось эхо, и с шумом взлетели из камышей утки.
– Тумба! Тумба-тумба! – Аборигены продолжали свой странный речитатив, а Рудаки, хотя и знал, что Аборигенов бояться не надо, все же вытащил пугач и, неуверенно потрясая им, крикнул:
– А ну цыц! Вот я вам!
Аборигены замолчали, как будто вслушиваясь, и Рудаки, сбросив рюкзак, стал собирать ветки для костра, далеко обходя Аборигенов. Взять у них огня он побоялся, и когда наконец развел свой маленький костер, вдруг почувствовал, что зверски устал.
– Километров пять отмахал, – сказал он вслух, – хорошо еще, что евреи подвезли.
Он сел на землю у костра, привалившись к дереву. Некоторое время было тихо, только потрескивали ветки в кострах, а потом опять встал Абориген и тонко крикнул:
– Тумба!
– Тумба-тумба! – хором откликнулись остальные.
Повторив несколько раз свое странное заклинание, Аборигены опять затихли.
«Тумба-тумба… – подумал Рудаки, – у нас на службе когда-то давно возникла дискуссия – стол „двухтумбовый“ или „двухтумбовый“, где ударение надо ставить. Чуть до драки не дошло. Эх, эх! – он вздохнул и плотнее закутался в плащ. – Были времена… „двухтумбовый“… „двухтумбовый“… Все кончилось, куда-то бежим, сами не знаем куда. Ведь не известно, кто такой этот капитан Нема… Ну встречал я его когда-то давно на сборах. Вроде ничего был мужик, не дурак и не партиец, водку пили вместе, разговоры разговаривали, власть ругали, а теперь „капитан Нема“ – тоже мне, остряк самоучка. А, ладно, посмотрим – вариантов все равно не много, точнее, совсем нет».
Он встал и подбросил в костер сухие ветки. Костер вспыхнул и осветил край озера – темную воду, камыши у берега. Опять с шумом взлетели утки.
«Все время они здесь зимуют, на этих озерах, вода теплая – стоки со всего района в них сливают, – отметил про себя Рудаки и пошевелил палкой в костре, – интересно, кто этим сейчас занимается, канализацией, там, водопроводом, даже электричество есть. Наверное, майорат какой-нибудь, которому сейчас этот лес принадлежит. Надо будет спросить у Иванова или у Вольфа, когда придут».
И тут ему вспомнилась передача, которую он видел по Би-би-си когда-то давно. В ней рассказывалось об одном инженере, шведе, кажется, или норвежце, который работал на электростанции во время гражданской войны сербов и хорватов. Стрельба вокруг, сербы бьют хорватов, хорваты – сербов, а этот инженер идет на работу под пулями, чтобы у людей был свет.
«Вот кто настоящий герой, – думал Рудаки, – а не эти которые режут друг друга под разными красивыми лозунгами».
Позади него зашуршали ветки, как будто кто-то выходил из леса. Он насторожился, прислушался, но шум не повто рился, и он, чтобы успокоиться, стал вспоминать, как выглядят при дневном свете эти озера и лес – «любимое место отдыха горожан», как писали когда-то – вековые дубы на склонах, солнечные просеки, цепь из шести озер.
Шести или пяти, засомневался он, и тут шорох за спиной повторился, и уже ясно было слышно, как кто-то бродит там, в лесу, ломая ветки. Он вскочил и вытащил пугач, опять вспомнив предостережение Иванова и решив им пренебречь, – с пугачом не так страшно. Шум в лесу приближался, уже было понятно, что там идет кто-то большой (или что-то, мелькнула мысль), идет, не скрываясь, и прямо на него.
Вдруг встал один из Аборигенов, повернулся на шум и застыл в позе бегуна на старте, согнув в локтях руки и выставив вперед ногу. Остальные Аборигены даже не пошевелились и продолжали сидеть, пристально глядя на огонь.
«Медведь? – подумал Рудаки. – Хотя какие тут медведи рядом с городом».
Зашуршало сильнее, и из кустов вышла высокая белая лошадь, опустила голову на длинной шее и шумно выдохнула воздух. Освещенная вспышками пламени от костров, она выглядела величественно и жутко.
«Nightmare,[2]2
Ночной кошмар, дословно: ночная кобылица (англ.).
[Закрыть] – успел подумать он. – Ефремов этот образ использовал, кажется, в «Лезвии бритвы»».
Вдруг Абориген, стоявший до этого неподвижно в своей стартовой позиции, в два медленных красивых прыжка очутился рядом с лошадью и таким же неестественно плавным и красивым движением вскочил ей на спину, лошадь вскинула голову, развернулась и широкой рысью помчалась по дороге вдоль озера, неся на себе Аборигена. Вышла луна, и Рудаки долго не мог оторвать взгляд от странного всадника, который уже обогнул озеро и мчался теперь по противоположному берегу, освещенный яркой луной. Вскоре он исчез в лесу.
– Ни фига себе! – громко сказал профессор Рудаки и подумал сразу о двух вещах: вернется ли Абориген к костру и какие красивые и неестественные у него движения, как в рисованном мультике. Он бы и дальше думал о лошади и об Аборигене, но заметил, что его костер гаснет, и бросился собирать ветки, по-прежнему далеко обходя Аборигенов.
Он так был поглощен костром, что не заметил, как позади него опять зашуршали ветки и раздались шаги. Вскочил один из Аборигенов и закричал пронзительным фальцетом:
– Гомо!
– Гомо! Гомо! – откликнулись другие Аборигены, опять закричали, захлопали крыльями утки на озере, и Рудаки испуганно обернулся, встал и направил на кусты свой пугач.
Из кустов, тяжело опираясь на суковатую дубину, вышел Иванов. Дубина вкупе с длинным белым плащом, широкополой шляпой и знаменитыми ивановскими усами придавала ему вид не то благородного разбойника, не то странствующего барда романтической эпохи.
– Тьфу ты! – Рудаки опустил пугач. – Я думал, опять лошадь, а это ты.
– Это я, – сказал Иванов, снимая рюкзак, – это я, а не лошадь.
– Цыц, мутанты! – он замахнулся дубиной на Аборигенов, и те, как по команде, тут же замолчали. – Привет, Аврам. Давно сидишь?
– Привет. – Рудаки от радости даже охрип. – Давненько. А что это гомункулусы тебя так встречают? Гомо-гомо.
– Гомонят, – Иванов сбросил на землю рюкзак и протянул руки к огню. – Человека учуяли, гомо сапиенса, так сказать.
– Смотри-ка ты, и верно. А вот когда я тут один сидел, они все время какую-то тумбу поминали. Обидно. А я, что же, не гомо сапиенс?
– Признаки недостаточно выражены, – усмехнулся Иванов и принялся распаковывать рюкзак.
– А ты чего опоздал? – ворчливо спросил Рудаки, чтобы не слишком уж показывать свою радость от того, что Ива-(нов наконец пришел и он больше не сидит тут один, в; темноте, и рядом эти Аборигены.
– Опоздал?! – обиженно сказал Иванов, продолжая распаковывать рюкзак. – Ну, ты даешь! Может, у тебя часы появились?
– Откуда?! Ладно, ладно – не опоздал, – признался Рудаки. – Просто жутко здесь одному… с этими… – И добавил, помолчав: – А интересно все-таки, кто они такие. Два года уже, как появились, а я все привыкнуть не могу.
– Ты ж сам знаешь: говорят, что вроде безвредные они… виртуальные, как бы и нет их.
– Да знаю, а все равно жутко. Песни эти их, слова какие-то странные.
Некоторое время они молча стояли, глядя на пламя, потом Иванов достал сигареты и закурил.
– Отчего их Аборигенами зовут? – Рудаки тоже достал сигареты и закурил. – Ведь это мы аборигены, а не они?
– Кто-то назвал так, ну и пошло. Звучит красиво, и с одежонкой у них не густо, как у аборигенов. Да брось ты их. Есть тут дела поважнее, – Иванов наклонился и достал из рюкзака бутылку. – «Типографская особая». Точнее, «ризографическая».
– Ого, это вещь, – Рудаки потер руки.
– Книги, понимаешь, были все больше на ризографе напечатаны, – Иванов вытащил из рюкзака пачку книг. – А вот сырье для следующей партии. Названия восхитительные: «Новая эра демократии: мир и единение». Что мы и имеем на сегодняшний день – меня луддиты чуть не убили. Лэптопы ищут. Или вот: «Аккредитив как инструмент свободной торговли». Тоже весьма актуально сейчас. Эх, бумага дрянь – недосмотрел, придется лишний раз перегонять, – Иванов поморщился и стал опять рыться в рюкзаке. – А вот это вместо специй пойдет: «Анти-Дюринг». А тут картошка – вроде не радиоактивная, чистая, печь будем в золе. Ты любишь печеную? А вот тут грибки разные, не белые, конечно, но учитывая…
– Умелец ты и добытчик. Ценю, – сказал Рудаки. – Особенно «типографскую». Люблю твой продукт. С умом сделан. А у меня тут тоже немного закуски есть, – он раскрыл свой рюкзак, долго в нем рылся и достал две банки консервов. – Вот, – протянул он банки Иванову, – шпроты и скумбрия в масле, остались еще с тех времен, когда магазины грабили. Ива мужика наняла, и он полный багажник награбил. Это еще когда деньги были в обращении, можно было нанять. У тебя есть чем открыть?
– Давай сюда, – Иванов достал нож, открыл консервы, вынул из рюкзака кружки, разлил самогон и протянул кружку Рудаки. – Жалко, хлеба нет.
– Ладно, потом картошкой закусим, – нетерпеливо сказал Рудаки. – Давай что ли, пока нас мало, со свиданьицем!
Когда они выпили, чокнувшись кружками, Рудаки сказал, ухватив ножом жирную шпротину из банки:
– Отличный продукт – надо было тебе патент взять в свое время. Но расскажи про луддитов, а потом по второй…
– Луддиты как луддиты, – Иванов взял еще одну шпроту, – подростки какие-то патлатые и скинхеды, старик сумасшедший.
«Луддиты как луддиты, – подумал Иванов, – подростки патлатые и скинхеды, а старик, должно быть, у них начальник».
Они вышли неожиданно из заброшенного фруктового сада, что тянулся вдоль шоссе, по обочине которого шел Иванов.
– Лэптоп прячешь, интеллигент, – ровно, без интонации сказал старик.
«Как будто на венгерском говорит, без ударений», – Иванов сразу понял, что старик не в своем уме.
– Открывай рюкзак – посмотрим, что у тебя там, – так же размеренно, как автомат, продолжал старик.
Молодые держались позади. Они, как и старик, были одеты в черную униформу с серебристой эмблемой «Воинов Нэда Луда» на рукаве: рука, сжимающая молоток.
Иванов, не вступая в пререкания, молча снял с плеч и расстегнул рюкзак, подумав при этом, что луддиты сильно изменились с первых месяцев своего движения, когда это была разношерстная толпа агрессивных недоумков, которая сначала митинговала перед каким-нибудь офисом или банком, а потом с криком «Бей машины!» врывалась туда и крушила все подряд.
«Приоделись, раздобрели и форма даже не лишена элегантности – эмблема серебристая, – тут Иванов заметил на поясе у одного из скинхедов кобуру, – и вооружились уже. Интересно, кто прибрал к рукам эту братию, а в том, что кто-то прибрал, сомневаться, кажется, не приходится».
Старик начал вытаскивать из рюкзака книги: «Капитализация и акционирование», «Демократическая Польша на пути в Европу».
«Где сейчас эта Польша, демократическая и не демократическая?» – некстати подумал Иванов, а старик сказал:
– Сочувствуете идеям Сакса-Бальцеровича-Гайдара? – при этом он перешел на «вы» и лексикон его изменился. – А миллионы жертв этих теорий вас, конечно, не волнуют? В Аргентине, той же Польше, в России, у нас – тысячи и тысячи жертв этих теоретиков умерли с голоду, остались без работы, без средств к существованию и без крыши над головой.
Старик говорил гладко, очевидно, заранее заготовленный текст. Подростки и скинхеды начали окружать Иванова, от них сильно пахло потом.
– Конечно, вашу судьбу будет решать Народный суд, – продолжал старик, – но я знаю законы, и главный из них – закон человеческой совести, согласно этому закону, вы – преступник и заслуживаете расстрела, и мы, Воины Нэда Лудда, наделены полномочиями экзекуторов.
«Я могу от них убежать, – решил Иванов, – главная опасность – скинхеды, старик и пацаны мне не помеха, но надо попробовать разойтись мирно».
– Я эти книги уничтожаю, – сказал он, – самогон из них гоню.
Старик даже не улыбнулся и только покачал головой.
– Чего не выдумаешь под угрозой смерти?!
Заинтересовался один из скинхедов, Иванов как раз вытащил из рюкзака бутылку с самогоном.
– Это типа как? – спросил он, взял у Иванова бутылку, понюхал и с видом знатока провозгласил: – Первач!
– Рву их мелко или рублю топориком, – начал разъяснения Иванов, – заливаю водой, ну, дрожжи там или сахар и перегоняю. Книг двадцать идет на литр.
– Читаете небось перед этим? – хитро прищурившись, спросил старик.
– И раньше не читал, и теперь не читаю, – ответил Иванов, – не интересует меня экономика и не понимаю я в ней ничего.
Старик хотел спросить еще что-то, но скинхеды уже оттеснили его, заинтересовавшись не на шутку.
– А краску как? – второй скинхед взял у товарища бутылку и посмотрел на свет. – Чистая.
– А что краска? – ответил Иванов. – Краска вся в кубовом остатке остается.
– Где? – спросил второй скинхед.
– На дне кастрюли или таза, – пояснил Иванов и подумал: «Ну, теперь надо брать инициативу в свои руки».
– В общем, для вас я интереса не представляю, лэптопа у меня нет, – подытожил он и добавил специально для старика, – и идеологию «толстых» я не разделяю.
Он решительно забрал бутылку у скинхеда, положил обратно в рюкзак и стал запихивать в него книги.
Старик, казалось, совсем не расстроился из-за того, что жертва от него ускользала, он взял одну из книг, которые Иванов еще не успел запихнуть обратно в рюкзак – неожиданно для Иванова, да, наверное, и для старика, это оказался «Анти-Дюринг», – и сказал:
– А вот эту не трогай, сынок, священная книга!
Иванов надел рюкзак и поправил лямки.
«Теперь надо спешить», – подумал он и пошел прочь от луддитов быстрым шагом, не оглядываясь.
Когда он наконец решил, что можно оглянуться, луддитов на дороге уже не было – видимо, они опять заняли свою позицию в заброшенном саду.
Он прошел еще немного, но потом подумал, что пора отдохнуть, и присел на скамейку под навесом на автобусной остановке со странным названием «Логическая». Он подивился этому названию, а потом вспомнил, что здесь рядом находился Институт метрологии и остановка называлась «Метрологическая», просто первые буквы теперь исчезли.
«Название нелепое даже для коммунистов», – подумал он и закурил.
Иванов устал, был голоден и зол. Его раздражало все: и институтские теоретики, затеявшие игру в спасение человечества, и луддиты (хотя он мысленно поздравил себя с маленькой победой), и идиотская затея Аврама Рудаки с этим капитаном Немой, ради которого он плетется теперь в такую даль, но больше всего раздражала Иванова встреча с Панченко в институте – он думал о ней уже довольно долго и не мог ничего придумать, и это-то и раздражало особенно.
Иванов не считал себя полным невеждой, чему подтверждением могла служить докторская степень по физике, но встреча в институте совершенно не вписывалась в какие-либо известные ему представления об объективном мире, и это его мучило.
Он вспомнил, как рассеянно шел по длинному институтскому коридору в кабинет Академика и прошел было уже мимо ставшей привычной группки Аборигенов, усевшихся в кружок на полу возле окна, как вдруг что-то заставило его остановиться и присмотреться к ним повнимательней – один из Аборигенов был одет в строгий темный костюм.
Это было странно само по себе, но, мало того, у Аборигена было лицо академика Панченко. Иванов зажмурился, потер глаза, но видение не исчезало: он готов был поклясться, что это Панченко – трудно было не узнать его широкоскулое, тонкогубое лицо, на котором застыло выражение собственной значимости.
Иванов хорошо знал Панченко еще с аспирантских лет, не раз сталкивался с ним и потом по работе, но так же хорошо знал он и то, что академик Панченко умер полгода назад. Правда, сам Иванов на похоронах не был, хотя и был делегирован от отдела, но Переливцев был и подробно рассказывал, кто был на похоронах и где хоронили.
«Неужели может быть такое сходство?» – подумал он, и тут оказалось, что он стоит столбом посреди коридора и мешает проехать трем аспирантам, которые везли на тележке какой-то прибор. Иванов посторонился, а один из аспирантов – его лицо было знакомо Иванову по семинарам – сказал:
– Любуетесь? А мы уже привыкли – он третий день здесь сидит.
– Так это Панченко? – тупо спросил Иванов.
– Кто его знает? Он не говорит ни слова, уже пытались с ним заговаривать.
Аспирант ухватился за тележку, и троица с грохотом покатила ее дальше по коридору.
Иванов еще раз посмотрел на Панченко – тот, как и Аборигены, неподвижно сидел на полу в «позе лотоса» и смотрел прямо перед собой. Его строгий деловой костюм в этой позе выглядел особенно дико, и вся его фигура казалась значительной и зловещей.
– Тьфу! – Иванов едва удержался, чтобы действительно не плюнуть на чистый паркет. – Только этого нам не хватало, оживших мертвецов, – и, бормоча себе под нос, отправился к Академику.
Когда Иванов вошел, у Академика уже собрались все заведующие лабораториями и две незнакомые личности сидели у стенки – одна из них, высокая девица в камуфляже, была очень даже ничего.
«Ничего кадр», – подумал Иванов, а Академик сказал:
– Очень кстати, доктор Иванов, я только что говорил о вас, представляя вас как талантливого ученого, основателя нового направления вашим новым ученикам, – двое у стенки встали, а девица сделала нечто похожее на книксен. – Это ваши новые аспиранты, – Академик сделал паузу, – э…
«Забыл, как зовут, старая перечница», – подумал Иванов, а Академик продолжал:
– Ваши новые аспиранты, так сказать, надежда наша, э… младая поросль.
Младой поросли было лет по тридцать – тридцать пять. Иванов усмехнулся и перестал слушать Академика.
«Откуда взялся Панченко, – думал он, – или это не Панченко? Если не Панченко, то кто? Близнец? Такого сходства не бывает даже у близнецов, потом выражение лица, костюм – он всегда ходил в таких».
Тут он вспомнил историю, которую рассказывал Аврам Рудаки. Будто бы тот ехал в поезде, возвращаясь из командировки, и утром, когда поезд подходил к вокзалу, стоял в коридоре. Он был после обильного возлияния накануне и чувствовал себя не лучшим образом. В поезде он встретил сослуживца по имени Гиссар.
«Надо же, фамилию запомнил», – подумал Иванов.
И этот Гиссар стоял рядом с Рудаки в коридоре и смотрел в окно, а по перрону вслед за медленно двигающимся поездом шел еще один точно такой же Гиссар. Рудаки так смешно рассказывал:
– Посмотрю направо – Гиссар, посмотрю в окно – еще один. Чуть с ума не сошел.
Оказалось, что по перрону шел брат-близнец того Гиссара, что стоял у окна. И фамилия такая смешная, Гиссар – баран такой есть, оказывается.
«Может быть, и с Панченко такой же случай, – продолжал размышлять Иванов, – но почему его брат среди Аборигенов? Бомж? Бродяга? Брат академика в дорогом костюме? Нет, не вяжется. Абсурд!».
В отделе Иванов долго не задержался и, когда шел опять по коридору к выходу, снова увидел Панченко – тот сидел в той же позе среди Аборигенов. Иванов хотел было подойти и заговорить, но потом передумал. Что сказать? Извините, вы что, не умерли? И прошел мимо.
С тех пор дурное расположение духа не покидало его, он продолжал сидеть на скамейке и курил уже вторую сигарету подряд.
«А день удачно начинался, – подумал он и сказал себе: ~ Пора, идти еще далеко», – но не встал, а решил посидеть еще немного.
Это утро у Иванова действительно началось удачно – он нашел книги.
Он вышел рано, когда только взошло первое солнце, и даже темные очки не надел – вообще, не понятно, зачем их надевать, разве что, когда светит третье, самое яркое, солнце. Иванов не любил носить темные очки, и сейчас с удовольствием смотрел вокруг без очков и вдыхал прохладный утренний воздух. Он шел на бывший бульвар Дружбы Народов на встречу с Переливцевым. Бульвар этот никто из властей не переименовывал, просто его опять стали называть Автострадой, как называли раньше, очень давно, еще в шестидесятые годы.
«Прошлого века. Ужас! – подумал Иванов. – Как давно!».
Автострадой этот бульвар, в сущности, и был и теперь выглядел довольно странно: широкая автострада без машин – машины здесь проезжали теперь редко, одна-две в день и все.
Проходя по улице Глазунова (Композитора? Художника? Переименовывалась или нет? Иванов этого не знал и подумал: «Какая разница!»), он остановился у многоэтажного здания, над входом в которое сохранилась надпись «Академия коммунального хозяйства».