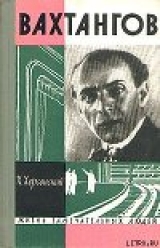
Текст книги "Вахтангов"
Автор книги: Хрисанф Херсонский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Последствия ночного разговора
Глухие тайны мне поручены,
Мне чьё-то сердце вручено…
А. Б лок, «Незнакомка»
Морозной декабрьской ночью того же 1913 года, после бала у губернатора в спектакле «Николай Ставрогин» Ф.М. Достоевского, где Вахтангов играл одного из гостей, его поджидают у артистического подъезда Художественного театра молодая женщина и двое юношей. Он вышел вдвоём с артистом Александром Гейротом. Окинул быстрым наблюдательным взглядом ожидающих, спросил:
– Где будем беседовать?
– Пойдёмте к «Мартьянычу», – предлагает Гейрот.
Двинулись вниз по Тверской. Более опытный в делах. Натан Тураев впереди с Вахтанговым и Гей-ротом. Ксения Котлубай, Борис Вершилов шагают немного сзади и с любопытством присматриваются к Вахтангову. В меховой шапке с острым верхом, напоминающей старорусскую боярскую, в шубе с большой серой меховой шалью, в ботах, весь чем-то неуловимым необычайно артистичный, с энергичной, пружинистой походкой, в которой чувствуются приподнятость, неспокойные мысли, душевная крылатость, он напоминает мятущихся фантастических персонажей Гофмана. Его шаги гулко отдаются на камнях тротуара, покрытых свежевыпавшей россыпью снежных звёзд. Снег, струясь из ночной бездны, сверкает на его плечах. Молодые люди уже чувствуют себя покорёнными. Между ними и Вахтанговым быстро возникает взаимная симпатия.
Впрочем, его возбуждение вызвано не этой встречей. В ресторане он откровенно признается, что счастлив сегодня. Когда компания, спустившись в подвал «Мартьяныча» на Красной площади, под Верхними торговыми рядами, заняла ложу в зале и заказала ужин, Вахтангов вынимает из бокового кармана скромной визитки небольшую тетрадку и, любовно поглаживая её, делится причиной своей радости. Это только что полученная первая большая актёрская работа в Художественном театре – роль Крафта в «Мысли» Леонида Андреева. Евгению Богратионовичу предстоит целую картину, не сходя со сцены, вести с самим Леонидовым – трагиком титанической силы, умеющим на сцене страстно мыслить, а не только чувствовать. Вахтангов весел и горд…
Заговорщики посланы инициативной группой. Особенно горячо говорит Ксения Котлубай. Им хочется поглубже изучить искусство театра, искусство артиста. Нет, нет, они вовсе не собираются стать профессиональными актёрами, И надо признаться, те
встречи с актёрами, какие у них были, ещё больше укрепили в них убеждение, что человек, если он подлинно интеллигентен и серьёзен, не должен выбирать актёрскую профессию, посвящать ей всю жизнь. Пусть у него ещё будет какое-нибудь другое дело. Мудро поступил Антон Павлович Чехов, – став писателем, он долго не расставался с профессией врача. Ранний профессионализм часто опустошает художника, обедняет его связи с жизнью, обкрадывает его судьбу.
Вахтангов слушает и загадочно улыбается; его брови высоко взлетают над точёным, заострённым носом, тонкие, плотно сжатые губы иронически вздрагивают.
А Ксения Ивановна все более страстно воюет с воображаемым противником. Нет, нет, их инициативная группа и не собирается поскорей выступить с каким-нибудь любительским спектаклем, показаться публике. Вовсе нет! Не подумайте так. Может быть, они никогда ничего не поставят. Цель совсем иная. Приобщаясь к театру, к драматургии, к искусству актёра, они, вступая каждый по-своему на сознательный жизненный путь, хотят расширить, обогатить свой внутренний мир, сегодня у интеллигентного человека духовный мир не может быть полным, не может быть передовым без всего, что даёт русский театр и особенно Художественный театр.
Гейрот наклоняется к Вахтангову и шепчет что-то на ухо. Евгений Богратионович кивает и после очередной тирады Ксении прерывает её просьбой:
– Повторите последнюю вашу фразу. Постарайтесь сохранить ту же интонацию.
Ксения вспыхнула. Что это, экзамен? Она опускает глаза. Вахтангов улыбается ещё веселее. Какой сегодня продолжается счастливый день! В этой молодей женщине нет ничегошеньки от актёрства. Гейрот прав, может быть, у неё нет и актёрского таланта. Но как насыщенны, сосредоточенны, требовательны страстные движения её души!
Он говорит молодым людям о Станиславском и Сулержицком, о том, что их глубокое искусство прежде всего служит душевному подъёму человека, укреплению его сил и поэтому такое искусство нужно во что бы то ни стало нести людям. Он отлично, с полуслова, понял, в чём заветный смысл сговора молодых. В самом деле, студентам вовсе незачем становиться актёрами – ни заштампованными банальным профессионализмом, ни отравленными скороспелым, поверхностным любительством.
– Вы должны стать настоящими хорошими зрителями. И чем больше будет таких зрителей, тем интереснее будет творить Художественному театру.
Стрелки часов давно перевалили за полночь. В ресторане стали гасить свет. Его завсегдатаи разошлись. У гардероба пьяненький купчик, накинув шубу на плечи, никак не может попасть ногами в галоши и посмеивается над собой. Усталый «человек» терпеливо дожидается за спиной Гейрота. Вставая, Вахтангов серьёзно взглянул в глаза Ксении Ивановне.
– А если главное для режиссёра – постоянное воспитание самого себя и отдача всех сил воспитанию людей?.. Как у Станиславского? Как у Сулержицкого? Это оправдывает профессию артиста?.. Как вы думаете?
На Красной площади Гейрот усаживает Вахтангова в извозчичьи санки, и они катят вниз, в Охотный ряд, а затем вверх, по Тверской.
Вершилов и Тураев, не от вина пьяные, провожают Ксению.
Они далеко не революционеры ни в искусстве, ни в жизни, эти восемнадцатилетние молодые люди. Но многие из них понимают, что приобщение к искусству Художественного театра поможет им воспитать себя для прогрессивной роли в общественной жизни, для лучшего служения народу и вообще для ответа на все вопросы, стоящие перед интеллигенцией. Идейное и моральное самовоспитание, товарищеское единение, бескорыстное изучение искусства – вот что их воодушевляет.
Вскоре состоялась первая встреча Вахтангова со всеми участниками. Придя к студентам, Евгений Богратионович начал с заявления, что где бы он ни оказался, с кем бы ни работал, он ставит себе одну задачу: пропаганду «системы» К.С. Станиславского.
– Это моя миссия, задача моей жизни.
Для того чтобы создать финансовую базу студии, решили всё-таки поставить спектакль. Евгений Богратионович не возражает: воспитательную работу и объяснение «системы» ему легче всего вести в практической работе над пьесой. Студенты предлагают понравившуюся им «Усадьбу Ланиных» Б. Зайцева, только что напечатанную в одном из «толстых» журналов. Пьесу читают вслух, и Вахтангов, к удивлению всего маленького собрания, коротко, но беспощадно её критикует. Пьеса бездейственна, одни разговоры, никакой динамики. Он не произносит по этому поводу назидательных речей, хочет, чтобы высказался коллектив, задаёт неожиданные вопросы:
– Что любит герой? Ради чего вы хотите поставить пьесу? Что сказать ею? Что понести зрителю?.. Какая здесь атмосфера? Чем напоён воздух?
И в подтексте всех его вопросов – один неотступный: стоит ли отдавать силы «Усадьбе»?
Студенты обрушиваются на Евгения Богратионовича шумной лавиной протестов…
Чем же им нравится «Усадьба»? «Эта пьеса, – как писал потом один из рецензентов, – вся напоённая душистым ароматом любви и густыми благовониями деревенского приволья, как будто родилась из чеховской „Чайки“. Когда вы смотрите „Усадьбу Ланиных“ на сцене, вам кажется, что это одна из шести усадеб, расположенных на берегу Колдовского озера в имении Сорина. И здесь, как говорит один из героев пьесы, все охвачены силой любовного тока, который кружит их, сплетает, расплетает и одним даёт счастье, а другим – горе. Здесь у пруда стоит статуя богини любви Венеры, „устроительницы величайших кавардаков“, скульптура XVIII века, вывезенная из Франции ещё дедом помещика. Это место для объяснений в любви. Тут стоят скамейки, и со старинных времён на дубах и берёзах вырезаны пронзённые сердца. Здесь любят так же нежно и трагично, как любили в „Чайке“, и во всей пьесе Зайцева разлита та же нежная лирика свежего весеннего чувства, какой была напитана драма Чехова. И кажется, как будто на смену отлюбившим и отстрадавшим персонажам усадьбы Сориных через 20—25 лет пришли новые люди, обитатели усадьбы Ланиных, – племя молодое, незнакомое, – готовые покорно и беззаветно повторить от века начертанный круг переживаний: любовь и печаль, восторги и муку обид. Как будто вместе с испарениями старого пруда, клубящегося по вечерам туманами, в этой усадьбе любви и печали у подножия статуи Венеры рождаются атомы взаимного притяжения, нежности и сердечной тоски, и все кружатся в каком-то вихре сладостного восторга и упоения любви».
Куда уж больше?..
Итак, это не просто усадьба, а наследница «Чайки», любимицы Художественного театра. Усадьба, где много распустившейся сирени, весна, молодость, а главное – всеобщая влюблённость, которая сплетает всех в тесный круг! Нужды нет, что серьёзную идею в пьесе Б. Зайцева найти невозможно.
Вахтангов с чуть уловимой иронией в засветившихся внимательных глазах слушает горячую защиту пьесы и… объявляет, что сдаётся. Ему нравится такое единодушное увлечение – может быть, оно отчасти возместит очевидные недостатки пьесы.
И начинается подготовка к репетициям, распределение ролей, обсуждение образов, первое знакомство с «системой» на подготовительных этюдах.
Студия не имеет помещения. Занятия происходят в студенческих комнатах. Жёсткие кровати, столик, книги, два-три непрочных стула – и соседи, которые стучат в тонкие стенки, когда студенты не дают заснуть. Днём студийцы продолжают ходить на лекции, многие, кроме того, служат. Собираться для занятий искусством они могут только по вечерам или ночью. Времени у Вахтангова мало. Днём он в студии МХТ, потом у Евгения Богратионовича уроки в школе Халютиной, позже спектакль или урок у студентов. И часто, придя вечером, Вахтангов не расстаётся с энтузиастами «Усадьбы» всю ночь. Квартирная хозяйка после такой ночи, разумеется, просит их больше не появляться. Следующий раз сбор назначается у другого студента или курсистки. Когда таким образом исхожена вдоль и поперёк вся Москва и все возможности домашнего «уюта» исчерпаны, стали ходить по ресторанам. Заказывают минимальные порции сосисок, несколько стаканов кофе и сидят в отдельном кабинете до закрытия ресторана. Вскоре «студию» перестают пускать и сюда. Тогда студенты выпрашивают на ночь после сеансов фойе в кино.
Часто репетиция превращается в беседу, в горячий спор о театре, о содержании искусства. От разговора переходят к упражнениям, к этюдам, далеко не всегда имеющим отношение к пьесе. Молодым людям кажется, что эти этюды интересны только сами по себе. Они почти не замечают, что Вахтангов кропотливо, день за днём, как садовник, выращивает не роли в пьесе, а человека, не пьесу, а коллектив.
Знакомясь с искусством актёра, студенты, по существу, знакомятся с психологией всякого творчества и с человеческой психологией вообще.
Через много лет один из студийцев, Б.В. Захава, вспоминал об этих днях: «Тот, кто прошёл эту школу Вахтангова и актёром не сделался, не станет всё же сожалеть об истраченном времени, как потерянном бесплодно: он навсегда сохранит воспоминание о часах, проведённых на уроках Вахтангова, как о таких, которые воспитали его для жизни, углубили его понимание человеческого сердца, научили его счастливому и деликатному прикосновению к человеческой душе, раскрыли перед ним тончайшие рычаги человеческих поступков… Сколько их во всех концах нашей страны – инженеров, учителей, юристов, врачей, учёных, экономистов и проч., – прошедших через руки Вахтангова!.. Пребывание в вахтанговской школе оставило неизгладимый след на человеческой личности каждого из них и предопределило многое на их жизненном пути. Вахтангов это знал и потому не смущался тем, что многим из его молодых учеников заведомо не суждено остаться в театре: он был доволен тем, что имеет завидную возможность сделать радостными и счастливыми весенние годы пришедших к нему молодых людей…»
Под утро, кончив занятия, студийцы идут гурьбой провожать друг друга по домам. Вахтангов с ними. Продолжаются бесконечные волнующие разговоры. Иногда мыслей и чувств так много, что ученики и учитель умолкают. В тишине изредка обмениваются односложными репликами. Проводят до дверей одного, идут по пустым улицам через полМосквы провожать другого. Наступает рассвет.
Утренний отдых у Евгения Богратионовича короток. Днём он уже в студии МХТ.
Работая над «Усадьбой», воспитатель ещё не раз спорит с учениками. Теперь их поддерживает автор пьесы – он бывает на репетициях. Евгений Богратионович отказывается видеть в жизни зайцевской усадьбы только счастливую идиллию. Он не согласен с Б. Зайцевым, когда тот говорит:
– Жизнь – это ткань, в отдельных точках которой происходят какие-то события, которые нарастают, громоздятся, рушатся и опять поднимаются, и так бесконечно. Одна из таких точек – «Усадьба». В ней жизнь тоже совершает свои круговые циклы, так же веками повторяется в ней опьяняющая весна, так же люди кружатся в вихре любви, смеха и плача, наслаждаясь и страдая. Затем на смену страстям наступает покой и умиротворение. Люди отдыхают от пережитого, а новые поколения снова начинают тот же путь, который прошли их отцы и деды.
Б. Зайцев не хочет видеть в жизни человечества никакого движения. И всё, что он видит, его умиляет. Но Вахтангов смотрит на застойную жизнь «Усадьбы», напротив, как на что-то ненормальное, временное, от чего хочется уйти в иную, здоровую жизнь. Он готов, перефразировав Галилея, воскликнуть: а всё-таки жизнь движется вперёд! Только вот в радуге, которая появляется в конце пьесы, он согласен увидеть застывшее бездушное величие природы. Нечто космическое, что бесстрастно и холодно стоит над страданиями людей, над гнойниками затхлой человеческой жизни в усадьбе.
Вахтангов не хочет, не может умиляться по поводу сентиментального и бессмысленного бездействия. Ему чуждо примирение с таким существованием. Но студийцы и автор убедительно доказывают ему, что в пьесе нет того, что он хочет; нет критики, никакие страдания и язвы не раскрыты, а есть только влюблённость и умиротворение.
Вахтангов убеждается, что, к сожалению, они правы. Для того чтобы выразить его отношение к философии «Усадьбы», нужно было бы написать другую пьесу. Что же делать? Хуже всего, что ученики не понимают пошлости того, что они защищают, – пошлости елейно-сентиментального «всепрощения». Но он чувствует, что сейчас не сумеет их переубедить. Где же выход? Не отказываться же теперь от пьесы, в которую вкладывается студентами столько переживаний, надежд!.. После колебаний Евгений Богратионович решает идти на компромисс, он ищет опоры в принципах театра переживаний. Коль скоро переживания молодых актёров искренни, хороши, увлекательны, может быть, эта свежесть и непосредственность чувств передастся зрителю, как основа, как содержание спектакля…
Торопливо проходят последние репетиции. Художники М. Либаков и Ю. Романенко помогают оформить сцену (денег у студии нет) «в сукнах», а роль сукна возложили на серо-зеленоватую плохонькую дерюжку. Поставили статую Венеры из папье-маше; балюстрада должна изображать террасу, а несколько ящиков с искусственной сиренью – роскошный парк. Обрызгали сцену одеколоном «Сирень», и занавес поднялся…
Скандальная премьера 26 марта 1914 года в зале Охотничьего клуба…
Неопытные актёры играют с восторгом, их умиляют собственные переживания. У них и «наивность», и «вера», и «вхождение в круг». Как в счастливом чаду, в самогипнозе, провели они все четыре акта. Но до зрителя ничего не дошло, кроме полной беспомощности исполнителей… Актёры любят, ревнуют, радуются и страдают, плачут настоящими слезами и смеются. Где театр, где жизнь? Казалось бы, полное слияние сцены с правдой чувств. Но зрители ничему не поверили, ни во что не влюбились. Холодом равнодушия и насмешки веет от зала.
– Ну, вот мы и провалились! – весело сказал Евгений Богратионович, когда исполнители, снимая грим, собрались в актёрской уборной. – Теперь можно и нужно начинать серьёзно учиться.
Они в восторге, к тому же до них совершенно не дошёл провал, Всю ночь веселятся за торжественным ужином в ресторане «Петергоф». Вахтангов с сияющими глазами находит доброе слово для каждого. Под утро выходят на весенние улицы Москвы и, обнявшись, бредут куда глаза глядят, не желая расставаться, счастливые пережитым. Он радуется их радости… В городе дремлет тишина. Улицы пусты. Но вот – пробуждение. Выходят дворники, заметают конский навоз в совки. Позванивая и дребезжа, потянулась первая конка, влекомая двумя клячами… звяк-звяк… трух-трух… Солнце позолотило купола.
Студийцы набрасываются на появившегося газетчика и под взрывы весёлого хохота читают язвительные рецензии. О своей детской беспомощности, о том, что «режиссёр г. Вахтангов проделал дыру в одной из грязных тряпок и заставил исполнителей, смотря в эту дыру, восхищаться роскошью природы. Эта же дыра служила входом и выходом для действующих Лиц. Додумался г. режиссёр…»
Забрали студийцы свою Венеру и дерюжку. А сирень навсегда стала для каждого волнующей эмблемой его молодости, напоминая о восхищении друг другом и о восторгах первого театрального плавания.
Возмущённая дирекция Художественного театра после этого скандала запретила Вахтангову какую бы то ни было работу вне стен театра и его Первой студии. Но заговорщики не унимаются. Евгений Богратионович сделал вид, что покорился приказу. Все члены студенческой, студии подписывают торжественное обещание. Каждый даёт «честное слово»: о том, что будет делаться в студии, не говорить впредь ни знакомым, ни друзьям, ни даже самым близким людям. В строжайшей тайне будет храниться отныне имя любимого руководителя.
Вахтангову стали дороги эти юноши, молодые женщины и девушки. В каждом он нашёл доброе зерно душевности, отзывчивости, а у некоторых искру дарования, и теперь в значительной мере от него, от его чутких рук зависит вся их человеческая и артистическая судьба. Может ли он бросить их на произвол случайностей? В холодный, равнодушный мир, в котором из сотни талантов выживает один, а остальные гибнут, не успев развернуться?
А что касается театральных дел, то пусть не возмущаются и не ревнуют старики из Художественного театра, – спектакли в студии учеников Вахтангова ещё будут, пусть не такого общенародного масштаба, как на сцене МХТ, а свои, миниатюрные, камерные, но очень честные и вполне приличные, если хотите, полностью в духе «художественников». Ему не трудно в конце концов этого добиться, он знает свою силу. Но так ли уж нужны человечеству подобные подражательные спектакли?.. Не в тысячу ли раз драгоценнее даже блестящего спектакля может стать его новое произведение – молодой человеческий коллектив, готовый любить, бороться, творить что-то новое?
Жадно впитывающие в себя все живое, прозорливые глаза Евгения Богратионовича всматриваются в это «племя молодое» с дальним прицелом. Оставить их? Это было бы предательством, изменой. Изменой им и самому себе. А если говорить начистоту, это было бы изменой Станиславскому и Сулержицкому.
НО ВРЕМЯ ИДЁТ
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
А. Блок, «Незнакомка»
За стеной
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.
А. Блок
Пообещав друг другу молчать о тайном союзе, возглавляемом Евгением Богратионовичем, юные романтики не унимаются.
Снимают небольшую квартиру наверху двухэтажного домика в Мансуровском переулке. В комнатках, прилегающих к кухне, устраивают общежитие, В двух смежных, побольше и ближе к входу, – крохотную сцену и зрительный зал. Сами пропиливают между ними стену и подвешивают занавес из дерюжки. В зал втискивают 34 стула, а в углу водружают на пьедестал Венеру из папье-маше, окружив её ветвями искусственной сирени.
Простенькая серо-зелёная дерюжка, обнажённая богиня любви и обречённые на гофрированное бессмертие гроздья сирени, бережно перенесённые из «Усадьбы „Паниных“, – незабвенные участники случившегося весной томительного головокружения и смутных надежд – становятся символом. Символом восторженной веры.
Молодым людям кажется, что колдовской ток, который сплёл их в тёплом вихре переживаний, отрешённых от прозы жизни, наивный дух очарования «Усадьбы Паниных» должен объединять их вечно.
Собственноручно подписанное всеми «Честное слово» не выдавать Евгения Богратионовича и наглухо затаиться от прочего мира, который враждебно и насмешливо встретил их самоуслаждение в «Усадьбе», вставляют в рамку и вывешивают на стене. Пусть служит неослабным предупреждением тому, кто замыслил бы измену.
Уединение в своём кругу отныне охраняется, как высший закон бытия. Все помыслы сосредоточиваются только в студии. А то, что происходит помимо неё, всяческая житейская проза воспринимается не более как неизбежное, потустороннее зло, тем более скучное и низкое, чем более они вынуждены с ним считаться. И жизнь в студии начинает походить на жизнь в монастырском скиту. Вахтангов поселился рядом – через площадку на той же лестнице. Он всегда может проявить участливое внимание, приласкать, дать совет. Он душевно щедр.
Это напоминает полудетскую игру, наивное сотворение мира. Да, конечно, своими руками сотворение собственного опоэтизированного духовного мира – вот чем с увлечением занимаются в студии, ища отдыха и успокоения от бурь времени, избрав внутренние интимные источники воодушевления, любви и дружбы.
Мало-помалу переулок этот тоже становится для них символом, переулочек в стороне от шумных площадей и людных улиц. И казалось, участники студии-скита сумеют добиться своего – обретут действительное уединение для самосовершенствования.
Сюда не долетает шум городской суеты. И тем более, кажется, далеки здесь люди от грозного гула России. Похоже, что само время заблудилось тут и прилегло отдохнуть на покое. Все погружено в себя. И только неистребимые листья подорожника и одуванчики между булыжными камнями незаезженной мостовой говорят об упорном движении жизненных сил, пробивающихся на свежий воздух, к солнцу.
Для Вахтангова эти годы протекают, как на прекрасных островах – среди артистов Художественного театра, его Первой студии и студенческой студии. И он не замечает, как порой ограниченна духовная жизнь интеллигентных островитян. А если даже и замечает, то частенько считает, что каждый вправе и даже обязан ограничивать себя во имя очередной художественной цели.
Что же касается той жизни, которая бурлит вокруг островов, то с чем же иным, думает он, как не с этой жизнью, постоянно и прочно связывают актёра ежевечерние публичные спектакли, общение со сцены? И что такое по Своей природе драматургия, как не сгустки этой жизни?..
Вокруг – в мире – затянулась ночь. А в студийном кругу, когда Вахтангов начинает говорить или двигаться, показывая, каким выразительным должен быть актёр, лепя тот или другой человеческий характер, можно подумать, что воспитанное Евгением Бог-ратионовичем в себе сосредоточенное вдохновение не отягощено никакими тяжёлыми противоречиями. И если он захочет, продолжая это состояние или движение, отделиться от земли, ему ничто не должно помешать. Он прикреплён к будням и к мусору быта только условно. Работая, он живёт на грани полёта. Он обжигает учеников своим талантом, а главное – умеет заражать вдохновением. Ученики, следуя за ним, в постоянной одухотворённости, в лирическом разбеге, становятся чище, восприимчивее, талантливее.
Он воспитывает в них готовность вступить на сцену или в саму действительность с чутким отношением к страданиям, радостям, надеждам людей. И не замечает, что сам в своём отношении к жизни России уподобляется порой уже не шекспировскому Гамлету, с оружием в руках решающему вечный вопрос – сносить ли зло и обман, или восстать против моря бедствий, а начинает больше напоминать тоже гуманнейшего и бесконечно прозорливого, но в то же время до слепоты близорукого рыцаря из Ламанча. Становится представителем многочисленного поколения интеллигентных донкихотов с прекрасной душой, но в плену идеалистических иллюзий.
В июле Россия вступает в кровопролитную империалистическую войну. Народ переживает трагедию. А Вахтангов отходит в сторону от трудноразрешимых загадок современности, он воспитывает молодых артистов сознательно в отрыве от всего, чем живёт страна. Правда, содержание его занятий, по крайней мере наполовину, определяется самими молодыми людьми и он не несёт за него вины. Но и он сам, по-видимому, не чувствует трагического противоречия в том, что его уроки становятся сплавом гениального знания психологии актёрского мастерства с инфантильным отвлечением от действительности.
Может ли это дать душевное равновесие? Принести кому-нибудь успокоение? Разумеется, с милым рай и в шалаше. Но долговечен ли шалаш на вулкане? И долго ли можно предаваться пиру во время чумы – пиру личных интимных переживаний? И можно ли забыться, увлекаясь только теми задачами, какие выдвигал на этот раз Вахтангов перед учениками?.. Все эти вопросы не сразу встали во весь рост перед студенческой студией, но они уже стучатся в двери.
А Вахтангов упорствует в неестественном самоограничении, как воспитатель и художник.
Теперь он настойчивее подводит молодых людей к осознанию не только своих чувств, не только переживаний. После провала у публики «Усадьбы „Паниных“ студенты поняли, что, если актёр психологического театра будет нести ответственность только за правду переживаний и останется равнодушен к форме исполнения, он не донесёт своих переживаний до зрителя. Расплывчатость формы, перегруженность игры ничего не выражающими случайными деталями, „бытовым мусором“, безответственность в поведении на сцене, отсутствие точного рисунка – все эти свойства аморфного „театра переживаний“ теперь объявляются вне закона. Это новая ступень. Казалось бы, начинается кое-что серьёзное от искусства.
Однако поиски формы делаются ощупью, интуитивно. Основным принципом студии остаётся убеждение, что творчество в конечном счёте всегда «бессознательно». Когда здесь хотят подчеркнуть что-нибудь важное, обычно спрашивают друг у друга: «Чувствуете?»
«В театральных школах бог знает что даётся, – пишет Вахтангов впоследствии в дневнике. – Главная ошибка школ – та, что они берутся обучать, между тем как надо воспитывать».
Свои занятия Вахтангов строит, исходя из такой мысли:
«Воспитание актёра должно состоять в том, чтобы обогащать его бессознание многообразными способностями: способностью быть свободным, быть сосредоточенным, быть серьёзным, быть сценичным, артистичным, действенным, выразительным, наблюдательным, быстрым на приспособления и т. д. Нет конца числу этих способностей».
Но нет ли тут недооценки роли разума? Не слишком ли самостоятельная и всеобъемлющая роль отведена бессознанию?
«Бессознание, вооружённое таким запасом средств, выкует из материала, посланного ему, почти совершенное произведение…» – записывает Вахтангов отправную мысль для всей системы преподавания. Борясь с собственными сомнениями, он, однако, упорствует и, как всегда, доходит до крайности, до предела. Записывает мысли, одну настойчивее другой:
«Сознание никогда ничего не творит. Творит бессознание… В промежутках между репетициями происходит в бессознании творческая работа перерабатывания полученного материала… Вдохновение – это момент, когда бессознание скомбинировало материал предшествовавших работ и без участия сознания – только по зову его – даёт всему одну форму… Огонь, сопровождающий этот момент, – состояние естественное… Всё, что выдумано сознательно, не носит признаков огня. Всё, что сотворено в бессознании и формируется бессознательно, сопровождается выделением этой энергии, которая главным образом и заражает. Заразительность, то есть бессознательное увлечение бессознания воспринимающего, и есть признак таланта. Кто сознательно даёт пищу бессознанию и бессознательно выявляет результат работы бессознания, – тот талант. Кто бессознательно воспринимает пищу бессознанию и бессознательно выявляет, – тот гений… Лишённый же способности сознательно или бессознательно воспринимать и всё-таки дерзающий выявлять – бездарность. Ибо нет у него лица своего. Ибо он, опустив в бессознание – область творчества – нуль, нуль и выявляет».
Разумеется, Вахтангов великолепно видит, что у молодых актёров получается что-нибудь только тогда, когда либо он, как воспитатель и режиссёр, либо они сами сознательно приносят что-то с собой со стороны к теме пьесы, к её сюжету, образам, задачам, тексту, ритму и т. д. Какое же место, по его мнению, должно занимать это участие сознания? Следуя опять-таки за К.С. Станиславским, Вахтангов отводит сознанию только роль силы, «посылающей материал» бессознанию.
Но ведь можно и сознательно выявлять содержание роли и сознательно оформлять её? Разумеется, Вахтангов это знает. Как часто и на его репетициях происходит именно так! Но он не высоко ставит такое творчество. Он называет его скептически «мастерством». «Выявляющий сознательно – мастер». Это область не Моцарта, а Сальери… Мастеру Вахтангов противопоставляет «талант» и «гений», от которых он не требует большого «мастерства», ибо они «бессознательно создадут все гораздо лучше, чем сумеет „мастер“…
Может показаться, что, по сути дела, борьба Вахтангова вслед за Станиславским за приоритет «бессознательного» в художественном творчестве над «сознанием» объясняется если не целиком, то в значительной мере недоразумением в терминологии. Стоит, мол, подставить вместо слова «сознание» такие понятия, как «сухой рассудок», «элементарные логические умозаключения», «схематичное рассуждательство», «голый практицизм», и нельзя будет оспаривать, что подобные элементы мышления отнюдь не лучшее в художественном творчестве. Увлечение ими обязательно свяжет, выхолостит, даже изуродует самый процесс творчества. А его результат, то есть художественное произведение, получится также уродливым, обеднённым. Более того, тогда произведение холодных рук может начисто лишиться вообще источников вдохновения и поэзии. Родится на свет ублюдком, далёким от самой природы художественного.
Но свести вопрос только к элементарному терминологическому недоразумению нельзя. Это значило бы совсем отмахнуться от влияния на Вахтангова и Станиславского идеалистической философии, влияния в те годы вполне естественного.
Отстаивая для актёров «бессознательное» рождение художественных образов, а тем самым некое полубессознательное познание действительности, Вахтангов в эту пору своей жизни вольно или невольно вместе с тем умаляет значение критической мысли и идеализирует силу интуиции.








