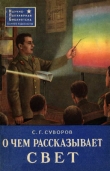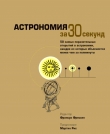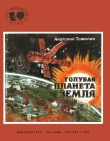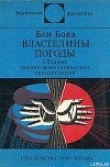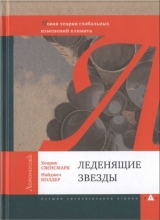
Текст книги "Леденящие звезды. Новая теория глобальных изменений климата"
Автор книги: Хенрик Свенсмарк
Соавторы: Найджел Колдер
Жанры:
Астрономия и Космос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Сама химия атмосферы представляла собой головоломку. Если ядра облачной конденсации, эти зерна, вокруг которых собираются водяные капли, сами представляют собой капельки другого вещества, например, серной кислоты, то как в таком случае они образуются? Разве, для того чтобы они выросли, им не нужно какое-нибудь свое «зерно»? Вспоминается старушка из английской народной сказки, пытавшаяся привести домой поросенка с рынка: «Огонь, огонь, сожги палку! Не хочет палка побить собаку, не хочет собака укусить поросенка, не хочет поросенок лезть через ограду, не успею я засветло попасть домой» [51]51
Joseph Jacobs. English Fairy Tales,London: David Nutt, 1890.
[Закрыть].
Согласно традиционным взглядам атмосферных химиков, для того чтобы капельки серной кислоты могли успешно создавать облака, им просто нужно время. Теория исходила из того, что в воздухе всегда содержится огромное количество молекул серной кислоты. Им требовалось совсем немного молекул воды, и тогда они медленно начинали соединяться в капли, молекула за молекулой, без всякой помощи со стороны.
Эту теорию постигла внезапная смерть, так как однажды слишком много частиц появилось там, где их никто не ждал. Это случилось в 1996 году над Тихим океаном, куда любят отправляться ученые, чтобы вдалеке от загрязненных промышленными выбросами районов понаблюдать жизненный цикл облаков. Патрульный противолодочный самолет ВМС США «Орион», приспособленный для исследовательской работы агентством НАСА и оснащенный приборами для обнаружения газов, паров и наших крохотных «точек», к тому времени налетал уже много часов среди облаков над тропической частью Тихого океана.
Однажды ранним утром самолет шел низко над океанскими волнами к югу от Панамы. Подобно морской птице, он вынюхивал диметилсульфид. Группа ученых, возглавляемая Тони Кларком из Гавайского университета, выбрала этот регион по той причине, что фауна и флора океана здесь особенно разнообразны. Ученые хотели проследить, как происходит химическое преобразование диметилсульфида в естественных условиях.
Выбрав определенный район, пилот снизился до 160 метров, и приборы, как и следовало ожидать, показали большое количество диметилсульфида. Дул чистый западный ветер, и корабль кружил на низкой высоте целый час. По небу гуляли облака с просветами, иногда встречались дождевые тучки.
Приборы регистрировали ожидаемое преобразование диметилсульфида. Под воздействием солнечного ультрафиолета он вступал в реакцию с водяным паром и образовывал сначала двуокись серы (сернистый ангидрид), а затем пары серной кислоты. Число молекул серной кислоты колебалось довольно сильно, но все еще оставалось слишком маленьким, для того чтобы они стали собираться вместе, согласно господствовавшей теории.
Сюрприз свалился на ученых в два часа дня, когда приборы исследовательского самолета зафиксировали громадное количество сверхмалых «точек». За две минуты их количество подскочило практически с нуля до более тридцати миллионов на литр воздуха. При этом количество свободных молекул серной кислоты, также измерявшееся в этот момент, оставалось низким.
Такого взрывного образования сверхмалых «точек» просто не должно было быть при имевшейся концентрации серной кислоты. Известно, что капельки серной кислоты – главный источник ядер конденсации в процессе облакообразования над доброй половиной земного шара. Здесь же получалось, что концентрации серной кислоты еще не достаточно, а ядер конденсации – уже пруд пруди. Метеорологи не могли объяснить причину этой преждевременной нуклеации. В каком-то смысле они походили на автомеханика, который не понимает, откуда в свече зажигания берется искра. Сделав хорошую мину при плохой игре, НАСА огласило предварительное заключение, где непредусмотренным событиям было придано положительное освещение:
«Ясно одно – это уникальное наблюдение феномена тропической нуклеации обеспечит нас надежной экспериментальной площадкой, на которой можно будет проверять новые теории» [52]52
Из доклада НАСА: R. J. McNeal et al. «The NASA Global Tropospheric Experiment», IGACtivities Newsletter,No. 13, March 1998.
[Закрыть].
Когда Кларк и его команда попытались понять причины произошедшего, они гадали, может ли азот, поступающий с океанской поверхности, подхлестнуть формирование сверхмалых «точек». Было еще одно оторванное от жизни предположение: мол, серной кислоте и молекулам воды помогли сблизиться электрические заряды, так как во время полета исследователи видели вспышки молний.
Вообще говоря, то, что присутствующие в воздухе электрически заряженные молекулы, атомы и электроны, объединяемые общим названием «ионы», могли дать начало ядрообразованию, не было такой уж новой идеей. Эта теория появилась в 1960-е годы, и в ее пользу говорили наблюдения за сверхмалыми «точками», предвосхищавшие эксперименты группы Кларка, а также несколько скромных лабораторных экспериментов, подкрепленных кое-какими предварительными гипотезами. В 1980-е горячим защитником идеи был Франк Рас, бельгийский химик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, – по его расчетам выходило, что образование микрокапель серной кислоты за счет ионов вполне реализуемо.
Непредубежденные теоретики хранили идею ионного образования ядер конденсации, так сказать, про запас, не исключая ее полностью. Она не будила их воображение до тех пор, пока теоретики не услышали в 1998 году об открытии, сделанном у берегов Панамы, и не почувствовали его подтекст. Затем и другие химики, изучающие атмосферу, начали понимать, что ионное ядрообразование могло бы действительно подстегнуть «поросенка», чтобы он довольно резво перепрыгнул через ограду. Тогда космические лучи могли бы более убедительно вступить в действие, потому что скорее они, а не удары молний, служат важным источником ионов на всех уровнях – и высоко в атмосфере, где образуются облака, и над поверхностью океана, где летал «Орион».
Фанцюнь Юй и Ричард Турко, также работавшие в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, изучали инверсионные следы, остающиеся позади самолета, когда он проносится по небу. Там, в этом самолетном шраме, ядра облачной конденсации тоже формировались гораздо быстрее, чем ожидала от них традиционная теория, предполагавшая, что они будут группироваться постепенно, молекула к молекуле. Очевидно, в результате сгорания топлива образуются заряженные атомы и молекулы, помогающие «точкам» формироваться и расти.
Отсюда недалеко и до умозаключения, которое Юй и Турко сделали в 2000 году: не что иное как именно космические лучи способствуют ускоренному ядрообразованию и, следовательно, формированию облаков. Присутствие электрических зарядов обеспечивает сближение молекул даже при низкой концентрации паров серной кислоты. А затем ионы стабилизируют образующиеся зародышевые «точки», пока те собираются в более крупные капельки. Так научные расчеты объяснили урожай сверхмалых «точек» над Тихим океаном близ побережья Панамы.
Попытки поставить эксперимент
Это своевременное вмешательство атмосферных химиков никого не обрадовало больше, чем физика элементарных частиц Джаспера Киркби, сотрудника ЦЕРНа в Женеве. Когда в декабре 1997 года Колдер читал в ЦЕРНе лекцию об обнаруженной Свенсмарком связи между космическими лучами и облаками, Киркби был среди слушателей. Лекция возбудила его любопытство, и он, отправляясь с семьей на Рождество в Париж, в гости к сводной сестре, взял с собой сборник научных трудов. И пока остальные ходили по магазинам, Киркби изучал публикации. В итоге он убедился, что открытие Свенсмарка действительно было очень интересным.
Поскольку совпадения вариаций космических лучей и колебаний облачного покрова ничего не говорили о существующих здесь причинно-следственных связях, Киркби задумался над тем, как можно было бы установить эти связи и найти механизм, инициирующий образование облаков. И хотя физика высоких энергий не занимается вопросами климата, космические лучи определенно входят в область ее интересов: физики, работающие с элементарными частицами, в изобилии создают искусственные космические лучи с помощью своих ускорителей. Посреди праздников в Париже Киркби нашел время, чтобы набросать план эксперимента. По его замыслу, следовало воссоздать атмосферные условия и, соответственно, условия образования облаков в специально оборудованной камере, воздействовать на нее пучком частиц, разогнанных в церновском ускорителе, и измерить получившийся эффект.
Мало кто знал тогда, но, помимо фундаментальной науки, Джаспер Киркби занимался исследованиями окружающей среды. Если бы он нашел возможную причину изменений климата, для его группы это была бы особая возможность зарекомендовать себя с лучшей стороны и продвинуть исследования на более профессиональный уровень. Подавая в камеру строго отмеренные дозы водяного пара и следовые количества определенных соединений – двуокиси серы, аммиака, азотной кислоты, – ученые намеревались проследить физические и химические эффекты в серии тщательно спланированных опытов и увидеть, сможет ли входящий пучок частиц повлиять на образование ядер облачной конденсации. Из первых букв остроумного названия эксперимента «Cosmics Leaving OUtdoor Droplets» (буквально: «Космические лучи оставляют после себя капельки под открытым небом») Киркби составил акроним – «CLOUD» [53]53
Cloud (англ.) – облако.
[Закрыть].
Он принялся собирать команду. За два года Джаспер Киркби собрал больше пятидесяти метеорологов, экспертов по солнечно-земной физике и физике элементарных частиц из семнадцати институтов Европы и США. Свенсмарк тоже был среди них. Он отчаялся найти в Дании средства для собственного эксперимента и был рад присоединиться к группе специалистов, набираемой Киркби.
Был здесь и Маркку Кулмала из Хельсинки, бросивший Свенсмарку спасательный круг в море критики в Эльсиноре. Как и многие другие в их команде, он все еще не был убежден результатами Свенсмарка и не считал, что космические лучи прямо участвуют в образовании облаков. В то время Кулмала предпочитал объяснять нуклеационные взрывы тем, что в реакциях участвуют и другие молекулы, помимо серной кислоты и водяного пара. Но, как и остальные, он не смог отказаться от возможности проверить идею ионного ядрообразования в ходе беспрецедентного исследования в области атмосферной химии.
Киркби нашел нишу для своего проекта «CLOUD» в опытном зале церновского протонного синхротрона. Главное место в эксперименте отводилось диффузионной камере полуметрового диаметра, куда синхротрон должен был подавать регулируемые порции частиц высоких энергий. Некоторые члены группы, приехавшие из Хельсинкского университета, Миссури-Ролла [54]54
Университет Миссури-Ролла – одно из крупнейших научно-исследовательских и учебных заведений США. С 2008 года носит название Университет науки и технологии штата Миссури. Расположен в городе Ролла, штат Миссури.
[Закрыть]и Венского университета, ранее уже имели дело с такими камерами и получали положительные результаты. Используя наработанный ими опыт, инженеры ЦЕРНа смогли построить большую пузырьковую камеру для изучения следов частиц.
Самые современные приборы, располагавшиеся вокруг диффузионной камеры, предназначались для того, чтобы следить за событиями, вызываемыми пучком частиц из ускорителя. Капли влаги, образующиеся в камере, должны были рассеивать свет и тем самым заявили бы о своем присутствии. Фотографии предполагалось делать с помощью высокоскоростной 3D-камеры, используя технологию, которую впервые применили для наблюдения за солнечными затмениями.
Атомы, молекулы и ионы различных видов и масс, присутствующие в воздухе, должны были попадать в поле зрения сразу нескольких приборов. Три разных масс-спектрометра предназначались для того, чтобы идентифицировать их путем точного измерения молекулярных весов. Еще один прибор измерял подвижность ионов и должен был поведать о том, как они взаимодействуют с молекулами воздуха и других веществ, участвующими в эксперименте.
Чего не хватало заявке на проведение эксперимента, так это осмысленной поддержки со стороны специалистов по химии атмосферы, теоретических обоснований той роли, которую космические лучидолжны играть в атмосферных процессах, – ничем иным, кроме предположений, сделанных Франком Расом еще в 1980-е годы, атмосферные химики не располагали. Уточненный сценарий Фанцюнь Юя и Ричарда Турко, объясняющий тот неожиданный нуклеационный взрыв близ берегов Панамы, подоспел как раз вовремя. К апрелю 2000 года каждый пункт заявки был тщательно проработан. Заключительные слова этого текста, в сущности, повторяли те мысли Свенсмарка, с которых и началась вся работа.
«Более ста лет назад Ч. Т. Р. Вильсон изобрел диффузионную камеру, чтобы исследовать феномен погоды. Его изобретение стало необходимейшим инструментом для физики элементарных частиц. Сейчас колесо истории повернулось, и мы возвращаемся назад, к идее Вильсона, дабы исследовать вероятность того, что атмосфера Земли действует подобно большой диффузионной камере, в которой эхом отдаются причуды Солнца» [55]55
Из заявки на эксперимент «CLOUD»: «А study of the link between cosmic rays and clouds with a cloud chamber at the CERN PS», CERN, SPSC/P317, 24 April 2000.
[Закрыть].
Когда заявка попала на рассмотрение к двум ведущим метеорологам, ответ оказался неутешительным. Один лауреат Нобелевской премии поднял на смех доказательства Свенсмарка и счел необходимым обратить внимание ЦЕРНа на то, что эти доводы используются лишь как оружие в научно-политических спорах, ведущихся на тему глобального потепления. Группа ученых возмутилась: это не могло быть научным аргументом в пользу или против их проекта. Когда ученые обсуждали рецензию между собой, они отметили, что в высказанных возражениях нет логики:
«Если ситуация настолько неприемлема, насколько это изображается [рецензентом], разве не было бы важно – тем более важно! – показать, что гипотеза Свенсмарка ошибочна?» [56]56
Из комментария, распространенного в частном порядке; получено консорциумом «CLOUD» из Германии, 2000 г.
[Закрыть]
Другой рецензент вдавался в технические детали и выражал сомнение в том, что ученые смогут в своем опыте воссоздать условия реальной атмосферы. Здесь специалистам Киркби пришлось самым тщательным образом отвечать на все возражения, пункт за пунктом. Они также решили подчеркнуть, что цель эксперимента заключалась не в том, чтобы доказать, будто облака реагируют на колебания космических лучей, а в том, чтобы лишь посмотреть, возможно ли это вообще.
Наиболее весомым техническим возражением было то, что пробный запуск эксперимента слишком ограничен во времени. «Точкам», представляющим собой лишь зародыши капелек, требуется много часов, чтобы сформироваться и вырасти. При пробном запуске капельки довольно быстро осядут на стенки диффузионной камеры – на это потребуется около 24 часов, – и эксперимент закончится. Группа учла замечание, присоединив к большой реакционной камере два дополнительных резервуара (причем с тефлоновыми стенками), объем которых в шестьдесят раз превышал объем диффузионной камеры. Теперь химические реакции могли спокойно продолжаться несколько дней и даже неделю.
В ЦЕРНе есть собственный специальный комитет, консультирующий генерального директора по вопросам научных программ. Этот комитет потребовал, чтобы ему более подробно обрисовали то, как будут проходить испытания. Эксперимент был новинкой даже для атмосферных физиков, не говоря уже о штатных сотрудниках ЦЕРНа, специалистов в области физики высоких энергий. Киркби надеялся, что «CLOUD» будет одобрен до конца 2000 года, поэтому он потребовал, чтобы его эксперты как можно быстрее подготовили несколько дополнений к проекту. Одно содержало чертежи новой реакционной камеры и некоторые детали начальных стадий опыта. В другом дополнении экспериментаторы объясняли, что испытания, возможно, займут нескольких лет, поэтому эксперимент следует считать одним из постоянных направлений ЦЕРНа, где необходимо разместить полустационарную установку для долговременных исследований атмосферы.
Но разве не должен каждый заниматься своим делом? Члены комитета ЦЕРНа, обсуждавшие проект, принялись размышлять, а следует ли лаборатории физики элементарных частиц вообще влезать в изучение атмосферы, поэтому они все тянули и тянули с принятием решения. Тогда группа сосредоточила свои усилия на том, чтобы вызвать интерес к проекту у специалистов по атмосфере.
В 2001 году Европейское геофизическое общество, Европейское физическое общество и Фонд европейской науки совместно организовали в Женеве рабочую группу, чтобы пересмотреть «ионно-аэрозольно-облачные взаимодействия» и обсудить программу эксперимента. Они привлекли больше пятидесяти специалистов со всего мира. При голосовании по вопросу: «Играет ли роль в изменениях климата ионизация, которую вызывают космические лучи?» – мнения разделились поровну между «да» и «не знаю», но все специалисты были единодушны в поддержке проекта Киркби.
Это удачное заседание ненадолго подняло настроение экспериментаторов, однако через год по «CLOUD» был нанесен тяжелый удар. Значительно более дорогой проект ЦЕРНа – самый мощный в мире ускоритель, Большой адронный коллайдер, еще не был завершен. Он почти опустошил международный бюджет лаборатории, и директорат решил «заморозить» все новые эксперименты. К их числу относился и «CLOUD», не такой уж дорогой для физики высоких энергий.
Не сломившись, Киркби отправился в Америку, чтобы найти необходимый для проекта ускоритель. Более всего ему подходил Стэнфордский линейный ускоритель в Калифорнии. В 1970-е годы Киркби работал там и участвовал в исследованиях, которые завершились грандиозным успехом: Мартин Перл открыл одну из важнейших фундаментальных частиц во Вселенной – тау-лептон. Сам Мартин Перл с воодушевлением присоединился к их команде, так же как и Фанцюнь Юй, к тому времени уже работавший в университете штата Нью-Йорк в Олбани.
Увы, отзывы рецензентов вновь оказались слишком враждебными, и трансатлантическое предприятие закончилось ничем.
Проект пролежал замороженным три года, однако научная аргументация тем временем развивалась дальше, и некоторые доказательства научное сообщество уже признало верными. Ближе к концу 2004 года ЦЕРН снова был готов оказывать поддержку новым экспериментам. Киркби отобрал из своей команды «тяжелую артиллерию», чтобы провести переговоры с наиболее важными руководителями исследовательской службы, не дожидаясь собрания комиссии по научным программам, которое было назначено на январь 2005 года. В этот раз Маркку Кулмала провел убедительную презентацию, и комиссия решила, что ЦЕРНу следует предоставить оборудование для проекта «CLOUD». Сообщая об этом Колдеру, Киркби ликовал:
«Сейчас отношение к нам со стороны ЦЕРНа, по существу, доброжелательное. Предоставленных нам [национальных] средств должно хватить, у нас будет настоящий эксперимент „CLOUD“, и мы сможем наконец приняться за физику. У нас на пути еще много препятствий, но самое трудное позади» [57]57
Из личной переписки Джаспера Киркби и Найджела Колдера, 2006 г.
[Закрыть].
С тех пор как Киркби впервые задумал свой эксперимент, прошло семь лет. ЦЕРН рассматривал официальный проект почти пять лет. Команда надеялась, что при хорошем стечении обстоятельств их главный эксперимент принесет впечатляющие плоды к 2010 году.
Короб в подвале
К этому времени в Датском национальном космическом центре Свенсмарк и его коллеги разработали и запустили более скромный собственный эксперимент. Они решили не дожидаться, пока лаборатория ЦЕРНа снизойдет до того, чтобы предоставить пучок частиц, который высвободит электрические заряды в заданном объеме воздуха. Вместо этого они позволили природным космическим лучам, дождем проливающимся над Копенгагеном, сделать эту работу за них. Эксперимент получил название «SKY» [58]58
Произносится как «скю».
[Закрыть]. В датском языке это слово обозначает «облако», в английском – «небо», сочетание вполне символическое.
Когда мюоны, или тяжелые электроны, – частицы, лучше других заряженных гостей из космоса умеющие проникать сквозь земную атмосферу, – атаковали крышу здания на улице Юлианы Марии, что приютила у себя Космический центр, они не привлекали к себе внимания. Мюоны спокойно проходили вниз, сквозь этажи, столы, компьютеры, кофейные чашки и людей. Перед тем как исчезнуть в земной коре, некоторые мюоны просвистывали через большой короб с воздухом, стоявший в подвале, и помогали команде Свенсмарка, вышибая электроны из молекул азота и кислорода и таким образом создавая ионы.
Эксперимент «SKY» был затеян в 2000 году, когда новости из ЦЕРНа приносили одно расстройство. Это был более простой способ приступить к изучению атмосферных процессов, в которых образуются ядра облачной конденсации. Новые расчеты Фанцюнь Юя и Ричарда Турко, объясняющие удивительный взрыв сверхмалых «точек» в небе над Тихим океаном, подкинули Свенсмарку идею об относительно недорогой системе, которая позволила бы взглянуть на это явление в лабораторных условиях. Ее создание стали рассматривать как пилотный проект, требующий меньше затрат, чем основной эксперимент «CLOUD».
Это было новым направлением для Свенсмарка. Так же как и Джаспер Киркби из Женевы, он был физиком, а не атмосферным химиком. К тому же Свенсмарк был теоретиком и не привык в отличие от Киркби к неторопливой поступи экспериментаторской жизни. Даже просто для того, чтобы подыскать место под короб с воздухом, требовалось определенное время. После того как было найдено подходящее место – чистая комната в подвале, – оказалось, что она занята книгами, и, чтобы их убрать, понадобилось специальное разрешение университетской библиотеки. Что касается средств, Свенсмарку оставалось надеяться лишь на собственное везение.
Поначалу постановка эксперимента двигалась довольно робко – на деньги, полученные в виде двух небольших грантов от частных фондов. Перспективы были столь неопределенными, что для техников, занимавшихся материальной частью проекта, технические задания по эксперименту «SKY» все время оказывались на последнем месте. Работа останавливалась много раз. Датский совет по естественным наукам придал проекту некую устойчивость, вручив Свенсмарку грант в размере шестисот тысяч крон (около ста тысяч долларов США) на три года, но этого не хватило, чтобы закончить подготовку эксперимента и собрать необходимых специалистов. В дело был даже пущен грант от Фонда Карлсберга, чтобы Найджел Марш смог остаться со Свенсмарком до конца.
К 2002 году ситуация стала катастрофической. Срочно были нужны пятьдесят тысяч крон, только для того чтобы проект продержался на плаву еще какое-то время. Свенсмарк вспомнил, что некогда один крупный предприниматель очень заинтересовался его работой. Это было год назад, тогда тот возглавлял комитет, наградивший Свенсмарка премией за исследования в области энергии «Энергия-Е2». После многих попыток дозвониться до предпринимателя Свенсмарку наконец это удалось, и ученый начал объяснять свое затруднительное положение. Бизнесмен немедленно выслал за ним такси, и Свенсмарк вдруг обнаружил, что он стоит, небритый и в сандалиях, посреди комнаты, где сидят люди в деловых костюмах. То, что они сказали, ошеломило ученого.
«Мы решили, что можем дать вам один миллион крон на первый год, – заявили деловые люди, – пятьсот тысяч на следующий и двести пятьдесят тысяч – в третий год» [59]59
Из сообщения Хенрика Свенсмарка Найджелу Колдеру, 2005 г.
[Закрыть].
Это меняло дело! Свенсмарк теперь мог удержать Марша в команде и нанять ученого-экспериментатора из физической лаборатории Института Нильса Бора. Йенс Олаф Пепке Педерсен, специалист по столкновениям быстрых частиц и атомов, стал главным соратником Свенсмарка в деле развития и продвижения эксперимента «SKY». Для полномасштабных действий все еще нужны были дополнительные средства, но в любом случае в 2003 году перспективы стали более радужными.
Датские парламентарии могут финансировать различные специальные проекты, минуя правительственные фонды. Сделав энергичные шаги в этом направлении, Свенсмарк смог получить некоторые средства из национального бюджета. Многим показалось, что правительство совершило большую ошибку, поддержав его исследования, и это вызвало яростные нападки на Свенсмарка в датских средствах массовой информации со стороны как предпринимателей, так и некоторых ученых. Однако сумма в двенадцать миллионов крон – в двадцать раз больше гранта, выделенного Датским советом по естественным наукам на эксперимент «SKY», – обеспечила проекту следующие четыре года работы.
Свенсмарк переименовал свою группу в Центр солнечно-климатических исследований. Помимо Марша и Пепке Педерсена, к команде присоединились Ульрик Уггерхёй, физик-атомщик из Орхусского университета, и аспирант Мартин Энгхофф. Теперь, когда у них был надежный источник финансирования, ученые смогли приобрести все необходимое оборудование, и группа наконец приступила к эксперименту.
Оглядываясь назад на эту небольшую сагу, историки науки могут лишь гадать, почему и Киркби в Женеве, и Свенсмарку в Копенгагене пришлось пережить такую нервотрепку, чтобы получить одобрение и средства на свои проекты стоимостью всего несколько миллионов долларов. Ведь мир каждый год тратит миллиарды долларов на изучение климата. Пищей для дальнейших размышлений историков науки могут послужить также утверждения оппонентов, к числу которых относились иные из очень даже именитых ученых, будто они были уверены в отрицательном результате эксперимента. Свенсмарк сам не знал, какой сюрприз ожидает его, когда после долгих мытарств незадолго до Рождества 2004 года наконец началось систематическое проведение эксперимента.
В мгновение ока
Трубки, насосы, циферблаты и электронные приборы, окружающие двухметровый короб с воздухом, придавали копенгагенскому подвалу вид машинного отделения на корабле. Это впечатление было отчасти верно, потому что, судя по качеству воздуха в коробе, вы вполне могли быть посреди Тихого океана, а не в центре европейского города. Короб, или по-научному «реакционная камера», был сделан из многослойного майлара с тефлоновым покрытием и содержал семь кубических метров обычного воздуха, пропущенного через пять различных фильтров.
Чтобы исключить возможность проникновения сквозь фильтры каких-нибудь примесей, экспериментаторы могли наполнять камеру даже более чистым воздухом, смешав в нужной пропорции азот и кислород из баллонов. Следовало решить и проблему азота – вдруг его молекулы играют какую-нибудь химическую роль в образовании «точек»? Чтобы проверить это, на некоторых стадиях эксперимента азот в «синтетическом» воздухе заменяли аргоном, однако это ни разу не повлекло за собой никаких изменений. Исключение азота позволило ученым отбросить целый ряд возможных реакций с участием положительно заряженных ионов. Вместо этого экспериментаторы сосредоточили свое внимание на самых проворных из отрицательных ионов – электронах.
Температура и влажность воздуха в реакционной камере находились под постоянным контролем, приборы измеряли также следы присутствовавших там двуокиси серы и озона. Роль Солнца выполняли семь ультрафиолетовых ламп, горящих то непрерывно, то периодами по десять минут. Детектор сверхмалых «точек» регистрировал продукты химических реакций.
Эксперимент начался с того, что ученые дали в камеру несколько вспышек ультрафиолета. Это сразу привело к образованию сверхмалых «точек» – они рождались точно так же, как и в естественных условиях над Тихим океаном, в полном соответствии с открытием, сделанным во время того самого полета «Ориона». Ультрафиолетовое излучение способствовало стремительному образованию молекул серной кислоты. И хотя молекул серной кислоты было намного меньше, чем того требовала старая «лобовая» теория каплеобразования, эти молекулы тем не менее быстро собирались в крохотные скопления, или кластеры.
Уже через десять минут (а на самом деле даже немного раньше) детектор начал выявлять новорожденные «точки». Как показал в дальнейшем опыт, в типичных случаях образование «точек» достигало своего пикового значения – около двух тысяч единиц на литр – в течение последующей четверти часа, даже несмотря на то, что стенки камеры «выпивали» изрядное их количество. Но даже с учетом этих потерь образование «точек» шло далее по нарастающей и доходило до десятков миллионов на литр, что совпадало с данными, полученными над Тихим океаном.

Реакционная камера
1 – камера
2 – источники ультрафиолета
3 – сотовый коллиматор
4 – подача воздуха
5 – подача озона
6 – подача сернистого ангидрида
7 – выход газа и аэрозольных частиц
8 – электроды
Эксперимент «SKY» в Датском национальном космическом центре. Космические лучи, проходившие сквозь крышу здания, попадали в пластиковый короб, содержавший семь кубометров очищенного воздуха с примесями сернистого ангидрида (SO 2) и озона – именно такой состав присущ незагрязненному воздуху в естественной среде. Количество водяного пара в коробе также строго контролировалось.
Свет ультрафиолетовых ламп содействовал образованию серной кислоты, та соединялась с молекулами воды, и в результате в воздухе рождалось большое количество молекулярных кластеров. Когда на электроды подавалось высокое напряжение и электромагнитное поле «выметало» из короба электроны, высвобожденные космическими лучами, кластеров становилось заметно меньше, а когда гамма-излучение пополняло запас свободных электронов в воздухе, количество кластеров возрастало.
В общем смысле все работало даже лучше, чем ученые ожидали. Но развитие событий от одной стадии эксперимента к другой превращалось в захватывающий сюжет. Главная роль в химической драме, разыгрывающейся в закрытом коробе с воздухом, предположительно отводилась космическим лучам, так как они, пронзая потолок и исчезая в полу, оставляли после себя след из заряженных частиц. Экспериментаторы были сильно удивлены, когда начали понимать, что же происходит на самом деле.
Задумав эксперимент, Свенсмарк хотел получить простой ответ – «да» или «нет» – на вопрос, действительно ли ионы, порожденные космическими лучами, засевают воздух «точками». Чтобы проверить это, он устроил так, чтобы в камере можно было включить сильное электрическое поле, которое вымело бы из исследуемого объема воздуха все заряженные частицы. Поле должно было удалить эти частицы буквально за секунду. А ведь, согласно существующим теориям, заряженным частицам, прилетевшим извне, нужно около восьмидесяти секунд, чтобы произвести заметный эффект. Так что если космические лучи действительно что-то такое делают в воздухе, то при включенном электрическом поле «точки» просто не должны образовываться. Свенсмарк позже вспоминал, что произошло.
«Итак, был уже вечер, и в лаборатории собрались все, кто имел отношение к проекту. Эксперимент был произведен при включенном электрическом поле, и теперь оставалось лишь окончательно проверить, не осталось ли в камере ядер, индуцированных ионами, – во всяком случае, нам казалось, что эта проверка и есть окончательный ответ. Но спустя десять минут вся камера была наполнена сверхмалыми „точками“, как и раньше. Это был очень странный момент. Неужели наша идея потерпела крах?» [60]60
Из сообщения Хенрика Свенсмарка Найджелу Колдеру, 2005 г.
[Закрыть]
Первая реакция: следует все проверить. Правильно ли измеряются концентрации серной кислоты? Хорошо ли откалибрована система подачи ультрафиолета? Достаточно ли гомогенно ультрафиолетовое излучение, проходящее через специальную, тщательно выкрашенную сотовую матрицу, позаимствованную нами у авиационных технологов? Все были на взводе; если что-то не совпадало со спецификациями, страсти накалялись до предела. Несколько недель прошли в технических проверках, прежде чем группа попытала счастья снова.