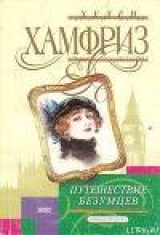
Текст книги "Путешествие безумцев"
Автор книги: Хелен Хамфриз
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
– Значит, мне нужно это сделать самой, – говорит она, ожидая, что Энни передумает.
Энни молчит.
– Ну ладно, – произносит Тэсс. – Я сделаю это сама, но это меня мало радует.
Она поворачивается и направляется к дому. Энни смотрит ей вслед, от души сожалея, что так случилось. У Тэсс достаточно своей работы для того, чтобы взваливать на нее чужую. До сих пор они хорошо уживались вместе. Энни так нравится болтать с ней, лежа в темноте спальни. Энни рассказывала Тэсс о низости миссис Гилби, Тэсс – о том, как голодала ее семья на севере Англии.
Энни идет дальше. Необходимо поговорить с миссис Дашелл о том, как ей дальше совмещать свои обязанности горничной с ролью модели для фотографий. Энни здесь всего несколько недель, и она не может допустить, чтобы Тэсс выполняла за нее ее работу. Это несправедливо.
Войдя в курятник, Энни поняла, что сейчас не время для разговора, Изабель, всклокоченная и раздерганная, мечется взад и вперед.
– Где ты пропадала? – раздраженно бросает она, когда Энни вбегает в студию. – Я посылала за тобой час назад. Свет уходит. Пошли. – Она сует камеру в руки Энни. – Бери это и иди за мной!
Она складывает раздвижные ноги камеры и распахивает перед Энни стеклянную дверь студии, жмурясь от яркого солнечного света.
С камерой в руках Энни бежит вслед за широко шагающей Изабель, стараясь не отставать.
– Простите, мэм, а куда мы идем?
– Топить тебя, – ответила Изабель. Слова ее звучат всерьез, и Энни приходится убеждать себя, что это все-таки шутка.
Горничных не убивают, даже случайно, так как они нужны в хозяйстве. И, однако, ей ведь до сих пор не пришло в голову осведомиться, что сталось с их предыдущей горничной, место которой она сейчас занимает!
Они пересекли сад и, пройдя через луг, стали спускаться по поросшему лесом склону. У его подножия тек маленький ручеек, матово мерцая в солнечном свете.
– Ну вот, – говорит Изабель. – Это нам подойдет.
Она берет камеру у Энни и осторожно кладет ее на траву у берега.
– Самое подходящее место, чтобы утопить тебя.
Изабель улыбается, увидев выражение лица Энни.
– О, да ты перепугалась! Ты что, подумала, я это серьезно?
– Нет, мэм, – говорит Энни, чувствуя, что краснеет.
– Ты говоришь неправду, – отвечает Изабель.
Энни чувствует себя глупо.
– Я, конечно, поняла, что вы не собираетесь, – защищается Энни. – Но я знаю, что вы могли бы.
– Хорошая девчонка! – хохочет Изабель.
– Теперь иди сядь там, на валуне, и прими опечаленный вид.
Энни покорно усаживается на большой, наполовину вросший в землю камень у края воды и, скосив глаза, наблюдает, как Изабель устанавливает камеру.
– Сегодня у нас будет обработка в полевых условиях, – сказала Изабель, пристегивая черный капюшон к задней части камеры.
– Это не всегда срабатывает, но ничего.
Она копается внутри деревянной коробки, доставая оттуда разные принадлежности и раскладывая их рядом с собой. При этом она что-то бормочет про себя, словно забыв о присутствии Энни.
– Мэм, – окликает Энни через некоторое время, – все в порядке?
– Нет, – весело отвечает Изабель, подняв на нее глаза. – Все ни к черту не годится. Еще секунда, и я закончу!
Она поглубже втыкает ножки камеры в дерн, пробует, устойчиво ли она стоит.
– Хорошо, – говорит она словно про себя и, осторожно переступив через разложенные на траве предметы, подходит к Энни.
– Расстегни воротник, – приказывает Изабель.
Энни неуверенно расстегивает несколько верхних пуговиц, но Изабель нетерпеливо тянется к ней и расстегивает еще несколько. Она обдергивает платье Энни назад так, чтобы обнажилась шея.
– Мне нужна эта линия, – говорит Изабель, дотронувшись до ее ключицы.
Прикосновение Изабель настолько бесцеремонно, что Энни невольно вздрагивает. До нее давно никто не дотрагивался, и это движение пугает ее до глубины души. Впрочем, Изабель не обращает никакого внимания на ее реакцию.
– Этот камень не подходит – слишком высоко, – раздраженно бросает Изабель. – Тебе надо сесть пониже.
Оглядевшись и не найдя ничего подходящего, Изабель ступает на сырую глину у самого берега и принимается перекладывать булыжники.
Энни садится на получившуюся кучку. Теперь она совсем близко к воде, которая струей разбивается о камни под ее ногами и обтекает ее с обеих сторон.
– Теперь волосы, – говорит Изабель, и Энни начинает вытаскивать шпильки, державшие тугой узел ее волос. Она встряхивает головой, словно собака, отряхивающаяся после купания: по прошлому разу она помнила, что ее волосы должны быть в полном беспорядке – именно так хочет леди. Она еще раз встряхивает головой, и Изабель рассеянно дотрагивается до ее волос, пропустив пряди между пальцами.
– Хорошо, – говорит Изабель.
– Кто я? – интересуется Энни. Изабель присаживается рядом с ней.
– Офелия, – поясняет она. – Ты знаешь эту историю?
Энни отрицательно качает головой.
– Ты – Офелия, – говорит Изабель мягко. – Ты любишь Гамлета, но он не отвечает тебе взаимностью. Твои отец и брат оказались плохими советчиками в этом деле. Гамлет озабочен только своими собственными демонами. Он даже не замечает тебя, может быть, даже совсем не догадывается, что ты его любишь.
Летнее солнце согревает обнаженную шею Энни. Голос Изабель шелестит рядом с ней, как ночной ветер в ветвях деревьев за окном ее спальни на чердаке. Энни опускает руку в ручей, ощущая, как вода струится вокруг ее пальцев. Она уже знает, чем закончилась эта история.
– Я утопилась, – говорит она.
– Именно – ты утопилась.
– Мэм, я должна всегда изображать такие грустные истории? – спрашивает Энни, вспоминая Джиневру, которая лежала на каменном полу, хватая Артура за ноги.
После этой сцены ее весь вечер трясло так, словно она пережила сильнейший испуг.
Изабель внимательно смотрит на Энни. Да, девчонка неглупа, она гораздо наблюдательнее, чем можно было подумать.
– Я понимаю, что ты имеешь в виду, – произносит Изабель. – Все это, конечно, трагедии, но дело не в этом. Суть в том, что это классические сюжеты, известные всем. Мне нужно, чтобы публика понимала основу моего замысла.
Говоря это, она осознает, что все меньше верит собственным словам, и, когда заканчивает, уже не верит им вовсе.
– Но то, что эти женщины – трагические персонажи, – продолжает Изабель, – совсем не значит, что они слабые люди.
– Разве сильный человек будет топиться? – возражает Энни. – Топиться при малейшем намеке на трудность?
– Это отнюдь не намек на трудность, – объясняет Изабель. – Это абсолютно безнадежная, безответная любовь.
Изабель понимает, что и эти ее слова неубедительны. Она вспоминает свои прежние работы – Джиневру, Беатриче. Что привлекало ее в этих сюжетах? Может быть, то, что сама она видела их примерно так, как их преподносили художники-мужчины вроде Роберта Хилла? Но, будучи женщиной, не должна ли она скорее протестовать против такой интерпретации, а не безропотно соглашаться с ней?
– Офелия… – произносит Энни.
– Офелия… – откликается Изабель, поднимаясь на ноги.
Пожалуй, это верная мысль – ее Офелия не станет топиться! Ее Офелия должна забыть Гамлета, ее перестанет волновать, откликнется он на ее любовь или нет. С какой стати ей вообще топиться? Почему она просто не может выбрать кого-нибудь другого, более подходящего?
Струйки солнечного света льются с ветвей над их головами, сливаются с водой ручья. Блики ложатся на шею Энни, словно отпечаток живого слова. Тонкая линия ключицы уходит в сторону, словно хрупкое и жесткое крыло маленькой птицы.
– Так что же мне делать, мэм? – спрашивает Энни.
– Офелия, – говорит Изабель, – может быть, ты вовсе не собираешься топиться?
– А как же отвергнутая любовь, мэм?
– Хорошо, пусть в данный момент ты как раз размышляешь, стоит ли топиться из-за Гамлета. Подумай об этом, – распоряжается Изабель, прячась за камерой, чтобы внимательней оценить свою модель и композицию в целом. – Кроме того, в этом ручье утопиться нельзя, он слишком мелкий. Он будет просто символизировать возможность подобного конца.
Изабель срывает в зарослях на берегу цветок дикой орхидеи и прицепляет его к воротнику Энни. Цветок свисает к обнаженной шее Энни, касается лепестками ее кожи. Сорванный цветок будет символизировать поражение.
– Опусти руку обратно в воду, – приказывает Изабель.
Энни опускает руку в ручей, перебирает пальцами, словно играя на фортепьяно. Ей понравилось решение Изабель оставить Офелию в живых. Она уверена, что Офелия вряд ли бы захотела топиться в такой прекрасный летний день. Неважно, как сильно она любила Гамлета. Кроме того, почему у нее не может быть и других чувств и мыслей, которые совсем не имеют к нему отношения? Энни наклоняет голову в сторону Изабель. «Я жива, – говорит она себе, ощущая биение воды о свою руку. – Я жива, и я – это все».
– Отлично! – произносит Изабель из-за камеры. – Замри и не двигайся…
Эльдон теперь все время думал об Энни Фелан; история, которую она рассказала ему во время прогулки, не шла у него из головы. С каждым днем эта история представлялась ему все яснее, он прекрасно помнил, как стояло солнце над полями и как падали тени, какие звуки доносились из зарослей терновника, пока они вместе шли по дороге. Когда она начала рассказывать ему о своей семье, о братьях, весь внешний мир исчез для него. Остался только ее голос и дорога, о которой она рассказывала, – дорога голодной смерти. Эльдону доводилось слышать много разных историй о бедствиях ирландцев во время голода. Эти события казались совсем недавними, потому что в Англии до сих пор оставалось еще много ирландцев, покинувших родину в то время. Многие из них были до сих пор больны голодной болезнью. Эльдон помнил, как однажды лет двадцать назад вместе со своим отцом на окраине Лондона он видел целые семьи просящих подаяние людей, слишком слабых для того, чтобы самостоятельно двигаться или говорить. Одни сидели кучками на земле, другие стояли, прислонившись к кирпичным стенам, без всякого выражения глядя куда-то в пространство потемневшими глазами. Он помнил голодающую женщину, ходившую по улицам с корзинкой и собиравшую собачий помет, который покупали кожевники. «Вот бедняга!» – сказал тогда его отец. Должно быть, это была единственная работа, которую она смогла найти.
Этим летом Эльдону довелось вспомнить о той давней ирландской катастрофе – в Англии разразилась эпидемия коровьей чумы. Зараза распространялась быстро, почти мгновенно, уничтожая целиком целые стада молочного скота. Возле каждой фермы были вырыты теперь огромные ямы, куда стаскивали туши павших животных – точно такие же общие могилы рыли двадцать лет назад в Ирландии, но только для людей. Тогда возле такой ямы часто стоял дежурный гроб с раздвижным дном: после отпевания дно вытаскивали, тело падало в яму, а гроб ждал следующего покойника. Голод. Картофельная парша. Парша – какое неуместное слово для всего, что тогда произошло! Кощунственное, словно пощечина, словно презрительная усмешка благополучного негодяя. Он не знал, какое слово было бы тут уместно, но только оно должно было пахнуть могилой, черной кровью, по капле уходящей в землю.
Эльдон и раньше помногу размышлял об ирландском голоде, о его колоссальной несправедливости. О том, что в этой катастрофе обвиняли самих ирландцев. Но никогда он не представлял себе этого бедствия столь очевидно и живо, как после рассказа Энни о дороге голодной смерти. Его мысль привычно работала в категориях картографических линий, предназначенных для того, чтобы соединять, подобно мостам, разные города, континенты и миры. Словно трансокеанские кабели, эти линии указывали возможные пути людям, верящим в нечто, существующее за пределами известных границ.
А теперь Энни как бы прочертила в его сознании линию, тянущуюся из ниоткуда в никуда. Ее родители, Феланы, растратили последние жизненные силы, строя дорогу, по которой никто никогда не пройдет. Минует сотня лет, и эта дорога станет невидимой, станет просто едва заметной линией, где трава растет чуть ниже, чем вокруг. Безусловно, работа на такой дороге попросту равнозначна более быстрому, чем в других условиях, концу. Эта дорога воплощает собой безысходность.
Эльдон остановился перед своим широким дубовым столом, не видя карты, которая сейчас на нем лежала. Перед его взором снова и снова вставала дорога голодной смерти, он чувствовал, как тяжелы были лопаты в руках людей, каждой клеточкой ощущавших бессмысленность всего этого предприятия. Бессмысленность работы, металлическим привкусом присохшую к языку.
Эта линия, протянувшаяся в его мозгу из бесконечности в бесконечность, намного ярче, чем осторожные, продуманные контурные линии на его картах. Это как след от резкого и сильного взмаха карандаша, оставленный на абсолютно чистом, белом листе.
Пожалуй, древние картографы поступали правильно, отмечая на карте как то, что им было известно достоверно, так и то, что только хотели бы считать реальностью. Чудовищ в океанах, несуществующие острова, населенные псоглавцами, ветры в виде ангелов с человеческими лицами. Воображаемое в чем-то сильнее реальности, ведь это часть тебя самого. Ты сам.
Теперь Эльдон уже знал наверняка, что не будет делать геологической карты мира. Он хочет вернуться к древним картам, включить в свою карту плоды воображения ранних картографов. Горные цепи, напоминающие кусочки веревок. Направление на восток, отмеченное изображением Святого Креста. Объединить древние и современные методы картографии. В древних картографических схемах с их иными мерами длины, чем нынешние выверенные морские и сухопутные мили, и другими системами координат, непохожими на нынешние регулярные широты и долготы, было что-то более душевное и человечное. Однажды он видел карту Великих американских озер, начерченную французскими монахами-иезуитами в 1671 году. За единицу длины они использовали один гребок каноэ, и их карта оставалась непревзойденной по точности на протяжении почти ста пятидесяти лет. Вот как ощущается расстояние – количеством ритмических движений весла, загребающего воду. Мили, ставшие бесчисленными движениями плеча, болью в натертых веслом руках.
Эльдон подумал, что надо бы съездить в Лондон. Встретиться с Дунстаном, разъяснить ему свои идеи. Эльдон не сомневался, что сможет убедить его в том, что самая приблизительная карта может оказаться вместе с тем и самой точной. Он приведет нужные примеры, включая самого себя. Первый пример – это карта мира Петра Апиана, созданная в 1530 году, карта, уникальная тем, что Земля на ней имела форму сердца. Эта карта объединяла наземный и подземный мир в одно. Разве, стоя перед такой картой, можно было усомниться, что живешь именно в таком мире? Увидав эту карту впервые, Эльдон был потрясен так, что сердце замерло у него в груди – насколько хрупким и одновременно бесконечным представал на ней мир с его эллипсами океанов.
Энни продолжала потихоньку брать книги из библиотеки Эльдона. Ночами она со свечой в руке незаметно пробиралась туда по коридору и всегда возвращала на место прочитанную книгу прежде, чем взять следующую. Ей очень не хотелось быть пойманной, поэтому она никогда не оставляла книги в спальне из страха, что Тэсс случайно обнаружит ее и ей придется давать объяснения. В этом случае ей неизбежно придется лгать, а этого ей тоже совсем не хотелось. Поэтому она прятала книги в комнате с детскими вещами, куда – не сомневалась в этом – никто никогда не зайдет. Там она читала, скрючившись на полу между двумя детскими колясками, и, когда заканчивала чтение, прятала книгу под матрасом в одной из них. Иногда, если у нее вдруг образовывался перерыв между делами, она забегала туда и днем, но главным образом ей приходилось читать ночью. Это было лучше, чем засыпать и каждый раз видеть страшный сон, оставляющий после пробуждения пустое и болезненное чувство.
Энни не пыталась каким-либо образом упорядочить свое чтение. Здешняя библиотека была настолько больше и разнообразнее дважды перечитанной ею небольшой библиотеки настоятеля их прихода на Портмен-сквер, что она просто не могла не воспользоваться этим преимуществом. Она сознательно старалась, чтобы ее чтение было как можно более разнообразным.
Кое-что в этой библиотеке, однако, огорчало ее. Почти все эти книги говорили о дальних странствиях, описывали далекие земли. Это было не случайное собрание книг, а хорошо организованный запас сведений, необходимых исследователю для подготовки экспедиции. Она помнила, что рассказал ей мистер Дашелл о своем неосуществимом желании стать путешественником. Целая стена книг, словно замерших в готовности служить страсти, которой не суждено осуществиться, – от этого веяло печалью.
Этой ночью, устроившись на своем обычном месте между колясками, Энни принялась за второй том объемистого четырехтомного толкового словаря Сэмюэля Джонсона – первый том она проглотила неожиданно быстро. Книга тяжелым камнем давила ей на колени, свеча у ее ног трещала, еле горела в пыльном воздухе комнаты. Но, отгоняя прочь тяжелые сны, чтение неожиданно облекло в словесную форму увиденное в ту пору, когда она младенцем лежала на краю дороги. То, чего из-за малолетства не сохранила ее зрительная память. Чему ей верить теперь?
Энни открыла словарь на статье «Сердце». «Основная часть, жизненно важная часть, сильнейшая или наиболее действенная часть чего-либо», – гласило объяснение, а ниже страницы было еще: «Внутренняя суть любой вещи».
Эльдон и Роберт Хилл выпивали в лондонском клубе Роберта. Назавтра Эльдону предстояло идти к Дунстану, и сегодня весь день он сам не свой бегал по улицам города, репетируя про себя свою завтрашнюю речь. Сейчас, сидя за столиком напротив Роберта, Эльдон попытался испробовать на нем свои аргументы.
– Чепуха, – ответил Роберт, прихлебнув бренди из стакана и вытягивая ноги в сторону камина, разожженного, потому что этот летний день был сумрачным и прохладным.
– Но все так и есть, – возразил Эльдон. – Неужели ты не видишь? Все дело в Хрустальном дворце![2]2
Хрустальный дворец – здание, возведенное в Лондоне для размещения экспозиции Первой всемирной торгово-промышленной выставки 1852 года. Стены и крыша здания были сделаны из листового стекла, а полы и несущие конструкции – из литого чугуна. Здание имело несколько этажей, периметр его составлял примерно 250 х 550 метров. Первоначально оно было установлено в Гайд-парке, но после окончания выставки было перенесено на окраину Лондона, где еще долгие годы продолжало функционировать, однако в 1936 году было повреждено пожаром, его разобрали и более уже не восстанавливали.
[Закрыть]
Постройкой Хрустального дворца Англия того времени продемонстрировала всему миру свою индустриальную мощь и превосходство, так как в то время сооружение подобного здания было не под силу ни одному другому государству. Хрустальный дворец произвел большое впечатление на современников, в том числе на Н.Г. Чернышевского. По сути дела, это была первая в мировой истории постройка, которая еще задолго до Эйфелевой башни открыла новую, «индустриальную» эру в архитектуре.
– Чепуха, – повторил Хилл. – Хрустальный дворец! О, то был настоящий триумф!
– Хорошо, – сказал Эльдон, несколько уязвленный несговорчивостью своего друга. – Но я не вижу причины, почему одна и та же вещь не может быть одновременно и триумфом, и бедствием.
Эльдон был убежден, что именно Большая выставка, впервые состоявшаяся в Гайд-парке в 1851 году и с тех пор ежегодно повторявшаяся в Хрустальном дворце в южной части Лондона, виновна в том, что Дунстан захотел изготовить тематическую карту мира.
– Товары всего мира стали доступны обывателю и посредственности, – заявил Эльдон. – Кто, раз увидев тончайший китайский шелк, не захочет приобрести его для себя?
– Это всего лишь рынок, – ответил Роберт. – Но только в больших, чем обычно, масштабах.
– О нет, здесь другое, – упорствовал Эльдон. – Средний англичанин раньше никогда не видел большинства этих товаров и понятия не имел о местах, откуда их привезли.
Он вспомнил изящные очертания этого здания из стекла и стали, комнаты, полные драгоценных украшений, тканей и роскошной мебели. Турецкие ковры, вазы из нефрита, австрийские кровати из темно-полосатого палисандра.
– Выставка показала, что мир стал меньше, – сказал Эльдон. – Она дала им почувствовать его своей собственностью.
Если это и так, то Роберт Хилл не находит в этом абсолютно ничего предосудительного. Он пошевелил носками своих ботинок, посмотрел на них краем глаза. Элегантным движением поболтал бренди в своем стакане. В свое время он выставлял в Хрустальном дворце свои работы. Вспоминая, как удачно были развешаны и как хорошо смотрелись его картины в этих великолепных, насквозь пронизанных светом стеклянных комнатах, он испытал острый приступ удовольствия.
– Могу понять тебя в том смысле, что чрезвычайно трудно делать работу, которая тебе не нравится.
Это были все слова симпатии и сочувствия, которые у него нашлись для Эльдона. Готовясь к завтрашней встрече со своим издателем, его молодой друг был, конечно, сам не свой, но он-то, Роберт Хилл, сейчас чувствовал себя прекрасно и комфортно, смакуя бренди и свой успех в Хрустальном дворце. Конкретность удовольствия, которое он сейчас испытывал, не позволяла ему воспарить в те абстрактные сферы, где обитал Эльдон, – области слишком высокой морали и слишком возвышенных эмоций. Его молодой друг всегда словно в душевной горячке. Почему он не может просто жить и радоваться? Роберт печально вздохнул.
Отвернувшись, Эльдон смотрел на огонь в камине – посещение этого клуба не принесло ему никакого облегчения. Лучше было бы походить в одиночестве по Чипсайду, продумывая новые аргументы за то, что сердцеобразная карта мира нужнее карты золотых копей. Он искоса взглянул на своего друга: его изысканная внешность, холеное лицо, добротная и модная обувь, отлично сшитый свободный летний костюм источали благополучие. «Настоящий денди», – осуждающе подумал Эльдон. Как-нибудь он поговорит об этом с Изабель. Или нет. Пламя в камине выстрелило вверх снопом искр, словно разразилось аплодисментами. Лучше он обсудит это с Энни Фелан.
Эльдон и Роберт пришли в Королевскую академию, где готовилась его новая выставка. Роберт порхал по галерее, раздавая указания развешивавшим картины рабочим, которые, впрочем, и сами прекрасно знали свое дело. Эльдон стоял в отдалении, рассматривая те из картин, которые уже заняли предназначавшиеся им места. Сейчас, когда после долгого перерыва ему довелось увидеть искусство его соседа, он понял, насколько оно великолепно и вместе с тем опасно.
Роберт Хилл всегда зависел от своей музы, которой неизменно оказывалась какая-нибудь молодая привлекательная женщина. Он находил ее, писал с нее картину, спал с ней и затем от нее избавлялся. Когда он хотел соблазнить какую-либо женщину, он приглашал ее позировать, рассчитывая, что внимание, которое он уделит ей в процессе работы, пробудит в ней взаимность.
Три картины, которые Эльдон сейчас рассматривал, были вдохновлены последней из таких муз. На первой она была представлена Еленой Прекрасной – напряженное тело и соски просвечивают сквозь свободную кисею, ярко-рыжие волосы распущены по плечам. Взгляд, полный притворной скромности, устремлен на лежащее на столе яблоко, красное и полупрозрачное, словно светящееся страстью. На второй та же самая модель была изображена в виде Медузы – там она пристально смотрела прямо на зрителя, словно никак не могла поверить, что Роберт способен изобразить ее с клубком змей на голове, что, уже устав от ее внимания, он хочет придать ей чудовищный и отталкивающий вид.
Эльдон невольно залюбовался, с каким мастерством и правдоподобием Роберт сумел передать змеиную плоть. Змеи были как живые, хотелось отойти от них подальше – не дай бог одна из них сделает внезапный выпад и нанесет смертоносный укус.
К моменту создания третьей картины Роберт, без сомнения, окончательно устал от этой музы. Может быть, его уже вдохновляла какая-нибудь другая, новая. На сей раз картина изображала утопившуюся Офелию, бесцветным призраком лежащую на дне пруда. Сквозь слой воды просматривались черты ее блеклого, как зимняя луна, лица, плотно закрытые глаза; бледные распущенные волосы причудливо переплелись с водорослями. Яркие, живые краски цветов на берегу подчеркивали бесцветность ее поражения. Когда-то она была такой же, как они, яркой и нужной художнику. Теперь все прошло. Она мертва и больше не нужна.








