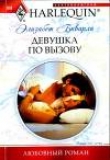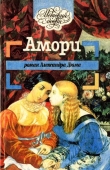Текст книги "Импровизатор"
Автор книги: Ханс Кристиан Андерсен
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Глава IV. ДЯДЮШКА ПЕППО. НОЧЬ В КОЛИЗЕЕ. ПРОЩАНИЕ С РОДНЫМ ДОМОМ
Когда мы вернулись в Рим, в домик моей матери, был поднят вопрос о том, что, собственно, следовало делать со мной. Фра Мартино был за то, чтобы меня отправили в Кампанью, к родителям Мариучии, почтенной пастушеской чете; мои двадцать скудо были ведь для них целым богатством, и они приняли бы меня как родного. Одно только смущало его: я наполовину уже принадлежал церкви, а отправившись в Кампанью, я бы уже не мог служить певчим в церкви капуцинов! Федериго же вообще стоял за то, чтобы меня поместили в какое-нибудь почтенное семейство в самом Риме; ему не хотелось, сказал он, чтобы из меня вышел грубый невежественный крестьянин. Пока фра Мартино советовался с братией в монастыре, неожиданно прискакал на четвереньках дядюшка Пеппо, услышавший о смерти матушки и о доставшихся мне двадцати скудо. Они-то главным образом и привлекли его сюда. Он заявил, что в качестве единственного моего родственника берет меня к себе, что и я, и все имущество, оставшееся после матушки, так же, как и двадцать скудо, принадлежат теперь ему! Мариучия принялась уверять его, что она и фра Мартино уже устроили все к лучшему, и дала понять Пеппо, что ему, калеке-нищему, впору заботиться о самом себе, а в это дело соваться нечего!
Федериго вышел из комнаты, и двое оставшихся высказали теперь друг другу свои эгоистичные побуждения, заставлявшие их заботиться обо мне. Дядюшка Пеппо излил на Мариучию весь запас своей желчи, а девушка наступала на него, как фурия. Ей, впрочем, не было дела ни до него, ни до меня, ни до чего бы там ни было! Пусть он возьмет да переломит мне пару ребер, сделает из меня такого же калеку и нищего, который будет собирать гроши в его суму! Пусть он возьмет меня, но деньги она отдаст фра Мартино; фальшивым глазам Пеппо не удастся и взглянуть на них! Пеппо, в свою очередь, грозил проломить ей голову своей дощечкой, пробить в ней дыру величиной с площадь дель Пополо! Я стоял между ними и плакал. Мариучия оттолкнула меня от себя, а Пеппо потащил к дверям, говоря, что я должен идти за ним, держаться его одного, а если он возьмет на себя такую обузу, то вправе получить и награду! Римский сенат сумеет защитить права честного гражданина! И не успел я опомниться, как он вывел меня из дверей на улицу, где уже дожидался нас оборванный мальчишка с ослом. Для больших прогулок, а также если дело было к спеху, дядюшка бросал свои дощечки, и садился на осла, крепко обхватывая его своими сухими ногами; осел и всадник составляли тогда как бы одно целое. Пеппо посадил меня впереди себя, мальчишка стегнул осла, и мы поскакали во всю прыть. Пеппо на свой лад ласкал меня во все время пути.
– Видишь, мальчик! – говорил он. – Разве не чудесный у нас осел? Ишь как он летит! Словно рысак по Корсо! Тебе будет у меня хорошо, как ангелу на небе, стройный ты мой мальчуган! – И затем он принимался клясть Мариучию.
– Где ты украл такого хорошенького мальчугана? – спрашивали его знакомые, мимо которых мы проезжали, и моя история рассказывалась и повторялась чуть не на каждом перекрестке. Торговка водой с лимонными корками дала нам за этот длинный рассказ целый стакан своей воды, и мы распили его пополам. Едва мы успели добраться до дому, как солнце уже село. Я не говорил ни слова, только закрывал лицо руками и плакал. Пеппо свел меня в каморку рядом с большой комнатой и указал мне мою постель – ворох маисовой шелухи, прибавив, что я, вероятно, не голоден и уж тем меньше хочу пить: мы ведь только что выпили с ним целый стакан чудесной лимонной воды! Потом он потрепал меня по щеке, улыбаясь своей гадкой улыбкой, которая всегда так пугала меня, и спросил, много ли серебряных монет было в кошельке, брала ли из них Мариучия, чтобы заплатить веттурино, и что сказал слуга, передавая мне деньги. Я не мог ответить ни на один из этих вопросов и только плакал, спрашивая, в свою очередь, – разве я останусь тут навсегда, разве я не вернусь завтра домой?
– Конечно, конечно! – ответил он. – А теперь засни, но не забудь сначала прочесть «Ave Maria»! Когда человек спит, дьявол бодрствует! Огради себя крестным знамением – это железная решетка, которая защитит тебя от рыкающего льва! Молись хорошенько и проси Мадонну наказать фальшивую Мариучию, обидевшую тебя, невинного младенца! Положись теперь на меня одного! Ну, спи! Отдушину я оставлю открытой; свежий воздух – пол-ужина! Не бойся летучих мышей! Они не влетят сюда, пролетят мимо, бедные твари! Спи сладко, мой ангелочек! – И он закрыл за собою дверь.
Долго ходил он по своей комнате, прибирая что-то; потом я услышал там чужие голоса, а сквозь щелочку увидел и свет лампы. Я приподнялся, но как можно осторожнее, потому что сухая солома сильно шуршала, и я боялся, что на этот шум войдут ко мне. Сквозь щель я увидел, что оба фитиля лампы были зажжены, на столе лежал хлеб и коренья, а бутылка с вином гуляла вокруг стола из рук в руки. За столом сидела целая компания нищих калек. Я сразу узнал их, хотя они смотрелись теперь совсем не так, как обыкновенно. Умирающий от лихорадки Лоренцо болтал без умолку и громко смеялся, а днем я всегда видел его распростертым на траве на холме Пинчио; обвязанная голова его опиралась тогда о древесный ствол, а губы еле шевелились; жена его, указывая на несчастного страдальца, взывала к состраданию прохожих. Франчиа, беспалый детина, барабанил обрубками пальцев по плечу слепой Катарины и вполголоса напевал песню о «Cavaliere Torchino». Двое-трое остальных сидели ближе к дверям и в тени, так что я не мог узнать их. Сердце у меня так и стучало от страха; я услышал, что они говорят обо мне.
– А годится мальчишка на что-нибудь? – спросил один. – Есть у него какой-нибудь изъян?
– Нет, Мадонна не была к нему так милостива! – сказал Пеппо. – Он строен и красив, как барский ребенок.
– Плохо! – сказали все, но слепая Катарина прибавила, что ничего не стоит немножко попортить меня, чтобы я мог снискивать себе хлеб земной, пока Мадонна не удостоит меня небесного.
– Да, – сказал Пеппо, – была бы умна сестра моя, мальчишка давно нашел бы свое счастье! У него такой голос, что у твоих ангелов! Он прямо рожден папским певчим! Из него вышел бы такой певец!
Они заговорили о моем возрасте, о том, что еще может случиться и что можно предпринять для моего счастья. Я не понял хорошенько, что такое они хотели сделать со мною, но ясно видел, что они замышляли дурное, и задрожал от страха. Как мне вырваться оттуда? Вот чем были заняты все мои мысли. И куда бежать? Над этим я, впрочем, не задумывался. Я отполз от дверей, взлез на какой-то чурбан, приподнялся к самой отдушине и высунулся. На улице не было видно ни души; все двери были заперты. Мне предстояло сделать большой прыжок вниз, и я не решался на него, но вдруг мне показалось, что за ручку двери взялись... Кто-то хотел войти ко мне! Страх охватил меня, я разом скользнул по стене вниз и тяжело упал на землю и мягкий дерн.
Живо вскочил я и побежал по узким извилистым улицам куда глаза глядят; навстречу мне попался всего один прохожий, громко распевавший песню и постукивавший палкой о камни мостовой. Наконец я очутился на большой площади, залитой лунным светом. Я сразу узнал местность: это был римский Форум, или Коровья площадь, как мы звали ее.
Луна освещала заднюю стену Капитолия, похожую на отвесную скалу. На ступенях высокой лестницы, ведущей к арке Септимия Севера, растянулись несколько спящих нищих, закутанных в широкие плащи. Высокие колонны – остатки древних храмов – отбрасывали длинные тени. Никогда еще не бывал я тут после заката солнца; все казалось мне таким таинственным. Я споткнулся о верхушку разбитой мраморной колонны, скрывавшуюся в высокой траве, и упал. Поднявшись, я устремил взгляд на развалины дворца цезарей; густой плющ, одевавший их, придавал им еще более мрачный вид; высокие кипарисы как-то зловеще тянулись к небу, и мне стало еще страшнее. Но в траве, между поверженными колоннами и кучами мраморного щебня, лежали коровы, пасся мул, и это слегка ободрило меня: здесь все-таки были живые существа, которые не сделают мне ничего дурного!
При свете луны было светло почти как днем; все предметы выступали так явственно. Вдруг я услышал чьи-то шаги... Что, если это меня ищут? В ужасе шмыгнул я в развалины огромного Колизея, лежавшего передо мною, будто целая цепь скал. Я остановился между двумя рядами колонн, огибавших половину всего строения и будто воздвигнутых только вчера – так хорошо они сохранились. Холодно здесь было, мрачно!.. Я сделал несколько шагов вперед, но тихо-тихо – меня пугал даже шум собственных шагов. Невдалеке виднелся костер, разведенный на земле; возле него вырисовывались тени трех человек; крестьяне ли -это расположились тут на ночлег, чтобы не ехать ночью через пустынную Кампанью, или солдаты-караульные, или, наконец, разбойники? Мне показалось, что я слышу звяканье их оружия, и я тихонько отступил в глубь строения, где над высокими колоннами уже не было другого свода, кроме густой сети ветвей и вьющихся растений. Странные тени рисовались на высоких стенах; квадратные плиты их во многих местах разошлись и, казалось, держались еще на своих местах только благодаря густо опутавшим их стеблям плюща.
Вдали, в среднем проходе, двигались между колоннами люди, вероятно, путешественники, вздумавшие осмотреть эти достопримечательные руины при лунном свете. В числе их была одна дама, вся в белом. Я и теперь еще ясно вижу перед собой эту странную картину: люди двигались, скрывались между колоннами и опять показывались, освещенные луной и красным огнем факелов. Небо было самого густого синего цвета, а кусты и деревья темнели черным бархатом; каждый листочек дышал ночью. Я долго следил взглядом за иностранцами, после же того, как они скрылись из виду, за красным отблеском их факелов... Наконец исчез и этот, и все вокруг опять погрузилось в мрак и мертвую тишину.
Я уселся на верхушку разбитой колонны, что валялась в траве позади одного из деревянных алтарей, расположенных тут один возле другого и изображавших шествие Христа на Голгофу. Камень был холоден как лед, голова моя горела, по телу пробегал лихорадочный озноб. Сон бежал от меня, я лежал и припоминал все, что слышал когда-то о древнем Колизее, о пленных иудеях, которые должны были, по повелению могущественного римского цезаря, воздвигать эти огромные каменные глыбы, о диких зверях, боровшихся тут на арене друг с другом, а часто и с людьми, и о зрителях, сидевших на каменных ступенях, подымавшихся от земли до самых верхних колонн.
В кустах позади меня зашуршало; я взглянул вверх, и мне показалось, что там что-то шевелится. Воображение мое принялось населять окружавший меня мрак бледными, мрачными образами, работавшими над постройкой здания. Я явственно слышал удары их орудий, воочию видел этих исхудалых бородатых евреев, вырывавших траву и кусты и громоздивших камень на камень до тех пор, пока сызнова не воздвигли гигантское здание... Передо мною волновалось целое море голов, двигалось какое-то бесконечное живое гигантское тело...
Затем я увидел весталок в длинных белых одеяниях, блестящий двор цезарей, голых, истекающих кровью гладиаторов; вокруг раздавался шум и рев... Это неслись со всех сторон стаи тигров и гиен; они пробегали мимо меня, я ощущал на своем лице их горячее дыхание, видел их огненные глаза и все крепче и крепче прижимался к своему камню, моля Мадонну о спасении, но дикий вой и шум вокруг меня все усиливались. Сквозь эти бешеные стаи я различил, однако, святой крест, который до сих пор еще стоит здесь и к которому я всегда набожно прикладывался мимоходом, – напряг все свои силы, дополз до него и еще успел ясно почувствовать, что руки мои обвились вокруг него, но затем все как будто рухнуло вокруг меня, все смешалось: стены, люди, звери... Я лишился сознания!
Когда я опять открыл глаза, лихорадка моя уже прошла, но я совсем ослабел, весь был точно разбит.
Я действительно лежал на ступенях перед большим крестом. Окинув взором всю окружающую обстановку, я не нашел в ней уже ничего страшного: на всем лежал отпечаток величавой торжественности; в кустах заливался соловей. Я стал думать о дорогом младенце Иисусе, Чья мать была теперь и моею, – другой у меня ведь не было, – опять обвил руками крест, прислонился к нему головою и скоро заснул подкрепляющим сном.
Я проспал, должно быть, несколько часов; разбудило меня пение псалмов. Солнце светило на верхнюю часть стены, капуцины с зажженными свечами в руках ходили от алтаря к алтарю и пели «Кирие элейсон». Вот они подошли к кресту, возле которого лежал я, и я узнал между ними фра Мартино. Он наклонился ко мне, мой расстроенный вид, моя бледность и то, что я находился здесь в такой час, испугали его. Как я объяснил ему все, не знаю, но мой страх перед Пеппо, моя беспомощность и заброшенность достаточно говорили за меня. Я крепко схватился за коричневую рясу монаха и молил его не покидать меня; вся братия, казалось, приняла во мне живое участие; все они ведь знали меня, я бывал у них в кельях и пел с ними перед святыми алтарями.
Как же я был рад, очутившись с фра Мартино в монастыре, как скоро забыл все свои злоключения, сидя в его келейке, обклеенной по стенам старинными лубочными картинками, и глядя на апельсиновое дерево, протягивавшее свои зеленые душистые ветви прямо в окно! Вдобавок фра Мартино пообещал мне, что я больше не вернусь к Пеппо.
– Нельзя доверить мальчика нищему калеке, который день-деньской валяется на улице да клянчит милостыню! – сказал он другим монахам.
В полдень он принес мне на обед кореньев, хлеба и вина и сказал мне так торжественно и прочувствованно, что сердце мое затрепетало:
– Бедный мальчик! Будь твоя мать жива, нам бы не пришлось расставаться: церковь укрыла бы тебя, и ты взрос бы в ее тиши, под ее защитой! Теперь же ты будешь брошен в бурное житейское море, будешь носиться по нему на шаткой доске! Но не забывай своего Спасителя и Небесной Девы! Крепко держись их! У тебя во всем свете нет никого, кроме их!
– Куда же я денусь? – спросил я, и он сказал, что я отправлюсь в Кампанью к родителям Мариучии, советовал мне почитать их, как своих родителей, слушаться их во всем и никогда не забывать молитв и всего того, чему он учил меня. Под вечер к воротам монастыря явилась Мариучия со своим отцом. Фра Мартино вывел меня к ним. Одеждою-то, пожалуй, и Пеппо перещеголял бы этого пастуха, которому сдавали меня на руки. Разорванные, запыленные кожаные сапоги, голые колени и остроконечная шляпа с воткнутым в нее цветком вереска – вот что прежде всего бросилось мне в глаза. Он опустился на колени, поцеловал руку фра Мартино и сказал, что я прехорошенький мальчик и что он и жена его будут делиться со мной последним куском хлеба. Мариучия вручила ему кошелек со всем моим богатством, и мы все вошли в церковь. Все сотворили про себя молитву; я тоже. опустился на колени, но не мог молиться – глаза мои все искали знакомые образа: Иисуса, плывущего по морю высоко над церковными дверями, ангелов на запрестольном образе и дивного архангела Михаила. Даже черепам в венках из плюща хотел я сказать последнее прости! Фра Мартино благословил меня и подарил мне на прощанье книжечку с рисунком на обложке: «Modo di servire la sancta messa».
Затем мы расстались. Проходя по площади Барберини, я не мог не бросить прощального взгляда на домик, в котором жил с матушкой, все окна были отворены, горницы ожидали новых жильцов.
Глава V. КАМПАНЬЯ
Итак, я должен был теперь поселиться в огромной степи, окружавшей старый Рим. Иностранцу, поклоннику искусства и старины, являющемуся из-за Альп и впервые созерцающему волны Тибра, эта высохшая пустыня кажется, пожалуй, развернутой страницей всемирной истории, а разбросанные по ней отдельные холмы священными письменами или целыми главами этой истории; художник также может идеализировать ее: нарисует одинокий остаток разрушенного водопровода, пастуха, сидящего возле стада овец, а на первом плане тощий репейник, и все говорят: «Какая красивая картинка!» Но совсем иными глазами смотрели на эту огромную равнину мой спутник и я. Спаленная зноем трава, нездоровый летний воздух, постоянно приносящий жителям Кампаньи лихорадку и злокачественные болезни – вот какие теневые стороны преобладали в воззрении моего провожатого. Для меня, впрочем, картина эта представляла все-таки нечто новое, и я любовался красивыми горами, расцвеченными всеми оттенками лилового цвета и окаймлявшими равнину с одной стороны, любовался дикими буйволами и желтым Тибром, по берегам которого тащились длиннорогие быки под тяжелым ярмом, двигавшие против течения барки. Мы шли по тому же направлению.
Кругом, куда ни взглянешь, лишь низкая пожелтевшая трава и высокий полузавядший репейник. Мы прошли мимо креста, воздвигнутого над могилой убитого; тут же висели и отрубленные рука и нога убийцы. Я испугался, тем более что крест этот находился неподалеку от моего нового жилища. Жилищем же этим служила ни более ни менее как старая полуразрушившаяся древняя гробница, которых в этой местности такое множество. Пастухи Кампаньи в большинстве случаев и не ищут себе иных помещений: гробницы доставляют им нужный кров и защиту, а часто даже и удобства, стоит только засыпать некоторые углубления, заделать кое-какие отверстия, набросать тростниковую крышу и – жилье готово. Наше лежало на холме и было двухэтажное. Две коринфские колонны у узкого входа свидетельствовали о древности постройки; три же широких каменных столба – о позднейшей переделке. Может быть, в средние века гробница играла роль крепости. Дыра в стене над дверями заменяла окно; половина крыши была из камыша и сухих ветвей, другая из живого кустарника; роскошные каприфолии свешивались над треснувшей стеной.
– Ну, вот и пришли! – сказал Бенедетто, и это были первые его слова за все время пути.
– Так мы тут будем жить? – спросил я, поглядывая то на мрачное жилье, то назад, на обрубленные члены разбойника. А Бенедетто, не отвечая мне, принялся звать жену:
– Доменика! Доменика!
Я увидел пожилую женщину, вся одежда которой состояла из одной грубой рубахи; ноги и руки были голы, а волосы свободно падали на спину. Она осыпала меня поцелуями и ласками, и уж если сам Бенедетто был молчалив, то она зато говорила и за себя, и за него. Она назвала меня маленьким Измаилом, посланным сюда, в пустыню, где растет только дикий репейник.
– Но мы не заморим тебя жаждой! – продолжала она. – Старая Доменика будет для тебя доброй матерью вместо той, что молится теперь за тебя на небе! Постельку я тебе уж приготовила, бобы варятся, и мы все трое сядем сейчас за стол. А Мариучия не пришла с вами? А ты не видел святого отца? А не забыл ты привезти ветчины, медных крючков и новый образок Мадонны для дверей? Старый-то мы зацеловали до того, что он почернел весь! Нет, не забыл? Ты ведь у меня молодец, старина, все помнишь, обо всем думаешь, Бенедетто!
Продолжая сыпать словами, она ввела меня в узкое пространство, называвшееся горницей; впоследствии оно казалось мне, впрочем, огромным, как зала Ватикана.
Я в самом деле думаю, что это жилище имело большое влияние на развитие моего поэтического воображения; эта маленькая площадка была для моей фантазии то же, что давление для молодой пальмы: чем больше ее гнетет к земле, тем сильнее она растет. Жилище наше, как сказано, служило некогда фамильной усыпальницей и состояло из большой комнаты с множеством небольших ниш, расположенных одна возле другой в два ряда; все были выложены мозаикой. Теперь эти ниши служили для самых разнообразных целей: одна заменяла кладовую, другая – полку для горшков и кружек, третья служила местом для разведения огня, на котором варились бобы.
Доменика прочла молитву, Бенедетто благословил кушанье. Когда же мы насытились, старушка проводила меня наверх по приставной лестнице, проникавшей через отверстие в своде во второй этаж, где мы все должны были спать в двух больших, некогда могильных, нишах. Для меня была приготовлена постель в глубине одной, рядом с двумя связанными верхушками накрест палками, к которым было подвешено что-то вроде люльки. В ней лежал ребенок – должно быть, Мариучии. Он спал спокойно; я улегся на пол; из стены выпал один камень, и я мог через это отверстие видеть голубое небо и темный плющ, колебавшийся от ветра, словно птица. Пока я еще укладывался поудобнее, по стене пробежала пестрая, блестящая ящерица, но Доменика успокоила меня, говоря, что эти бедняжки больше боятся меня, чем я их, и не сделают мне никакого вреда. Затем она прочла надо мною «Ave Maria» и придвинула колыбельку к другой нише, где спала сама с Бенедетто. Я осенил себя крестом и стал думать о матушке, о Мадонне, о новых своих родителях и о руке и ноге разбойника, виденных мною неподалеку от дома, потом мало-помалу все спуталось в сонных грезах.
На следующий день с утра полил дождь, который и держал нас целую неделю взаперти в узкой комнате, где царил полумрак, несмотря на то что дверь стояла полуотворенной, когда ветер дул с нашей стороны.
Меня заставили качать малютку в парусиновой колыбели, а Доменика пряла и рассказывала мне о разбойниках Кампаньи, которые, впрочем, никогда не обижали их, пела мне священные песни, учила меня новым молитвам и рассказывала еще не известные мне жития святых. Обычную пищу нашу составляли лук и хлеб; она была мне по вкусу, но я ужасно скучал, сидя взаперти в тесной комнате. Чтобы развлечь меня, Доменика провела перед дверью канавку, извилистый Тибр в миниатюре, с такою же желтой и медленно текущей водой. Флот мой состоял из щепочек и камышинок, и я заставлял его плавать от Рима до Остии. Но если дождь уж чересчур усиливался, дверь приходилось запирать, и мы сидели тогда почти в потемках. Доменика пряла, а я припоминал красивые образа монастырской церкви, представлял себе Иисуса, проплывающего мимо меня на корабле, Мадонну, возносимую ангелами к облакам, и надгробные плиты с высеченными на них черепами в венках.
Когда же дождливое время года кончилось, небо целые два месяца сияло безоблачной лазурью. Мне позволили бегать на воле с тем только, чтобы я не подбегал слишком близко к реке: рыхлая земля обрыва легко могла осыпаться подо мною, говорила Доменика. Кроме того, возле реки паслись стада диких буйволов. Но именно дикость-то их и опасность и возбуждали мое любопытство. Мрачный взгляд животных, странный дикий огонь, светившийся в их зрачках, – все это вызывало во мне чувство сродни тому, что влечет в пасть змеи птичку. Их дикий бег, быстрота, превосходящая лошадиную, их битвы между собою, состязание равных сил – приковывали мое внимание. Я старался изобразить на песке виденные мною сцены, а для пояснения своих рисунков слагал песни, подбирал к ним мелодии и распевал их, к большому удовольствию Доменики, говорившей, что я – умница мальчик и пою, как ангел небесный.
День ото дня солнце палило все сильнее; целое море огненного света лилось на Кампанью. Стоячие гниющие воды заражали воздух, и мы могли выходить из дома только по утрам да вечерам; ничего такого не знавал я в Риме на холме Пинчио. Я помнил, каково там было в самую жаркую пору года, когда нищие просили не на хлеб, а на кружку холодной воды, помнил и наваленные грудами чудесные зеленые арбузы, разрезанные пополам и обнажавшие свою пурпуровую мякоть с черными зернышками... Губы сохли при этих воспоминаниях еще сильнее! Солнце стояло прямо над головой, и тень моя, казалось, старалась спрятаться от его лучей под мои ноги. Буйволы лежали на спаленной траве неподвижно распростертыми, словно безжизненными, массами или в бешенстве описывали по равнине большие круги. Вот когда душа моя прониклась представлением о мучениях путешественника в жгучей африканской пустыне!
В продолжение двух месяцев мы вели жизнь потерпевших крушение в океане и спасшихся на обломке судна. Ни одна живая душа не навещала нас. Все дела по дому справлялись ночью или ранним утром. От нездорового воздуха и нестерпимой жары у меня сделалась лихорадка, и негде было взять даже капли свежей воды для утоления жажды. Все болота высохли; тепловатая желтая вода Тибра еле-еле текла, сок в дынях был также совсем теплый, и даже вино, несмотря на то что хранилось между камнями и прикрывалось травою, было кисло и точно наполовину сварено. Хоть бы единое облачко на горизонте! И днем и ночью та же ясная лазурь. Каждое утро, каждый вечер молились мы о ниспослании дождя или свежего ветра, каждое утро, каждый вечер смотрела Доменика по направлению к горам – не покажется ли там облачко, но нет, лишь ночь, душная ночь приносила с собою хоть какую-нибудь тень; два долгих-долгих месяца дул только удушливый, знойный сирокко.
Наконец, и то только на восходе да при закате солнца, стало веять прохладой, но тупость и какое-то оцепенение, в которое погрузили все мое существо мучительная жара и скука, все еще держали меня в своих тисках. Мухи и другие докучливые насекомые, казалось вконец уничтоженные жарой, опять возродились к жизни, да еще в удвоенном количестве. Мириадами нападали они на нас и жалили своими ядовитыми жалами. Буйволы часто бывали сплошь покрыты этими жужжащими мириадами, набрасывавшимися на них, как на падаль. Доведенные до бешенства животные бросались в Тибр и барахтались в мутной воде. Истомившийся от летней жары римлянин, крадущийся по почти безжизненным улицам города вдоль самых стен домов, словно желая вдохнуть в себя жмущуюся к ним тень, не имеет все-таки и понятия о мучениях обитателя Кампаньи. Здесь дышишь серным, зачумленным воздухом; здесь насекомые, словно какие-то бешеные демоны, изводят обреченных жить в этой раскаленной печи.
В сентябре дни стали прохладнее, и однажды к нам явился Федериго. Он сделал несколько эскизов спаленной солнцем степи, срисовал и наше оригинальное жилище, крест на месте казни и диких буйволов, подарил мне бумагу и карандаш, чтобы и я тоже мог рисовать себе картинки, и пообещал, что в следующий раз, когда опять придет к нам, возьмет меня с собою в Рим: пора мне было навестить фра Мартино, Мариучию и всех моих друзей, а то они, кажется, совсем позабыли меня! Но и самого-то Федериго пришлось упрекнуть в том же.
Вот пришел и ноябрь, самое прекрасное время года в Кампанье. С гор веяло прохладой, и я каждый вечер любовался богатой, свойственной только югу игрою красок на облаках, которую не может, не рискует изобразить на своих картинах художник. Причудливые оливково-зеленые облака на желтоватом фоне казались мне плавучими островами из райского сада, а темно-синие, вырисовавшиеся на золотом небе, точно вершины пиний, казались горами в стране блаженства, у подножия которых играли и навевали крыльями прохладу добрые ангелы.
Однажды вечером я сидел и предавался своим мечтам, глядя на солнышко сквозь проколотый листок. Доменика нашла это вредным для глаз и, чтобы положить конец моей забаве, заперла дверь. Мне стало скучно, и я попросился погулять; Доменика позволила, я весело подпрыгнул, побежал к двери и распахнул ее, но в ту же минуту был сбит с ног. В дверь ворвался какой-то мужчина и быстро захлопнул ее за собою. Я едва успел взглянуть на его бледное лицо и услышать из его уст отчаянное воззвание к Мадонне, как вдруг дверь потряс такой удар, что из нее вылетело и обрушилось на нас несколько досок. В образовавшееся отверстие просунулась голова буйвола, яростно сверкавшего глазами.
Доменика вскрикнула, схватила меня за руку и прыгнула со мной на лестницу, которая вела во второй этаж. Смертельно бледный незнакомец растерянно огляделся кругом, заметил ружье Бенедетто, постоянно висевшее, на случай ночного нападения, на стене, и быстро схватил его. Раздался выстрел, и я увидел сквозь пороховой дым, как незнакомец бил прикладом животное по лбу. Буйвол не шевелился: голова его застряла в узком отверстии, и он не мог двинуться ни взад, ни вперед.
– Святые угодники! – были первые слова Доменики. – Что же это такое?! Ведь вы убили животное!
– Хвала Мадонне! – ответил незнакомец. – Она спасла мне жизнь! А ты был моим ангелом-спасителем! – прибавил он, обращаясь ко мне и взяв меня на руки. – Ты открыл мне дверь спасения! – Он был еще совсем бледен, и по лбу у него катились крупные капли пота.
По речи его мы сейчас же узнали, что перед нами не иностранец, а римский вельможа. Он объяснил нам, что занимается собиранием разных цветов и растений, оставил поэтому свой экипаж у моста Молле и отправился пешком вдоль Тибра, но тут наткнулся на буйволов. Один из них погнался за ним, и он спасся только благодаря тому, что наша дверь внезапно, как бы чудом каким, раскрылась в самую опасную минуту.
– Пресвятая Дева – заступница наша! – промолвила Доменика. – Это Она и спасла вас! А орудием вашего спасения она избрала моего Антонио! Она всегда благоволила к нему. Eccellenza еще не знает, что это за ребенок! Он читает и по-печатному, и по-писаному, а рисует как! Сразу можно угадать, что он хотел нарисовать. Он нарисовал и собор святого Петра, и буйволов, и толстого патера Амброзио! А голос у него какой! Послушал бы его Eccellenza! Папским певчим не поймать его ни в одной неверной нотке! И ко всему этому он такой добрый ребенок – на редкость! Я не стану хвалить его при нем, это вредно, но он стоит того!
– Но это ведь не ваш же сын? – спросил незнакомец. – Он еще так мал.
– А я так стара! – сказала она. – Правда, старое фиговое дерево не дает молоденьких отростков! У бедняжки нет ни отца, ни матери, никого на свете, кроме меня и Бенедетто! Но мы-то уж не расстанемся с ним – пусть даже выйдут все его денежки! Но, Пресвятая Дева! – прервала она себя самое и схватила за рога буйвола, из головы которого лилась в комнату кровь. – Надо же убрать животное! Не то ни нам не выйти, ни к нам не войти! Ах, Господи! Да он застрял так, что нам и не отделаться от него, пока не вернется Бенедетто! Только бы нам не досталось за убийство животного!
– Не беспокойтесь, матушка! – сказал незнакомец. – Я все беру на себя. Вы ведь, конечно, знаете Боргезе?
– Ах, ваше сиятельство! – сказала Доменика и поцеловала край его одежды, а он пожал ей руку, подержал в своих мою и наказал Доменике прийти завтра утром со мной в Рим, в палаццо Боргезе.
Моя приемная мать даже прослезилась от такой великой милости, как она сказала, и непременно пожелала показать Eccellenza все мои царапанья карандашом на разных клочках бумаги, которые она припрятывала, словно эскизы самого Микеланджело. Eccellenza пришлось пересмотреть все, что так радовало ее, и я был очень польщен, так как он улыбнулся, потрепал меня по щеке и сказал, что я маленький Сальваторе Роза.