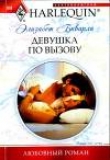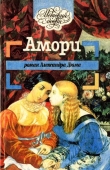Текст книги "Импровизатор"
Автор книги: Ханс Кристиан Андерсен
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
– Не говори об этом, Антонио! Правда, они обращаются с тобою по-своему, но так, по их мнению, и следует. Ты не знаешь, сколько хорошего рассказывала мне о тебе матушка! У всех у нас есть недостатки, Антонио! Ты сам... – тут она остановилась. – Да как у тебя хватило духу бросить в огонь свою прекрасную поэму?
– Туда ей и дорога! – ответил я. – Ее давно следовало сжечь! Фламиния покачала головой.
– Какой же свет недобрый! В моем милом, тихом монастыре, у сестер, было куда лучше!
– Да, – сказал я. – Я не так добр и невинен, как вы; мое сердце дольше помнит поднесенные ему капли горечи, нежели сладкий нектар!
– В моем милом монастыре было куда лучше, чем здесь, хотя вы все так любите меня! – часто повторяла мне Фламиния, когда мы были с нею одни. Я просто благоговел перед нею, видя и чувствуя в ней ангела-хранителя моей невинности, всех добрых свойств моей души. И если мне казалось, что теперь и другие домашние обходятся со мною мягче, бережнее прежнего, то я приписывал это единственно ее влиянию. Она охотно беседовала со мною о том, что меня больше всего занимало – о поэзии, божественной поэзии! Я рассказывал ей о великих поэтах и, увлекаясь сам, часто увлекал своим красноречием и ее. Она слушала меня, сложив руки и не сводя с меня глаз, – истое изображение ангела невинности.
– Какой же ты счастливец, Антонио! – говорила она мне. – Ты счастливейший из тысяч смертных, но все-таки страшно, по-моему, до такой степени принадлежать этому миру, как ты, как каждый поэт! Сколько добра можешь ты сделать своим словом, но и сколько зла! – Она удивлялась также, что поэты постоянно воспевают земные страсти и борьбу. Ей казалось, что пророк Божий, каким является поэт, должен славить только вечного Творца и небесные радости.
– Но поэт и славит Творца в Его творениях! – ответил я. – Поэт прославляет Господа, воспевая то, что Он сотворил для Своего прославления!
– Нет, это мне непонятно! – сказала Фламиния. – Я ясно чувствую то, что хочу сказать, но не могу выразить этого. Видишь ли, поэт должен, по-моему, воспевать только вечного Бога, то есть все божественное, что вложено в самого человека и во все мирозданье, должен направлять наши мысли на небесное, а не на земное! – Затем она спросила меня, каково быть поэтом и что я чувствую, когда импровизирую. Я, как мог, объяснил ей это душевное состояние. – Да, возникновение идей, мыслей я еще понимаю! – сказала она. – Они рождаются в душе, ниспосылаются Богом; это мы знаем все. Но я не понимаю, каким образом они выливаются в форму звучных стихов!
– Вам случалось, конечно, – сказал я, – заучивать в монастыре какой-нибудь красивый псалом или священную легенду в стихах. И вот часто, когда вы меньше всего думаете о том, какой-нибудь случай пробуждает в вас идею, имеющую связь с тем или другим стихотворением, которое разом и воскресает в вашей памяти. Вы можете в такую минуту сказать или написать его слово в слово; один стих, одна рифма ведет за собою следующие, раз только вы ясно представите себе заранее самую идею, смысл стихотворения. 1 о же самое бывает и с поэтом, и с импровизатором. По крайней мере – со мною. Часто мне кажется, что я вспоминаю что-то давно знакомое мне с детства, как колыбельная песня, и я только повторяю это.
– Как часто испытывала нечто вроде этого я сама! – вскричала Фламиния. – Но я никогда не могла ни уяснить себе, ни выразить своих чувств! Мною часто овладевает какая-то странная, необъяснимая тоска!.. Поэтому-то мне и кажется, что мое место совсем не здесь, в этом шумном свете. Вся окружающая жизнь кажется мне только каким-то странным сном. Вот почему я так и скучаю по моему монастырю, по моей тихой келейке. Не знаю, отчего это, Антонио, но там я так часто видела во сне своего Божественного жениха и святую Деву, а здесь так редко. Здесь я много думаю о земных радостях и блеске, о многом дурном. Я совсем уж не так добра, как была прежде, когда жила у сестер. И зачем меня так долго держат здесь? Знаешь что, Антонио, – тебе я могу открыться, – я уже не так невинна помыслами, как была прежде; я полюбила наряды и радуюсь, когда меня находят красивою! А в монастыре меня учили, что это занимает только порочных людей!
– Ах, если бы я был так невинен, как вы! – вздохнул я, целуя ее руку.
Она рассказала мне также, что помнит еще, как я танцевал с ней на руках и рисовал ей картинки.
– Которые вы, поглядев на них, рвали в клочки! – подхватил я.
– Да, это было нехорошо! Ты не сердился на меня за это?
– Люди разрывали в клочья лучшие создания моей души, да я и то не сердился! – сказал я, и она ласково погладила меня по щеке. Я привязывался к ней все больше и больше; ведь все, кроме нее, отталкивали меня от себя, она одна принимала во мне сердечное участие.
Вся семья переехала на два летних месяца в Тиволи. Взяли и меня; вероятно, это устроила Фламиния. Чудная природа, роскошные оливковые рощи и шумные водопады произвели на меня такое же сильное впечатление, как море, когда я увидел его впервые из Террачины. Я как будто ожил вдали от Рима и сожженной зноем Кампаньи; свежий воздух и вид гор, покрытых темными оливковыми рощами, обновили в моей душе впечатления, вынесенные мною из Неаполя. Фламиния охотно каталась со своей горничной на мулах по долине близ Тиволи; мне было позволено сопровождать их. Фламиния очень любила природу, и мне пришлось набрасывать для нее на бумагу виды живописной местности: бесконечную Кампанью с вырисовывающимся на горизонте куполом храма святого Петра, горные склоны, покрытые оливковыми рощами и виноградниками, и городок Тиволи, расположенный на высокой скале, из-под которой с шумом и пеной низвергались в бездну водопады.
– Глядеть отсюда – весь город кажется построенным на отдельных каменных глыбах, которые вода скоро снесет! – сказала Фламиния. – А в городе-то и не думаешь об этом, а прыгаешь себе над открытой могилой!
– Так всегда! – ответил я. – Да и счастье, что наша могила, скрыта от нашего взора. Эти шумящие водопады, конечно, грозны на вид, но куда ужаснее положение Неаполя, под которым клокочет огонь, как здесь вода! – И я рассказал Фламинии о Везувии, о своем восхождении на него, о Геркулануме и Помпее. Она жадно ловила каждое мое слово и дома заставила меня подробнее описать все чудеса, виденные мною по ту сторону Понтийских болот. Моря она, однако, никак представить себе не могла; она видела его только издали, с высоты гор, откуда оно казалось узкой серебряной полосой на горизонте. Тогда я сказал ей, что оно похоже на безграничное Божие небо, раскинувшееся по земле. Девушка сложила руки и сказала:
– Как бесконечно прекрасен мир Божий!
«Вот потому-то и не надо запираться от него в мрачных стенах монастыря!» – подумал я, но не посмел сказать.
Однажды мы стояли с нею у древнего храма и смотрели вниз на
два огромных водопада, низвергавшихся в бездну, словно два светлых облака. Серебристая водяная пыль образовывала между темно-зелеными деревьями высокий столб, стремившийся к голубому небу и отливавший на солнце всеми цветами радуги. В расщелине скалы над другим водопадом, поменьше, свила себе гнезда стая голубей, и они большими кругами летали над нами и водяной массой, шумно разбивавшейся о камни.
– Какая красота! – промолвила Фламиния. – Мне бы хотелось послушать, как ты импровизируешь, Антонио! Воспой, что видишь вокруг!
Я вспомнил о своих заветных мечтах, разбившихся о людское равнодушие, как разбивались эти водяные потоки о камни, и запел: «Жизнь похожа на этот шумный поток, но не в каждой ее капле отражается солнышко; его сияние разлито только, как сияние красоты, над всем мирозданием!»
– Нет, это слишком печально! – прервала меня Фламиния. – Спой лучше в другой раз, когда сам почувствуешь влечение. Не знаю, Антонио, отчего, но я смотрю на тебя совсем не так, как на других мужчин! Тебе я могу высказать все, что думаю, все равно как отцу или матери.
Она, видно, доверяла мне так же, как и я ей. А многое хотелось мне ей доверить! Однажды вечером я и рассказал ей кое-что из своих детских воспоминаний: о приключении в катакомбах, о празднике цветов в Дженцано и о смерти моей матери, попавшей под карету Eccellenza. Фламиния никогда не слыхала об этом.
– Господи! – вскричала она. – Значит, мы виноваты в твоем несчастье, бедный Антонио! – Она взяла меня за руку и с состраданием поглядела на меня. Старая Доменика очень заинтересовала ее, и она спросила, часто ли я навещаю старушку. Я со стыдом признался, что в последние годы едва ли побывал у нее больше двух раз; зато я часто виделся с ней в Риме и всякий раз делился с нею своими маленькими средствами, но об этом, конечно, не стоило и упоминать.
Фламиния ежедневно просила меня рассказать ей что-нибудь еще, и я, наконец, рассказал ей историю всей своей жизни, рассказал и о Бернардо, и об Аннунциате. Она слушала меня, не сводя с меня своего кроткого, невинного взгляда, проникавшего мне прямо в душу и напоминавшего мне, что меня слушает сама невинность. Поэтому, передавая ей историю своего пребывания в Неаполе, я лишь слегка коснулся теневых его сторон. Но, как ни осторожно рассказал я ей о Санте, этой змее-искусительнице, встреченной мною в раю, девушка все-таки содрогнулась от ужаса.
– Нет, нет, туда бы я не желала попасть! Ни чудное море, ни эта огнедышащая гора не могут искупить всей греховности и порочности этого города. Ты добр и благочестив, потому Мадонна и защитила тебя!
Я вспомнил об изображении Божьей Матери, упавшем на меня со стены в ту минуту, когда уста мои слились с устами Санты. Но этого я не мог рассказать Фламинии; назвала ли бы она меня добрым и благочестивым, если бы узнала об этом? Да, я был так же грешен, как и все люди; обстоятельства и милость Божьей Матери спасли меня, сам же я в минуту искушения был слаб, как и все, кого я знал. Лара, напротив, очень понравилась Фламинии по моему описанию.
– Да, – сказала она, – только Лара и могла явиться тебе в том чудном месте! Я так хорошо представляю себе и ее, и эту сияющую пещеру, где ты в последний раз видел ее! – Аннунциате же она как-то не хотела отдать должного. – Как она могла полюбить этого гадкого Бернардо? Я бы и не хотела, впрочем, чтобы она сделалась твоей женой. Женщина, выступающая перед толпой, женщина... Нет, я не могу хорошенько высказать того, что чувствую!.. Но как она там ни хороша, ни умна, ни талантлива в сравнении с другими женщинами, мне бы не хотелось, чтобы она вышла за тебя! Вот Лара, та была бы для тебя ангелом-хранителем!
Я должен был рассказать Фламинии и о своем дебюте в Сан-Карло, и она нашла, что импровизировать перед многотысячной театральной публикой было куда страшнее, нежели перед разбойниками в пещере. Я показал ей газету, в которой был помещен критический отчет о моем первом дебюте. Как часто я перечитывал его сам! Эта газета из другого города очень заинтересовала Фламинию, и она принялась проглядывать ее столбцы. Вдруг она взглянула на меня и сказала:
– А ты и не сказал мне, что Аннунциата была в Неаполе в одно время с тобою! Здесь напечатано, что она должна была выступить как раз в день твоего отъезда.
– Аннунциата! – прошептал я, впиваясь глазами в газету, которую столько раз брал в руки, но всякий раз прочитывал лишь ту статью, где говорилось обо мне. – Этого я не видел! – пробормотал я, и мы молча поглядели друг на друга. – Да и слава Богу, что я не встретил, не видел ее, – она ведь уже не могла принадлежать мне!
– А если бы ты увиделся с нею теперь? – спросила Фламиния. – Ты бы обрадовался?
– Нет! Кроме боли и горя, я ничего бы не испытал! Той Аннунциаты, которая пленила меня, идеальный образ которой я еще ношу в душе, я бы уже не нашел в ней! Она явилась бы для меня новым существом, пробудила бы во мне одни горькие воспоминания. Нет! Мне надо забыть ее, смотреть на нее, как на умершую!
Однажды после обеда, в жаркую пору дня, я вошел в большую залу, окна которой были густо увиты зелеными ползучими растениями. Фламиния сидела у окна, опершись щекой на руку, и дремала. Сон ее был так легок, что она, казалось, закрыла глаза только шутя. Грудь ее тихо поднималась. «Лара!» – вдруг прошептала она. Ей, вероятно, приснилось мое видение в сияющей пещере. На губах ее заиграла улыбка, и она открыла глаза.
– Антонио! – сказала она. – А я заснула, и знаешь, кого видела во сне?
– Лару! – ответил я; сама Фламиния с закрытыми глазами невольно напомнила мне слепую красавицу.
– Да! – подтвердила она. – Мы летели вместе с нею над огромным чудным морем, о котором ты мне рассказывал. Из средины его поднималась гора, и на ней сидел ты, такой грустный, каким часто бываешь. «Слетим к нему!» – сказала Лара и стала опускаться. Я хотела последовать за нею, но воздух не давал мне опуститься, и каждый взмах крыльев, вместо того чтобы приблизить меня к ней, только удалял от нее еще больше. Но вот когда я думала, что мы удалены друг от друга на тысячу миль, она вдруг очутилась возле меня, и ты тоже!
– Так мы все соединимся после смерти! – сказал я. – Смерть богата! Она может дать нам все, что дорого нашему сердцу! – И я заговорил о своих дорогих умерших – как умерших в действительности, так и умерших для моей любви. И не раз возвращался я в разговоре с Фламинией к этим воспоминаниям, а она однажды спросила меня, буду ли я вспоминать и ее, когда мы расстанемся? Скоро ведь она удалится в монастырь, сделается монахиней, невестой Христа, и мы уже никогда не увидимся больше! При одной мысли об этом сердце мое мучительно сжалось, и я живо почувствовал, насколько дорога мне Фламиния. Раз мы гуляли с ней и ее матерью по саду виллы д'Эсте. Проходя по аллее из темных кипарисов, украшенной фонтанами, мы увидели оборванного нищего, половшего дорожку. Он попросил у нас байоко. Я дал ему паоло, Фламиния с ласковой улыбкой подала ему такую же монету. «Да благословит Мадонна молодого барина и его прекрасную невесту!» – закричал он нам вслед. Франческа громко засмеялась, а меня как будто варом обварило; я боялся даже взглянуть на Фламинию. В душе моей невольно пробудилась мысль, в которой я не смел признаться даже самому себе. Привязанность к Фламинии медленно, но прочно пустила корни в моем сердце, и я чувствовал, что оно истечет кровью при разлуке с нею. Она была теперь единственной моей земной привязанностью. Не любовью ли? Может быть, я любил ее? Но чувство, которое я питал к ней, не походило ни на то, которое пробудила в душе моей Аннунциата, ни на то, которое внушила мне красота Лары, оба же эти последние чувства были сродни между собою. Аннунциата пленила меня своим умом и наружностью, Лара с первого же взгляда ослепила своей красотой; совсем иначе любил я Фламинию. Я питал к ней не дикую, жгучую страсть, а дружбу, живейшую братскую любовь. Припоминая свои отношения к её родным и их намерения относительно ее судьбы, я приходил в отчаянье: я должен был расстаться с нею, а она была для меня дороже всего на свете! Но я не чувствовал ни желания прижать ее к своему сердцу, ни поцеловать, как Аннунциату или как совсем чужую мне слепую девушку. «Да благословит Мадонна молодого барина и его прекрасную невесту!» – эти слова не переставали раздаваться в моих ушах; я старался прочесть в глазах Фламинии малейшее ее желание, ходил за ней по пятам, как тень. В присутствии других я чувствовал себя расстроенным, грустным, скованным тысячью цепей, становился молчалив и рассеян и только наедине с Фламинией вновь обретал дар слова. Я так любил ее и должен был лишиться ее!
– Антонио! Что с тобой? – спрашивала она меня. – Болен ты, или что-нибудь случилось с тобой, чего я не должна знать? Почему? – Она привязалась ко мне всею душой, видела во мне верного, любящего брата, а я-то всегда всеми силами старался пробудить в ней любовь к этому миру! Я рассказал ей, как сам когда-то хотел поступить в монастырь и как несчастен был бы я теперь, если бы выполнил свое намерение: рано или поздно сердце ведь должно заговорить.
– Ну, а я буду так счастлива, когда вернусь к моим благочестивым сестрам! – сказала она. – Только там я опять буду чувствовать себя как дома! Но я часто стану вспоминать о времени, проведенном в мире, и обо всем том, что рассказывал мне ты, о тебе самом и о твоей дружбе ко мне, Я уже заранее утешаюсь этими прекрасными мечтами! Я буду молиться за тебя, молиться о твоем счастье и о том, чтобы этот дурной свет не испортил тебя, о том, чтобы ты радовал людей своим талантом и никогда не переставал чувствовать доброту и милость Господа к тебе и ко всем людям!
Тут слезы брызнули у меня из глаз, я глубоко вздохнул и сказал:
– Так мы никогда, никогда не увидимся больше?
– Увидимся на небе! – ответила она с кроткой улыбкой. – Там ты покажешь мне Лару! Там она вновь обретет свет очей! Да, на небе у Мадонны лучше всего!
Мы опять переехали в Рим; прошло еще несколько недель, и домашние стали поговаривать о том, что скоро Фламиния вернется в монастырь и примет пострижение. Сердце мое ныло от боли, но я должен был скрывать свои чувства. Как пусто, печально будет в доме, когда она уедет, каким одиноким, чужим для всех останусь я опять! Какое горе! Я старался, однако, скрывать его и казаться веселым. Родные говорили о пышной церемонии пострижения девушки, словно дело шло о каком-то радостном событии. Но как она сама могла решиться покинуть нас? Увы! Они околдовали ее, овладели ее чувствами, ее разумом! И вот прекрасные длинные волосы ее падут под ножницами, на нее на живую наденут саван, колокола зазвонят к погребению, и затем она восстанет из гроба уже невестою Христа. Я нарисовал эту картину самой Фламинии и заклинал ее подумать хорошенько о том, что она собирается сделать – зарыть себя живой в могилу.
– Смотри, не скажи этого при других, Антонио! – сказала она таким серьезным, строгим тоном, какого я еще не слыхал от нее. – Ты чересчур привязан к земле! Обращай почаще взоры к небу! – Тут она покраснела и схватила меня за руку, будто испугавшись, что говорила со мною чересчур резко, затем ласково прибавила: – Ты ведь не станешь огорчать меня, Антонио?
Я упал к ее ногам, преклонился перед нею, как перед святою; вся моя душа льнула к ней. Сколько слез пролил я в ту ночь! Мое чувство к ней казалось мне грехом; она ведь была невестой Христа. День за днем смотрел я на нее и открывал в ней все новые и новые достоинства. А она беседовала со мной, как сестра с братом, доверчиво смотрела мне в глаза, протягивала мне руку и говорила, что соскучилась без меня, что очень любит меня... Я всеми силами старался скрыть от нее свою скорбь, и мне это удавалось. Лучше было бы мне умереть, чем страдать так, как я страдал тогда!
Предстоящая разлука с Фламинией так пугала меня, что злой дух нашептывал мне на ухо: «Ты любишь ее!» И все же я не любил ее так, как любил Аннунциату; мое сердце не билось в ее присутствии так, как в ту минуту, когда я коснулся губами чела Лары. «Скажи Фламинии, что ты не можешь жить без нее, – она ведь любит тебя, как брата! Скажи, что любишь ее! Eccellenza и вся семья проклянут тебя, выгонят тебя на все четыре стороны, но ведь, теряя ее, ты все равно теряешь все! Выбор не труден!» И как часто признание готово было сорваться с моих уст, но сердце замирало, и я безмолвствовал. Лихорадочное возбуждение волновало мою кровь, мой мозг.
В палаццо уже приготовились к блестящему балу, празднику цветов, в честь ведомого на заклание агнца! Я увидел Фламинию в богатом наряде; она была бесконечно мила.
– Веселись же теперь вместе со всеми! – шепнула она мне. – Мне больно видеть тебя таким печальным! Ты будешь причиной того, что я буду жалеть о мире, когда сделаюсь монахиней, а это грех, Антонио! Обещай мне преодолеть свою грусть, обещай простить моих родителей за то, что они иногда обращаются с тобой несколько жестко! Они желают тебе только добра! Обещай мне, что ты не будешь слишком много думать о людских обидах и всегда останешься таким же добрым и благочестивым, как теперь. Тогда я буду иметь право думать о тебе и молиться за тебя, а Мадонна ведь так добра и милостива!
– Слова ее разрывали мне сердце. Я увиделся с ней еще раз, вечером накануне ее отъезда. Она была спокойна; поцеловала отца, мать и старого Eccellenza и говорила о разлуке с ними так, как будто уезжала всего на несколько дней.
– Простись же и с Антонио! – сказал ей Фабиани, который один из всех казался растроганным. Я поспешно подошел к ней и наклонился поцеловать ее руку.
– Будь счастлив, Антонио! – сказала она. Ее нежный, мягкий голос вызвал у меня на глазах слезы; я не помнил себя от горя. Я ведь видел ее милое, кроткое личико в последний раз! – Прощай! – сказала она как-то беззвучно, наклонилась, поцеловала меня в лоб и прибавила: – Благодарю тебя за твою любовь ко мне, милый брат! – Больше я уж ничего не помню. Я выбежал из залы, кинулся в свою комнату и залился слезами. Весь свет как будто померк для меня.
И я увидел ее еще раз! Солнышко светило так весело, так ярко, когда родители вели ее, разубранную, как невесту, к алтарю. Я слышал пение, видел толпу народа, но ясно помню лишь одно бледное милое личико Фламинии. Это сам ангел стоял на коленях перед алтарем! Я видел, как сняли с ее головы драгоценную вуаль, как захватили ножницами ее роскошные волосы, слышал лязг ножниц... С девушки сняли богатые одеяния, и она завернулась в саван, затем ее накрыли черным покровом с изображением черепов... Раздался погребальный звон, монахини стали отпевать умершую. Да, Фламиния умерла для этого мира! Вот отворилась черная решетка хоров, показались сестры в белых одеяниях и запели новой сестре приветствие. Епископ протянул ей руку, мертвая восстала невестою Христа. Ее нарекли Елизаветою. Я видел, как она бросила на толпу прощальный взгляд, протянула руку ближайшей сестре и переступила за порог жизни и света; черная решетка затворилась! Еще раз мелькнула за решеткой ее тень, край ее платья... потом она скрылась от меня навсегда.