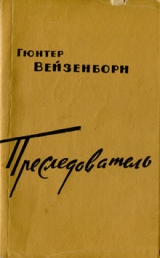
Текст книги "Преследователь"
Автор книги: Гюнтер Вейзенборн
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
– Вас ведь я тоже не узнал… Вы были причастны к этому делу?
– Да.
– Понятия не имею.
– Мне был вынесен смертный приговор.
– Вот как. – Он снова положил сигару на пепельницу. Слова «вот как» прозвучали тихо, как вздох. Оттенок мужского сострадания в его голосе был рассчитан на эффект.
– Смертные приговоры были вынесены всем, кроме Риделя. – Я говорил мягко, без тени упрека.
– Вы же понимаете, в те времена предусматривались особо строгие кары. Для нас это было обязательным. Мы ничего не могли поделать. Как ни жаль, но это так.
– Конечно, конечно, не могли.
– Вы себе не представляете, чего мне это стоило.
Я молчал. Может, он разговорится. И он разговорился.
– Для человека моею склада тяжелее всего было выносить такие приговоры и… оставаться при этом человеком. Ведь случай с вашей подпольной группой не был единичным, были и другие… Так или иначе, мне очень нелегко давались подобного рода приговоры. Впоследствии, при денацификации это нашло многократное подтверждение… Потом передо мной даже извинялись. Я никогда не упоминал об этом, но для вас делаю исключение, потому что вы лицо причастное – нет, что я!.. пострадавшее. Так сказать, для очистки совести. Вообще-то мы, судьи, чаще всего были на вашей стороне.
На сей раз «вот как» произнес я.
Его лицо сняло благородством в красноватом свете настольной лампы. Глаза попугая пристально смотрели на меня из-под пленки.
– Я был бы вам крайне признателен, если бы вы постарались подавить в себе враждебные чувства в отношении меня, буде таковые у вас имеются. Поймите всю сложность ситуации, зависимость нашего положения и железную необходимость. У судьи был один выбор – либо безоговорочное послушание, либо концлагерь. И если бы я отказался произнести такой приговор, это бы все равно сделал мой преемник. А в них недостатка не было. Нет, нет, к таким вещам нельзя относиться опрометчиво.
– Ну, конечно, конечно.
– Кроме того, примите во внимание еще одно обстоятельство, о котором сейчас забывают. Время было военное. В любой другой стране вас тоже признали бы виноватым. И, надо полагать, повсюду сочли бы уместной такую меру наказания. Смею вас в этом уверить.
– Да, конечно, вопрос только в одном, господин юстиции советник: за что сражались народы.
– Ну, мы-то сражались, чтобы спасти свой домашний очаг и оградить от опасности отечества. Не правда ли?
– Нет.
– Что?
– Я сказал – нет, и больше ничего.
– Вы придерживаетесь иного мнения?
– Да.
– Как это возможно?
– Чтобы оградить свое отечество, незачем вторгаться в отечества других людей – во Францию, Норвегию, Польшу, Россию, Грецию и прочие страны. Их можно насчитать не меньше дюжины. Значит, в итоге это была война завоевательная, не правда ли?
Молчание. Мягкий вечерний ветерок шелестел листьями деревьев. Из соседнего сада донесся сонный детский смешок. Мне почудилось, что на террасе стало темнее.
У К. был озабоченный, притворно озабоченный вид.
– Вы говорите, его звали Пауль Ридель?
– Да.
– Нет, не могу припомнить.
– Может случиться, что вам придется свидетельствовать под присягой.
– Я всегда готов способствовать выяснению истины.
По его виду я понял, что теперь он постарается уничтожить в себе, замуровать, начисто истребить малейшие воспоминания о Риделе. Я понял, что он немедленно пустит в ход всю свою изворотливость, я понял, что он по-прежнему готов выносить те приговоры, каких от него ожидают.
Я поднялся.
– Мне очень жаль, я надеялся получить от вас кое-какие разъяснения.
Он стоял передо мной в учтивой позе, статный и осанистый. Левый глаз дергался, правый сверлил меня своей неподвижной желтизной.
– Я чрезвычайно огорчен, что память мне изменяет. Но столько я тогда провел такого рода дел и столько потом было других событий, что при всем желании я ничего припомнить не могу. Все мы только люди, не правда ли? Но я не пожалею сил, чтобы помочь, чем смогу, особенно в таком прискорбном случае, как ваш.
Он подошел ко мне. Окруженные набрякшими веками неподвижные глаза попугая устрашающе надвинулись на меня.
Он протянул мне руку с теплой сердечностью. Но я не подал ему руки и отвернулся. В темноте сада журчал про себя дождевальный аппарат. Я прошел сиявшую огнями гостиную и захлопнул за собой парадную дверь.
С этим покончено.
Он, несомненно, знал о Риделе. Он мог быть свидетелем, но он молчал. Много позднее я прочел в газеткой корреспонденции, что К. когда-то приговорил к смерти женщину, мать четверых детей, за то, что во время кампании «зимней помощи» она присвоила шерстяные вещи стоимостью в тридцать марок. Женщина была казнена.
Когда К. судили, выявились и другие случаи узаконенного убийства. Он принадлежал к числу кровавых судей, которые выносили смертные приговоры даже в тех случаях, когда мера наказания зависела от усмотрения судьи. Отчеты о суде над К. печатались во всех газетах. Прежние его сотрудники воздерживались от обвинений. Они позабыли все, что могло ему повредить. Все действовали сообща: защитник всячески доказывал, что К. не сознавал неправоты своих поступков. Наоборот, он был убежден, что такими смертными приговорами укрепляет боевой дух немцев. К. был оправдан.
Я представлял себе, как он, холеный, хладнокровный убийца, подняв узкую, аристократической формы голову, покидает зал, садится в собственный огромный лимузин, сопутствуемый своими лощеными соучастниками, которые засели в управлениях, канцеляриях, министерствах и, подмигивая друг другу, образовали единый фронт молчания.
И снова пришлось мне идти наперекор безнадежности, одиночеству и бессилию. Кого могли тронуть прежние жертвы? Уж никак не молодежь, которая понятия обо всем этом не имела.
Должно быть, это пережил каждый из нас, кто был в заключении и вышел на свободу. Из темных подвалов мы возвратились в мир, где веял ветер и солнце согревало нам руки, где шел дождь и где мы имели право сами отворить дверь.
Наш мир лежал тогда в развалинах после окончательной катастрофы. В свое время мы не переставали предостерегать против нее, мы яростно боролись за мир на земле. Большинство из нас погибло. А немногие уцелевшие? Кому мы были нужны? Кто стремился узнать у нас какие-то подробности? Решительно никто.
Мы затаили свое изумление. Неужели те, кто позабыл о нас, когда нас швырнули в подземелье смерти, неужели они и в самом деле не хотят узнать, как это тогда было? Нет, ничего они не хотели знать. Они ни о чем не спрашивали. Они шныряли по сплошным развалинам в погоне за куском хлеба или сигаретой. В свое время они работали на войну, приведшую к полному краху. Они были слепы тогда и оставались слепыми. А главное – они уповали на великий закон забвения. Виновник злодеяния забывает о нем легче, чем жертва. Никто не расспрашивал, не заговаривал о прошлом. Люди вторично отвернулись от нас и плакались на собственную судьбу. Мы же молчали, уразумев наконец, что сестра оборотня зовется забывчивостью.
Забывчивость прячет злодеяния под своим покровом. Эта недобрая опекунша входит по ночам в спальни, где мечутся в беспокойном сне преступники, залившие мир кровью, и своими призрачными руками снимает с них бремя воспоминаний, чтобы у них назавтра прибыло сил и отваги. Она обволакивает дымкой страх и трепет, она ласково баюкает ужас, чтобы он уснул в миллионах голов. Она, бледная сестра оборотня, несет на смену злобе дурман забвения.
А если кто-нибудь не смирившийся попытается напомнить о море пролитой крови и потребует наказания, тысячи других скажут, качая головой: ничего мы об атом не знаем. Кровь проливали? Не верю. О каких злодействах идет речь? Мы ничего такого не припоминаем…
Я провел бессонную ночь. Я вспоминал Еву, исчезнувшую без следа. Может быть, она, она, моя любимая, умерла. Мне виделись ее светло-серые глаза, каштановые волосы, тонкая фигурка. Слышался ее обычно насмешливый голос. Если бы она была жива, лучшей свидетельницы не требуется. На следующий день я встретил ее…
9
три часа ПЯТЬДЕСЯТ минут
На улицу, где я выслеживаю добычу, свернула машина, вытаращив фары в темноту. Машина полицейская, с антенной. Она тормозит, подъезжая.
В ней сидят двое в полицейской форме. Мне становится не по себе. Что им нужно?
Я пригибаюсь, чтобы они меня не заметили. Что тут особенного? У края тротуара стоит машина, как стоят на улице многие другие машины. Если меня станут спрашивать, могу предъявить документы и водительские права. Нет, ничего я не пил, ни капельки спиртного, но, пожалуй, вы правы, я скоро поеду домой. Не извольте беспокоиться, господа, и будьте здоровы!
Но они ничего не спрашивают. Они проезжают в своей машине, оснащенной сиреной, синей сигнальной фарой, радиотелефоном, они вооружены револьверами. Счастливого вам пути, господа! А я останусь и буду ждать.
Это случилось в конце серенького дождливого дня. Я сразу ее узнал. Она вышла из магазина напротив вокзала. Она подняла воротник плаща и оглядывалась, чтобы перейти на ту сторону.
Тут подошел я. Она испуганно вздрогнула, когда я поздоровался:
– Добрый вечер, Ева!
Она вопрошающе вглядывалась в меня и наконец поняла. Улыбка сперва чуть забрезжила на губах и вдруг озарила все лицо.
– Даниэль! Ты!.. Ты жив!
– Ева! Наконец-то, наконец я тебя встретил…
– Я так рада, так рада…
Личико у нее было взволнованное и очень бледное под раскрытым зонтом. Я видел его на фоне серых полос косого ливня. Она так судорожно стиснула ручку зонта, что ее тонкие пальцы побелели. Меня она не уставала оглядывать, точно какое-то чудо.
– Даниэль… милый мой, ты первый, кого я встретила. А столько времени прошло с тех пор…
– Как тебе живется, Ева?
– Помаленьку, Даниэль. Вот досада! Мой поезд уходит через десять минут. Но я оставлю тебе адрес, и ты мне напишешь, хорошо? Нам необходимо увидеться как можно скорее… Я живу во Франции…
Мы пошли на вокзал. Я взял в автомате перронный билет. Контролер проверил наши билеты, и мы вышли на перрон. Поезд был уже подан.
– Во Франции?
Кругом суетились люди. Подкатывали автокары с багажом. Рабочие, постукивали по оси молотком на длинной рукоятке. Торопливые пассажиры бежали вдоль поезда. Газетчики катили по перрону увешанные пестрыми обложками тележки и выкрикивали названия газет. Высокие своды вокзала поглощали шум. Ева остановилась у дверцы вагона второго класса.
– Да. Пожалуйста, напиши мне сейчас же. Мы ни в коем случае не должны теперь терять друг друга из виду.
Я всматривался в ее лицо. И все больше узнавал в нем прежнюю Еву.
Я утвердительно кивал:
– Конечно, конечно, не должны, Ева.
– Даниэль, милый, напиши мне сейчас же, хорошо? – повторила она.
– Да, теперь мы ни за что не потеряем друг друга.
Я держал в руке газету и протянул ее Еве. Она торопливо записала свой адрес на полях газеты и вернула ее мне.
– Как это замечательно, что мы встретились, Даниэль. Я часто думаю о Вальтере, – неожиданно добавила она. – Хорошо, что ты выжил, Даниэль!
– А остальные, Ева? Ты о них что-нибудь слыхала?
– Нет. Ни разу. А ты?
– Я тоже ни разу не слыхал ни о ком, кроме одного…
– Кроме кого?
– Пауля Риделя.
– А-а!
– Да, он цел и живет здесь.
– Неужели?
– Да. Я возбудил против него дело. Ты нужна нам для суда как свидетельница.
Она вдруг застыла на месте посреди предотъездной сутолоки.
– Для суда? Бог с тобой, Даниэль, – шепотом сказала она. – Ни за что на свете! Пойми же, все это было так давно. Весь мир занят судами. И всюду без конца ворошат прошлое, пережитые муки! К чему это ведет? Я счастлива, что все это миновало. А Пауль… он действовал по принуждению… ты сам знаешь. Пойми меня, Даниэлъ…
– Но речь идет не только о нас, Ева. Пауль и других…
Мимо нашего вагона пробежал кондуктор и крикнул:
– Прошу садиться! Закрыть двери!
Она стояла на нижней ступеньке и озиралась.
– Устроить тебе место у окна?
Она слабо улыбнулась:
– Спасибо. У меня есть плацкарта.
Она вошла в вагон, захлопнула дверь и опустила стекло.
Я смотрел вверх на нее.
– Выслушай меня, Ева. Вальтер погиб, остальные бесследно исчезли, должно быть, тоже погибли. А он останется безнаказанным?
Она перегнулась ко мне из окна и стала меня уговаривать тихо и настойчиво:
– Даниэль, если я тебе еще хоть чуточку дорога, избавь меня от этого. Я хочу забыть. Мы больше всего нуждаемся сейчас в забвении и прощении.
– Именно об этом мечтают все преступники.
Я видел, что она растеряна. На миг мне показалось, что она собирается выйти из вагона. Потом она покачала головой:
– Не думаю, чтобы от меня была вообще какая-нибудь польза.
– От тебя требуется только краткое свидетельское показание. Не помогать торжеству правды – значит поощрять неправые дела.
Она беспомощно скользила взглядом по коридору вагона. Потом снова высунулась в окно.
– Суд принесет новое горе и новую вину.
– Суд очистит нас в собственных глазах. Если ты меня поддержишь, Ева, если ты дашь показания, мы сможем наконец привлечь его к суду. Адвокат подробно объяснит тебе все. Прошу тебя, Ева…
В этот миг раздался пронзительный свисток. Стоявший поблизости дежурный подал сигнал к отправлению. Ева распахнула дверцу. Она была очень бледна.
Поспешно выпрыгнула она со своим чемоданчиком и захлопнула за собой дверь. Поезд тронулся и бесшумно укатил вдаль.
– Я останусь и уеду завтра, – сказала Ева.
Я взял у нее чемодан. Мы пошли по перрону. Оба молчали. Но когда нас вдруг стал поливать дождь, мы подняли головы и рассмеялись.
– Мы пошли не в ту сторону. Выход остался позади, – сказал я.
– Куда нам идти? – спросила она, недоумевающе оглядываясь по сторонам.
Готовый к отправлению пригородный поезд стоял на соседних путях. Немногочисленные пассажиры смотрели в залитые дождем окна.
– Давай уедем из города, – попросила она, не глядя на меня.
– Сядем в этот поезд. Тут как раз есть свободное купе, – предложил я и открыл дверцу вагона.
Мы вошли и сели друг против друга. Купе было тесное, убогое, с деревянными коричневыми скамьями. Поезд как будто только нас и ждал, он сейчас же тронулся и увез нас с вокзала. Дождь барабанил в окно. Когда явился кондуктор, получилась небольшая заминка, но в конце концов он выдал нам билеты до третьей станции. Приветливо и двусмысленно ухмыляясь, он объяснил, что там в самом лесу расположена старая деревня, и что гостиница там, уж надо думать, найдется.
– Уговорили! – ответили мы и поехали туда.
Вначале она молчала. Должно быть, ей надо было разобраться в самой себе. Что за неожиданный поворот: за десять минут до отхода поезда она встречает приятеля былых времен и едет с ним в какую-то деревню! Что все это значит? Да и значит ли вообще что-нибудь? Подействовала ли на нее моя настойчивая просьба выступить свидетельницей или проснулись воспоминания прошлого? А ночью? Что будет ночью? Во всяком случае, это должно остаться чисто деловой и дружеской встречей и ничем более.
Я начал расспросы. Мне хотелось знать все обстоятельства ее жизни.
– Когда ты вышла на свободу?
– Весной сорок пятого, – ответила она.
– Откуда?
– Из Берген-Бельзена.
– А как же СП? (СП означало смертный приговор.)
– Гестаповский комиссар, отославший меня в концлагерь, сказал мне, что мои бумаги сгорели.
– А все остальные?
– Я ни о ком ничего ни разу не слышала.
– Тяжко тебе пришлось?
– Не будем об этом говорить.
– А что ты делала потом?
– Поехала в Аахен, – ответила она кратко.
Это было в ее духе. Она принадлежала к людям решительного склада. Это она доказала во время ареста Вальтера, да и только что на вокзале, когда в последнюю минуту спрыгнула с поезда. Но распространяться она не любила. Или уж начинала рассказывать по собственному почину.
– В Аахене обосновалась сестра… родители не перенесли того, что случилось. Одно время мы жили там вместе. Я работала в аптеке. Хозяева оказались очень симпатичные – доктор Кениг и его жена… Мне было хорошо у них… Нет, особенно голодать нам не приходилось… Нет… Я прожила в Аахене всего два года… Потом переехала в Лион… Нет, не одна… Нет, замуж я не вышла… Я поступила в детскую больницу… Нет. мне выхлопотали разрешение работать, это было нелегко… потом мы уехали… И вскоре расстались… Он живет в Бразилии… Счастлива ли я?.. Сама не знаю. Ты когда-нибудь в жизни был счастлив?
Я сознался, что до сих пор не был, если не считать отдельных минут. Да, пожалуй, счастье и всегда длится считанные мгновения – это никак не длительное состояние, заметил я и вспомнил наш давнишний с ней разговор в ложе оперного театра.
– А может, человек тогда бывает счастлив, когда перестает думать о себе, потому что занят другим, людьми или делом? – предположила она.
Это было так похоже на нее. Она всегда думала о других. Конечно, она изменилась, немножко пополнела с годами. Исчезла хрупкая худоба юности. Но стройность она сохранила. Я смотрел на ее маленькие, но очень сильные руки. Грудь по-прежнему была почти незаметна, а шея тоненькая и без единой складки. На лице временами появлялось выражение трезвой примиренности. Но лицо было прежнее, прозрачно-бледное, изящного овала, и глаза те же – ясные, серые.
О суде она не упоминала. Ранние сумерки дождливого дня положили тени на ее почти неподвижное лицо. Большую часть времени она смотрела в окно и только иногда внезапно взглядывала на меня, скорее холодно, нежели дружелюбно. Казалось, она жалеет о своем скоропалительном решении. В сущности, против меня сидела почти чужая женщина. О себе она, правда, рассказала, хотя скупо и неохотно. Но моей судьбой, моими переживаниями даже не поинтересовалась. Может быть, для нее было достаточно, что я сижу перед ней живой и здоровый? Так или иначе, сказывались долгие годы разлуки. Даже пылкие чувства остывают, даже любовь стареет и смотрит на любимого померкшим взглядом, и страсть иссякает с годами. Но, может быть, я ошибался? По совести говоря, я был немало разочарован. Какой непосредственной и сердечной была встреча у вокзала! Спешка придала ей особую остроту. Теперь времени у нас было достаточно и, правду сказать, сердечности поубавилось. Чуть-чуть? Насколько – я и сам не знал. Вообще я не понимал, что из этого получится.
Когда поезд остановился в третий раз, мы сошли. Гостиница находилась неподалеку от станции. А вся деревня оказалась меньше, чем я себе представлял. Хоть бы Еве здесь понравилось! Я взял ее чемодан, и мы в сгущающихся сумерках подошли к гостинице.
Зал был всего один. Лампы уже горели. Почти за всеми столиками шумно ужинали непринужденно веселые мужчины. Мы отыскали свободный столик и попросили чего-нибудь поесть.
Кельнерша сказала, что может предложить только шницель с красной капустой.
– Сами видите, какой сегодня наплыв посетителей. Чуть не вся районная конференция столуется здесь.
Мы съели шницель с капустой. С согласия Евы я велел принести бутылку рейнвейна. Вино оказалось не очень хорошим, но и не слишком плохим. Мы выпили и почувствовали себя немного свободнее.
Затем я окликнул толстушку-кельнершу.
– Нам нужны две комнаты на ночь.
Она вздернула брови, словно ослышалась.
– Комнаты? Что вы! Все переполнено. Даже гладильная занята.
– Есть обратный поезд сегодня вечером?
– Сейчас уже нет! Последний поезд ушел в город час назад.
Ну и влипли мы. Ева сухо рассмеялась:
– Намечается интересное приключение.
– По-видимому. Фрейлейн!
На третий зов она явилась потная и озабоченная, отводя волосы со лба тыльной стороной руки. Она написала счет. Я не поскупился на чаевые и спросил:
– Где тут еще можно переночевать?
– Не думаю, чтобы где-нибудь нашлась свободная комната. Районная конференция…
– Знаю, знаю. А может быть, все-таки найдется частная комната?
– Разве что у вдовы Карле. Попытайтесь-ка. Карле на Биркенштрассе.
Мы отправились под дождем на Биркенштрассе. Дом был старый, неказистый, в палисаднике – нескольно чайных роз на облупленных белых подпорках. Дождь капал с увядающих цветов, повесивших головки. Некоторые лепестки уже упали в траву.
У вдовы Карле было щучье лицо, илисто-серое, с чуть выдвинутой нижней челюстью, и при этом она то и дело открывала рот – старуха страдала астмой и ей не хватало воздуха. Круглые глаза ее выцвели от старости и приобрели серебристый оттенок рыбьей чешуи.
– Входите, так и быть, – сказала она и, шаркая, поплыла в зальце. Мы последовали за ней. Она набрала воздуха и начала:
– Да, знаете, ведь районная конференция…
– Знаем, – перебил я.
– И у меня все сдано, – вставила она и набрала воздуха.
Она оглядела нас.
– Конечно, я могла бы лечь на кухне, а вам уступить спальню.
– Договорились, – быстро сказал я. – А где она?
– Спальня?
– Да.
– Здесь и есть, – она улыбнулась и грациозно развела морщинистыми, в коричневых пятнах руками, словно приглашая нас в рай. Комната была нарядная, с массивной мебелью, обитой потертым вишневым плюшем, со множеством салфеточек и разных предметов прошлого столетия. Все это венчала люстра с хрустальными висюльками вокруг трех электрических лампочек. Хозяйка указала на кровать.
– Кровать я вам, конечно, перестелю. Вы ведь женаты?
– Гм, – промычал я, не глядя на Еву.
Она не проронила ни звука.
– Ну да бланк заполнять тут не требуется. А мне-то вообще все равно. Были бы приличные люди. Десять марок с утренним завтраком. Сейчас принесу белье.
Старая щука сделала круг по комнате, как по аквариуму, чтобы прихватить с собой газету, грязный кухонный нож и вылущенные стручки. Должно быть, до нашего прихода она лущила бобы. Затем, набрав воздуха, она выплыла в дверь.
Комната была опрятная, но плохо проветренная. Я открыл окно, и мы с наслаждением вдохнули чистый воздух дождливого вечера. Старуха вскоре воротилась с кувшинами, полными воды, и застелила кровать свежим, приятно пахнувшим полотняным бельем. В комнате сразу стало уютнее. Затем старая щука закрыла окно. С многоопытной материнской улыбкой в щелках серебристо-слюдяных глаз пожелала доброй ночи и выплыла вон.
Мы остались одни.
– Я лягу на кушетке, – заявил я.
– Ерунда, мы ведь не чужие, – возразила она.
– Ты права.
Она сидела на кушетке и смотрела на меня.
– Что было, то прошло, – сказала она решительным, не допускающим возражений тоном. И я понял, что она имела в виду.
– Договорились, – подтвердил я.
Мы посидели некоторое время. Я устроился в старинном кресле, обитом красным репсом. Она достала из чемоданчика плитку шоколада, разломила ее и положила на стол. Мы поели шоколада.
– Расскажи мне все, – потребовала она.
Я рассказал ей все события вплоть до последнего дня, не рассказал только о своем намерении убить Риделя.
Рассказ затянулся, и в комнате совсем стемнело. Одно лишь лицо Евы смутно мерцало передо мной. Она не шевелилась. Вначале она как будто думала о другом и не слушала меня. Очевидно, в свое время она постаралась запереть все это на семь замков, забыть, замуровать навсегда. Но вот у нее вырвался короткий возглас, негромкий вопрос. И мне показалось, что моя одинокая лодка посреди ночного мрака причалила к берегу, где тихо и спокойно стояла она, вновь обретенная прежняя подпольщица.
– Что из нас сделали?
– Не знаю.
Мы говорили тихо, еле слышно, с долгими промежутками. Во время одного из таких промежутков она встала и направилась было ко мне, но потом пошла к своему чемодану. Однако я услышал, что она остановилась на полдороге; она пошла обратно и прижалась своей щекой к моей щеке. На другой моей щеке я ощутил прохладу ее ладони. Это длилось мгновение, затем она направилась к умывальнику.
– Не зажигай света, – попросила она.
Она разделась и умылась. Когда она пошла ложиться в постель, на ней была ночная сорочка.
Я тоже умылся ее мылом, открыл окно и лег рядом с ней… Мы лежали далеко друг от друга, как чужие.
За окном все еще журчал дождь. Капало с крыш. Временами по комнате скользили полосы света от проезжавшей мимо машины. Окна была завешаны густыми тюлевыми гардинами. Иногда вдруг начинали звенеть хрустальные подвески на люстре под потолком. Должно быть, кто-нибудь из участников районной конференции проходил в носках по комнате верхнего этажа. Это длилось долго. Рядом на постели я слышал ее дыхание. Ровное, негромкое дыхание. Я лежал на спине и чувствовал, что сам тоже дышу ровно. Иначе и быть не могло. С самого начала я ощущал между нами меч из старинных сказаний. Неужели же я воспользуюсь неожиданным стечением обстоятельств? Нет, я не из тех, кто поступает так, кто не умеет держать себя в узде. Нет, я не оскорблю ее, мою былую возлюбленную, непрошеной близостью. Да и в чем настоящая близость? Кроме того, между нами существует подтвержденный обоими договор. Нет, мы будем спать как брат с сестрой, а завтра подробно поговорим о суде. Может быть, я свезу ее к круглолицему адвокату. Вы требовали свидетеля, милостивый государь? Вот он! А теперь приступите к исполнению своих обязанностей… Может быть, Ева даст согласие. Постараюсь уговорить ее завтра, когда она выспится.
– Помнишь ту ночь, когда была бомбежка? – спросила она. Я кивнул в ответ. Она взглянула на меня, потом долго смотрела в потолок и молчала.
– Все это в прошлом, – сказала она наконец.
– Разве тебя это не радует?
– Да, конечно, но вместе с тяжелыми временами ушло и другое, то, что каждому человеку дается раз в жизни. Ушла молодость, дружба, любовь. Тогда мы о них не думали. Мы жили только взятой на себя задачей, только будущим, а настоящего не замечали. Не интересовались им. Правда, хорошего в нем было мало. Но то неповторимое у нас все-таки было. Ты согласен со мной?
– Да.
– А теперь все это в прошлом.
Мне стало ясно, что она так же одинока, как я.
– О нет, настоящего счастья я не знала, – сказала она, как будто отвечая на вопрос. – Слишком сурова была наша жизнь, слишком много было в ней страха и опасности. Тот, кому нужно быть постоянно настороже, не может беззаветно отдаваться радостям минуты. Мне жаль, что у меня теперь нет настоящей задачи.
– Она у тебя есть.
– Как раз сейчас я на перепутье. Я из тех людей, которые не могут жить без настоящей задачи.
– А больные?
– Это, конечно, важное дело, но уходу за больными может обучиться каждый. Нет, мне нужно что-то большее.
– Что же именно?
– Сама не знаю. Но что-то большее. Жизнь должна иметь какой-то смысл. Наш мир – глухие дебри. Мне хочется учиться, читать книги… Книги о человеке и человеческом обществе.
– Планы у тебя обширные.
– Ну что ж. Это похоже на сложный кроссворд. Надо подобрать буквы, чтобы найти решение. Может быть, я и добьюсь решения.
Нас окружала дождливая, прозрачная, как стекло, ночь. В спальне царил странный, нереальный полусвет. Дождь за окном лил с каким-то скучным, серым безразличием, как будто трудовой день он уже закончил, но из чистого великодушия решил потрудиться сверхурочно до утра. Из водостока доносилось сонное бульканье. В окно вливался рассеянный свет. Должно быть,»то горел уличный фонарь, пронизывая дождливую ночь. Я покосился на Еву. Она лежала на спине. Я различал ее лицо, смутно белевшее в темноте, и блики в открытых глазах.
Тогда я принял решение.
– Знаешь, Ева, почему ты несчастлива? Потому что остановилась на полдороге, не завершила главной своей задачи. А люди твоего склада не могут быть счастливы при таких условиях. По-твоему, все кончилось с выходом на свободу из Берген-Бельзена?
– Перестань.
– Ты уехала в Аахен, оттуда в Лион, ты пыталась забыться. Нет, твоя задача не завершена.
– Перестань.
– Вспомни Вальтера. Неужели несправедливость так и будет тяготеть над ним? А остальные? Неужели они обречены на забвение и поругание? Вспомни виновных, предателей, судей и палачей. Под нами, прикрытые всего двумя метрами земли, гигантские поля трупов. По-твоему, так и надо, чтобы убийцы попирали их каблуками и славословили царящую в мире справедливость? Ну, конечно, они отмыли запятнанные кровью руки и сожгли свои мундиры. Они окопались в своих алиби. Они знать не знают о том, что было, они выгораживают друг друга, клянутся, что знать ни о чем не знали, да и теперь ни о чем не ведают. Неужели допустить, чтобы они оказались правы?
– Да перестань же наконец!
– Не перестану. Мы-то знаем, что они творили зло, по долгу службы творили зло и насилие. Мы знаем, что они нагородили лжи до самых небес, черную тучу подлой лжи. Иногда она проливается кровавым дождем. Тогда все беспокойно ежатся, прячутся за надежное табу и бормочут: «Пора бы, чтобы перестал этот несносный дождь, надо наконец подвести черту. Времена меняются…»
А я спрашиваю: кто их менял? Мы? Нет! Они Сами об этом постарались. А мы лежим целые ночи без сна и терзаемся угрызениями совести. Нам хочется кричать при виде того, как возрождается ложь. Но не кричать, а бороться надо нам, всем до единого. Повторяю: там за окнами, под асфальтом зловещего «экономического чуда» лежат целые равнины мертвецов, малочтимых, не поминаемых, забытых. Кто думает о них? Ты думаешь?
Долго было совсем тихо.
Она плакала. Плакала долго.
Сквозь слезы у нее вырвалось:
– Не мучай меня больше… И сам не мучайся так ужасно… Не надо этого касаться…
– Я не оставлю тебя в покое.
Она зарыдала, всхлипывая, как ребенок. Рассудительная печаль осталась в купе пригородного поезда. Теперь передо мной горько плакала беспомощная девочка. Я не шевелился. Она плакала долго. Мало-помалу успокоившись, она спросила охрипшим от слез голосом:
– У тебя есть носовой платок?
Мы дружно рассмеялись. Я встал и принес носовой платок. Она обстоятельно высморкалась. Потом приподнялась и взглянула в окно:
– Дождь почти перестал.
– Да.
– Может, встанем?.
– Зачем?
– Пройдемся немножко…
– Сейчас? Щука подумает, что мы собрались улизнуть.
– Пусть все на свете щуки думают, что им угодно.
Некоторое время мы молчали. Потом она наклонилась надо мной и шепотом произнесла одно слово. Это было имя, каким когда-то она называла меня.
– Дан.
Так она говорила иной раз в том, былом мире. Я поднял на нее глаза. Она еще немного нагнулась, так что ее лицо почти касалось моего лица.
– Ева… – прошептал я.
– Вот и лежим мы с тобой на чьей-то дедовской кровати и называем друг друга прежними именами, – сказала она.
– Между прочим, кровать удобная, – констатировал я и засмеялся.
– Очевидно, все это не такое уж далекое прошлое, как мне казалось.
Она тоже засмеялась и что-то игривое появилось в ней. Я был совсем сбит с толку.
– Ты остался верен себе, это очень хорошо, – шепнула она.
– Но ведь прошлого не воротишь, – ответил я. – Или…
– Или что? – повторила она и задумалась.
Я молчал. Она опустилась на свою подушку и, глядя в потолок, задумчиво ответила:
– Прежней дружбы, пожалуй, нет. Я думаю, это оттого, что мы теперь лучше знаем жизнь и… я думаю…
Что она думала в эту минуту, я так никогда и не узнал. Это осталось невысказанным. Ибо тут двум погибающим от жажды будто дали пить, и они пили, пили.
Когда наутро старая щука вплыла в комнату с завтраком, круглые рыбьи глаза так и поблескивали.








