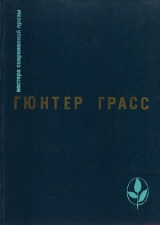
Текст книги "Встреча в Тельгте"
Автор книги: Гюнтер Грасс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
16
«Ничто, безумие, обман – такой удел нам свыше дан…» Все кончилось плачевно. Ужас закрасил зеркала черным цветом. У. вспоротых слов вывалилось нутро смысла. Надежда изнывала от жажды у засыпанного колодца. Рушились выстроенные на песке стены. Мир был оплеван. О фальшивый блеск его. Сухие корчи некогда зеленых ветвей. Нежная белизна савана. Изящная подмалевка трупа. Игра ложного счастья… «Се человек, кого влечет течение покуда. Кто он? Лишь времени причуда!»
Сколько длится война, столько они и бедуют – с тех пор как вышли ранние лиссанские сонеты Грифиуса, бедуют безутешнее прежнего. Как ни чувствителен был их глагол к соблазнам, как ни прилизывали они природу на пасторальный манер куртинами да гротами, как ни легко соскальзывали с их уст звонкие пустячки, более затемнявшие, нежели просветлявшие смысл природы, последнее слово их всегда было юдолью печали. В прославлении избавительницы-смерти понаторели даже скромного дарования поэты. Снедаемые жаждой славы и почестей, изощрялись они тем не менее в картинах тщеты человеческих устремлений. Молодежь особенно круто расправлялась в своих строках с жизнью. Но и для зрелых мужей прощание с земным прельщением было делом столь обыкновенным, что душеспасительные стенания их усердно творимых (и умеренно вознаграждаемых) заказных стихотворений стали даже чем-то вроде моды, отчего Логау, верный рассудку, мог вовсю потешаться над предсмертным томлением своих коллег. А с ним не без охоты переворачивали иной раз мрачную рубашку карт, любуясь веселыми картинками на обороте, и некоторые умеренные защитники тезиса «Все – суета сует».
Потому-то Логау, Векерлин и вполне мирские Гарсдёрфер и Гофмансвальдау считали чистой воды суеверием распространенное мнение, будто конец мира, должный подтвердить правоту взывающей к нему поэзии, не за горами. Однако ж прочие – среди них и сатирики, и даже мудрый Дах – хоть и не думали о Страшном суде неотступно, по чувствовали его приближение всякий раз, когда над миром сгущались политические тучи, что с ним бывало нередко, или когда завязывались в тугой узел тяготы повседневной жизни – например, когда признание Гельнгаузена превратило пиитический пир в разнузданное обжорство, а веселие стихотворцев обернулось неизбывным унынием.
Один лишь Грифиус, мастер мрачных видений, излучал свет бодрости. Он был в своей стихии. А потому спокойно противостоял напору хаоса. Его представление о миропорядке покоилось на иллюзорности и тщете. Он смеялся: с чего такой скулеж? Разве ведом им добрый пир без горького похмелья?
Сонм пиитов, однако ж, долго еще мысленно витал над бездною ада. То был час смиренного Гергардта. Рист не уступал ему в рвении покаяния. В Цезене клокотал сатанинской силы вулкан. Гримаса скорби исказила свежий лик юного Биркена. Уйдя в себя, Шефлер и Чепко искали спасения в молитве. Издатели – а прежде всех обычно не унывающий кузнец начинаний и планов Мюльбен – чуяли близкий крах своего ремесла. Альберт припомнил стихи своего друга Даха:
Смотри, как жизнь проходит.
Пока ты ждешь и пьешь.
За пиром мор приходит.
От смерти не уйдешь.
До конца испив свое горе, стихотворцы принялись обвинять друг друга. Уличали особенно Гарсдёрфера – за то, что навязал им лиходея. Бухнер негодовал: любой прохвост, коли он за словом в карман не лезет и сыплет анекдотами, всегда может рассчитывать на расположение «Пегницких пастухов». Цезен укорил Даха: зачем дозволил приблудному охальнику держать речь в их узком кругу? Мошерош возразил: как бы там ни было, а расквартировал их он, этот негодник. Гофмансвальдау язвил: и тот, первый обман был штучкой злодейской, а ведь большинство поэтов только смеялось. Снова смотрел триумфатором Грифиус: ну о чем говорить! Во грехе погряз каждый. И никого на свете нет без вины. Как объединила их, людей разных сословий, печаль, так уравняет всех перед господом смерть.
Дах воспротивился этому обвинению всех, слишком походившему на оправдание каждого: тут не о порче нравов речь. И не о том, чтобы найти виноватого. Но – об ответственности. А ее, прежде других, несет он сам. Он виноват более других. Во всяком случае, в Кёнигсберге он не сможет расписать их позор – его позор в первую очередь – как забавный анекдот. Но что делать теперь, не знает и он. Отбывший, к сожалению, Шюц прав: начатое дело надобно кончить. Бежать не годится.
Когда Гарсдёрфер принял всю вину на себя и сказал, что ему следует в наказание уехать, с ним никто не согласился. Бухнер заявил: его упреки вызваны раздражением, не более. Если уедет Гарсдёрфер, то и он, Бухнер, уедет.
Нельзя ли, предложил негоциант Шлегель, устроить тут что-то вроде суда чести, как это водится в ганзейских городах, и в присутствии Гельнгаузена обличить его злодеяние? Он, как человек со стороны, мог бы выступить судьей в этом деле.
«Да! Судить его!» – раздались крики. Нельзя допустить, кричал Цезен, чтобы этот малый и дальше сидел тут с ними да без конца дерзил. Рист заявил, что в присутствии разбойника нельзя принимать мирное воззвание пиитов. А Бухнер добавил: кроме того, сколь ни нахватан мерзавец во всяком и разном, нельзя забывать, что он круглый профан и невежда.
Походило на то, будто суд чести устраивал всех. Но когда Логау спросил, в какое время должно будет огласить очевидный приговор – сразу же или в конце процедуры – и кто возьмет на себя миссию пойти к мушкетерам и позвать сюда Гельнгаузена, желающих не нашлось. Лауремберг крикнул было: «Пусть это сделает Грефлингер, он любит важничать!», но тут вдруг все заметили, что Грефлингера-то среди них и нет.
Шнойбер сразу же заподозрил: якшается, верно, с Гельнгаузеном. Цезен добавил: замышляют, надо полагать, еще какую-нибудь мерзость «супротив немецких пиитов». Однако Дах их оборвал: пересудов он терпеть не мог. Он сам пойдет и посмотрит. Одному еще подобает пригласить сюда Гельнгаузена.
Альберт и Гергардт не захотели его отпускать. И вообще дразнить в такой час пьяных имперцев – дело небезопасное, заметил Векерлин. Совет Мошероша – призвать на помощь хозяйку, – прикинув так и сяк, отклонили. Громогласную реплику Риста: «Судить негодяя заочно – и баста!» – парировал Гофмансвальдау: только через его труп. Такое судилище не для него.
И опять все не знали, что делать. Молча сидели за длинным столом. Один Грифиус продолжал дуть в свою развеселую дуду: единственное лекарство от жизни – смерть.
Наконец Дах прервал процессуальный спор: завтра еще до начала последних чтений он поговорит с полковым писарем. Потом он предложил нам всем, благое ловясь, отойти на покой.
17
Грефлингер – развеем сомнения на его счет – пошел ловить рыбу. Со сваи сукновальни бросил он сеть и закинул удочки в Эмс. Тем временем глубокий., никем не тревожимый, беспробудный и благословенный сон объял двух других юношей. Череда утомлений в минувшую ночь, которую провели они вместе с Грефлингером и при свете луны со служанками, достаточно их укачала, толкнув из объятий всеобщего уныния в объятья Морфея. Шефлер еще прежде Биркена нашел покой на чердачной соломе, а вот три служанки не обрели его и после того, как догорел последний костер, – вместе с городскими шлюхами они стали достоянием свободных от караула мушкетеров и конников. Их ночные игры в конюшне слышны были на другом конце двора, достигали они и окон на фасаде трактира. Может, разошедшиеся по своим комнатам издатели и авторы потому и подливали масла в огонь литературных споров, что силились заглушить пронзительные вопли.
Пауль Гергардт наконец уснул, защитив себя молитвами от громогласных вожделений плоти, – молитвами, которые долго оставались напрасными, но увенчались все же успехом. Сходным образом совладали с греховным гвалтом и Дах с Альбертом: в своей комнате, ничем не напоминавшей о Шюце, друзья до блаженной устали читали друг другу из Библии – Книгу Иова, разумеется…
Но угомонились не все. Кое-кто продолжал свои поиски чего-то – или ничего. Возможно, опять оказывала свое действие луна, приводя в движение весь дом, не давая успокоения. Ничуть не утратив вчерашней округлости, стояла она над Эмсхагеном. Мне бы выть на нее, лаять вместе с трактирными псами. Но я вместе со всеми разносил тезисы и антитезисы нашего спора по лестницам и коридорам. Опять, как не впервой уже, все началось с Риста и Цезена – с перебранки двух очистителей языка. Правописание, произношение, онемечение, неологизмы. С этого перепрыгнули на теологию – и заплутались в ее дебрях. Вопросы веры волновали всех. И никто не хотел отдавать без боя ни одно преимущество протестантизма. Каждый чувствовал себя ближе других к господу. Никто не подпускал ветер сомнения к очагу своей веры. Вот разве Логау, кого (тайно) язвил дух свободы, все подзуживал непотребной иронией и лютеран, и кальвинистов: послушаешь вас, схоластов, в старонемецком или новоевангелическом духе, говорил он, так немедля захочешь бежать под сень папизма. Хорошо хоть Пауль Гергардт спал. А еще лучше, что старый Векерлин напомнил пиитам об их отложенном начинании – о политическом воззвании к миру.
В окончательном тексте должно отразить финансовые затруднения типографий – потребовали издатели; и авторов тоже – добавил Шнойбер. Надобно и простым горожанам, а не только высшим сословиям дать наконец возможность заказывать стихи на случай свадеб, крестин, похорон. Мошерош заметил: это справедливое притязание всякого христианина должно найти место в тексте мирного договора. Следовало бы, по его мнению, упорядочить в манифесте и гонорарный вопрос, установив таксу на вирши в зависимости от сословия и состояния заказчика, с тем чтобы можно было рифмой воздать по заслугам не токмо патрицию и дворянину, но и всякому бедняку.
Кончилось тем, что Мошерош, Рист и Гарсдёрфер сели за стол в комнате Гофмансвальдау и Грифиуса, в то время как все прочие, откупившись советами, разбрелись по своим кроватям. Покой медлил воцариться в доме, полном беспокойных гостей. Рядом с четырьмя сочинителями, бурно, точно борясь во сне с ангелом, спал уроженец Глогау – собственно, Грифа можно было числить среди авторов манифеста: даже его сонное бормотанье, выдававшее ход означенной борьбы, дарило составителям подчас иное меткое слово.
Когда же редакция, удовлетворенная если не новым вариантом текста, то хотя бы чистосердечием своих душевных затрат, разбрелась и каждый (выковыривая из головы репья застрявших фраз) пал на кровать, один Гарсдёрфер, деливший комнату с мирно почивавшим Эндтером, не мог сомкнуть глаз, и страдал он не только от назойливой луны в окошке. То одно, то другое лезло в голову, снова и снова. Хотел, чтоб заснуть, пересчитать овец, а вместо этого пересчитывал золотые пуговицы на Гельнгаузеновой безрукавке. Хотел встать, но продолжал лежать. Несся по коридорам, по лестнице, через двор – и не мог оторваться от пуховика. Что-то тянуло прочь и удерживало на месте. Гарсдёрферу хотелось отыскать Гельнгаузена, хотя он не знал зачем. Чувство, тащившее его через двор из постели, путалось между злостью на Стофеля и братской заботой о нем. Под конец Гарсдёрфер стал надеяться, что Гельнгаузен сам придет к нему и они вместе поплачут – над печальной судьбой, над неверным счастьем, над обманным блеском мира, над ничтожеством его…
Гельнгаузен, однако, плакался в это время хозяйке Либушке.
Она, старуха, всегда остававшаяся для него молодкой, а для его излияний – бездонной бочкой и помойным ведром, она, нянька, наложница и пиявка в одном лице, держала его голову на коленях и все слушала, слушала. Опять попутал его бес. Все у него не как у людей. Вечно где-нибудь да споткнется. А ведь и в мыслях не было разбойничать: собирался только тихо-мирно купить кой-чего у монашек в цесфельдском монастыре девы Марии, их-то он знал как облупленных – и длиннополыми, и голозадыми. Так нет, черт подослал ему под самые мушкеты этих шведов. Все, бранное ремесло пора ему оставлять. Испросить у Марса отставку да завести себе какой-нибудь спокойный гешефт. Ну хоть тот же трактир. Смогла ведь вот она из перелетной Кураж стать оседлой трактирщицей Либушкой. Уж у него и на примете кое-что есть. Тут неподалеку, под Оффенбургом. «Серебряная звезда» – так называется харчевня. Справится, чай, не хуже Кураж. Не лыком шит. Дело нехитрое. Вот и великий Шюц, вместо того чтобы всыпать ему по всей строгости, только отечески пожурил и советовал остепениться. Он, Стофель, в ноги ему повалился, испрашивая прощения, а тот, знаменитость, стал рассказывать ему о своем детстве в Вайсенфельсе на реке Заале: какой справный трактир «У Шюца» (то бишь «У Стрельца») держал там его отец. А под фонарем трактира стоял каменный осел, игравший на волынке. Вот такой осел сидит и в нем, Стофеле, рассмеялся Шюц да еще назвал его Простаком. А он возьми да спроси достопочтенного господина: считает ли он, что играющий на волынке осел, Простак тож, способен содержать справный трактир? «О, он способен не только на это!» – гласил ответ добряка.
Однако Либушка из богемских Брагодиц, которую (то нежно, то насмешливо) Стофель не уставал называть Кураж, думала почему-то, что шит он именно лыком, что от него – хозяина – толку будет как от козла молока, что под своим «не только на это» маэстро Саджиттарио подразумевал, конечно, растущие налоги да множащиеся долги. Черту Кураж подвела круто: для того чтобы заправлять трактиром и не остаться при этом внакладе, ему не хватает не только плотного зада, но и тонкой сметки, позволяющей отличить хвастуна-забулдыгу от добросовестного клиента. Тут уж молчавший доселе Гельнгаузен взорвался.
«Старая сквалыга! Собачье дерьмо! Шлюха! Погань вонючая!» – честил он ее. Обзывал пропащей каргою, сколотившей денежки срамным делом. С тех пор как Кураж подмяли рейтары Мансфельдовой конницы в Богемском Лесу, она-де всегда готова на все услуги. Целые полки можно составить из тех, кто ее потоптал. Поскрести только ее французскую замазку – сразу станет видно, какая она потасканная стерва. Она, сухой чертополох, не сохранила за всю жизнь ни единого ребенка, а мертвого выродка своего пыталась приписать ему! Ну, он с ней еще поквитается, она еще попомнит его, дайте только срок. Вот бросит он службу да разживется немного на трактирном деле – и сразу возьмется за перо. Да, да! Все, все выльет он на бумагу, что накопил на своем веку, все станет подвластно его слогу – и тонкая мысль, и грубая шутка. И ужасы войны дадутся его перу, и чумное веселье, и продажная Кураж со всеми ее потрохами. Уж он-то знает про ее темные делишки с самого Зауэрбрунна – как наживала да куда девала ворованные деньги, все знает. А о чем смолчала Кураж, то он, зоркий Стофель, заметил сам, а чего не заметил сам, о том шепнул ему приятель Шпрингинсфельд: как вела она свою торговлишку под Мантуей, какое зелье сплавляла в своих бутылках, сколько брауншвейгцев через себя пропустила… Все, все ему ведомо! Почитай тридцать лет распутства да лихоборства – все это он распишет по всем правилам искусства, так, что останется надолго!
Речь эта Либушку рассмешила ужасно. Прямо сотрясаясь от смеха, она сначала вытолкала из постели Гельнгаузена, а потом выкатилась и сама. Как – он, простак Стофель, полковой писаришка, хочет сравняться в искусстве с высокоучеными господами, собравшимися под ее кровлей? Это он-то, кувшинное рыло, с его вечным дурацким осклабом, воображает, что достигнет словесной мощи господина Грифиуса и мудрого красноречия Иоганна Риста? Да ему ли соревноваться с находчивым и изящным острословием господ Гарсдёрфера и Мошероша? И он, неуч, не прошедший магистерскую школу слово– и стихосложения, станет тягаться в виртуозности с хитроумнейшим Логау? Ему ли, не верящему ни в бога, ни в черта, дано будет превзойти божественные песни господина Гергардта? Ему ли, обозному оборванцу, конюху, простому солдату, только и выучившемуся, что грабить, жечь, обирать мертвых да еще вот – с недавних пор – кое-как водить пером по бумаге в полковой канцелярии, ему ли по зубам будут сонеты и духовные песни, потешные и остроумные сатиры, блестящие оды и элегии, а то и вовсе глубокие поучительные трактаты? Ему ли, простаку Стофелю, быть поэтом?
Смеялась Кураж недолго. Напоролась на противоречие прямо посреди фразы. Посреди издевательской фразы: мол, хотела бы она, Либушка, столбовая богемская дворянка, полюбоваться в напечатанном да переплетенном виде на то ослиное дерьмо, какое может выйти из-под пера голодранца Стофеля, – тут Гельнгаузен и ударил. Кулаком. Прямо в левый глаз. Она упала, кувырнувшись о какие-то сапоги и седла, коими тесно, как лавка старьевщика, была набита ее каморка, тут же вскочила и, нашарив рукой деревянную колотушку для сбивания пюре, поискала единственным уцелевшим глазом проходимца, ханыгу проклятого, хмыря болотного, аспида – но, увы, глаз ее не обнаружил ничего, кроме свалки, и с досады она долго, до устали била по пустому месту.
Гельнгаузен был уже за дверью. С плачем пробежал он через залитый лунным светом двор и, продравшись через можжевельник к берегу внешнего Эмса, нашел там плачущего же Гарсдёрфера. Томление бессонницы все же подняло поэта с постели. В сторонке, на сваях сукновальни, можно было разглядеть Грефлингера, удившего рыбу, но Гарсдёрфер туда не смотрел, не поднимал головы и Гельнгаузен.
Просидели на крутом берегу до утра. Говорили мало. Горе их было не из тех, каким можно поделиться. Ни упреков, ни раскаяния. Всю скорбь вобрала в себя река в красивом изгибе. Соловей ответствовал их печали. Может, бывалый Гарсдёрфер давал Стофелю наставления, как приобрести себе имя в поэзии. Может, Стофель уже тогда желал знать, равняться ли ему на испанских прозаиков. Может, проведенная на берегу Эмса ночь навеяла будущему поэту ту первую строчку – «Спеши, соловушка, уж ночь…», – которой начнется потом песнь шпессартского отшельника. Может, Гарсдёрфер загодя упреждал молодого коллегу держать ухо востро с выжигами-издателями. А может, в конце концов оба мирно заснули друг подле друга.
Встрепенулись, лишь когда обозначился день – криками да хлопаньем дверей в трактире. Там, где Эмс раздваивался, чтобы обнять Эмсхаген со стороны города и со стороны Текленбургской пустоши, качались на ветру поплавки. Бросив взгляд на сукновальню, я увидел, что Грефлингер свои снасти уже смотал.
На том берегу вставало за березами солнце. Прищурившись на него, Гарсдёрфер сказал: не исключено, что собрание будет судить Стофеля. Гельнгаузен ответил, что уже знает об этом.
18
Хоть и потертый вид был у трех служанок, когда они накрывали на стол, хоть и перекосило хозяйку Либушку, но утренняя похлебка удалась на славу. Да и грех было бы жаловаться – ведь намешано было в варево немало: и гусиные лапки, и поросячьи почки, и бараньи мозги (с увенчанной накануне головы) – остатки вчерашнего пира. А поскольку большинство приплелось в малую залу, пошатываясь от слабости, то похлебать горяченького было им сейчас даже целительнее, нежели утихомирить душевную тоску. О ней вспомнили прежде, чем все – от Альберта и Даха до Векерлина и Цезена – поработали ложкой.
Началось все – Биркен и еще кое-кто трудились над добавкой – с новых неприятностей: Векерлина обокрали. Из его комнаты исчез кожаный кошель с серебряными шиллингами. И хотя старец слышать не желал, будто это дело рук Грефлингера, высказанное Лаурембергом подозрение подкрепил Шнойбер: он видел, как сей вагант играл в кости с мушкетерами. Отягчал подозрение и тот неопровержимый факт, что Грефлингера с ними не было, – он же тем временем лежал в прибрежных кустах, отсыпаясь после утомительной ночной ловли, рядом с дохлыми уже и все еще трепещущими рыбами.
Дах, заметно досадуя на растущие неурядицы, обещал вскоре все выяснить, а пока что поручился за Грефлингера. Но вот что было делать со вчерашним бедствием? Куда деваться от эдакого ужаса? Можно ли теперь продолжать чтение рукописей как ни в чем не бывало? Разве не эхом пустой бочки будет отдавать любой стих после такой людоедской трапезы, как вчерашняя? Вправе ли собравшиеся поэты – вопреки столь ужасным открытиям: среди них находится, чего доброго, и вор! – по-прежнему полагать себя обществом почтенным, а тем паче со всею нравственною серьезностью готовить мирное воззвание?
«Разве не стали мы совиновны оттого, что слопали вчера разбойничью добычу?» – спросил Биркен. Свинство, не лезущее ни в какую сатиру, казнился Лауремберг. Могучие телеса Грифиуса, в которых еще бродило монастырское питие, изрыгали лишь нечленораздельный клекот. А Векерлин свидетельствовал: после такого разгула чревоугодия горько блюет даже обжорливый Лондон, сей ненасытный Молох. Цезен, Рист и Гергардт во все новых и новых метафорах провозглашали свое глубокое покаяние.
(Не оглашал никто того, что запряталось в складках мировой скорби личною кручиной: Гергардт, к примеру, опасался, что не видать ему теперь прихода как своих ушей; Мошерош боялся другого – что и друзья теперь не поверят в его мавританское происхождение, а станут громко поносить, обзывать жидом и побивать словами, аки каменьями; недавно утративший жену Векерлин шутками прикрывал свою глубокую печаль. Старик просто с ужасом думал о возвращении в пустой дом на Гардинерлейн, где немало лет прожито ими вместе. Скоро уж ему в отставку. Другой поэт, Мильтон, сменит его в свите Кромвеля. Страхи, страхи…)
И все же ночь не прошла для Симона Даха даром, он сумел собраться с духом и в передрягах. Выпрямившись, насколько позволял ему средний рост, он сказал: у каждого из них впереди предостаточно времени поразмыслить о здешнем прибавлении своих грехов. Утренний суп все хлебали с большим аппетитом, стало быть, дальнейшим ламентациям не должно быть места. Поскольку Гельнгаузена за столом не видно и вряд ли можно ожидать, что он, преодолев угрызения совести, явится на дальнейшие чтения, то нет и оснований для суда над ним, тем более что такой суд был бы самоуправным, даже, можно сказать, фарисейским. А так как он замечает одобрение на лице друга Риста, который важен сейчас не как поэт, а как пастор, и так как молчание Гергардта может означать лишь, что и сей смиренный и строгий христианин с ним согласен, то он хотел бы теперь – если Лауремберг перестанет наконец болтать со служанками – познакомить всех с распорядком дня и продолжить встречу, снова предоставив ее неистощимому попечению господню.
Пошептавшись после этого с Альбертом – попросив его отыскать все еще досаждающего своим отсутствием Грефлингера, – Дах назвал последних поэтов, которым еще предстояло выступить: Чепко, Гофмансвальдау, Векерлина, Шнойбера. С места требовали, чтобы и он, Дах, к вящей радости всех, прочел наконец свою элегию, посвященную утрате Тыквенной хижины, однако председатель собрания, ссылаясь на нехватку времени, пожелал уклониться. Поскольку, однако, Шнойбер (побуждаемый к тому Мошерошем) отказался от выступления, то было решено заключить этим стихотворением всю программу, ибо требуемое Ристом и прочими обсуждение политического манифеста пиитов, их мирного воззвания – были готовы две новые редакции, – Дах хотел провести вне рамок профессионального собрания. Он сказал: «Торжище о войне и мире да не допустим мы на Парнас, на коем и без того дел нам довольно. Ибо не озаботимся оградой – мороз не пощадит наши посадки, и взращенное нами увянет, и останемся ни с чем, как библейский Иона».
Его озабоченность нашла отклик. Согласились обсудить и принять мирное воззвание между последним чтением и скромным (по общему требованию) обедом. После трапезы – хозяйка обещала, что все будет честно, то бишь жидко, – поэты должны были отправиться восвояси.
Наконец-то в хаосе прорезался план. Симон Дах, кормчий и кровельщик, опять доказал, что недаром носит свое имя-сень, и мы снова ожили, повеселели: посыпались даже шутки. Биркен разыгрался до того, что предложил на прощание увенчать Даха лавровым венком. Но тут Лауремберг спросил хозяйку, обо что это она стукнулась, нажив себе синяк, – не о кровать ли? – и все опять вспомнили о вчерашнем кошмаре.
Либушка долго упорствовала в молчании, но потом ее как прорвало. Нет, это не столбик кровати. Это мужская доблесть Гельнгаузена. Господа, верно, так и не поняли, какую злую шутку сыграл с ними этот отпетый негодяй. Чего бы ни намел он своим помелом, все это сплошное вранье – даже и то, в чем он повинился для вида перед Саджиттарио. Ни у какого шведа не отбивали фураж рейтары и мушкетеры Гельнгаузена – все сами добыли, своими руками, по локоть в крови, как и привык этот бравый трепач. Слава у него еще та! От Зоста до Фехты знают его зеленую безрукавку. Уж его-то не умолит никакая непорочная дева. В его руках заговорит и немой. Церковное серебро, кстати, да алтарные покровы, да вино – все это он оттяпал у потаскушек из монастыря в Цесфельде. Тут хоть и стоят кругом гессенские войска, да проныра вроде Гельнгаузена всюду пролезет. Так и вьется как вьюн меж лагерями. А верность хранит только своему собственному знамени. И ежели господин Гарсдёрфер все еще думает, будто папский нунций взаправду дал Стофелю книжку с бабьими пересудами, чтобы автор ее надписал, то она должна разочаровать его тщеславие: Гельнгаузен просто подкупил служку нунциатуры, и тот выкрал для него экземпляр из библиотеки кардинала. А книжка-то даже и не разрезана. О, Гельнгаузен мастак и не на такие проделки. Сколько лет водит за нос и самых знатных господ. Уж она-то на собственной шкуре узнала, что он хуже любого черта!
Дах был так потрясен, что с трудом взял себя в руки и помог опомниться остальным. На Гарсдёрфера жалко было смотреть. Гнев омрачил даже обычно добродушного Чепко. Кабы Логау не отмахнулся шуткой: мол, что муж, что жена – одна сатана, того и гляди, вспыхнул бы новый диспут. Дах благодарно поддержал остроумца: покамест с них довольно! Не сейчас разбирать, где тут ложь, а где правда. Да отвратят они уши свои от новой свары. Да внемлют теперь только гласу искусства, которое да не оставят без своего призора.
Но тут Дах снова испытал досаду – Альберт ввел Грефлингера в малую залу. Он уж начал было осыпать упреками длинногривого бурша: что это тот себе позволяет? Куда запропастился? И не он ли это запустил руку в Векерлинов карман? Но тут Дах вместе со всеми увидел, что принес Грефлингер в двух ведрах: голавлей, плотву и прочую рыбу. Юноша, обвешанный сетью и леской, кои позаимствовал накануне у вдовы тельгтского рыбаря, был живописен. Удил он всю ночь. Даже в Дунае голавли не лучше. Да и плотва сойдет, коли поджарить ее как следует. Все это можно будет подать к обеду. А кто еще назовет его вором, с тем он поговорит по-свойски.
Желающих испробовать Грефлингеровы кулаки не нашлось. Честно добытая рыба кому не понравится. За Дахом они потянулись в большую залу, где рядом с пустым табуретом высился их символ – чертополох.








