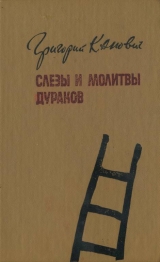
Текст книги "Слезы и молитвы дураков"
Автор книги: Григорий Канович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
XVIII
Избу ночного сторожа Рахмиэла как будто свежим ветром продуло, солнцем просквозило. В кои-то веки мыли в ней пол, а сейчас покатые половицы сверкали чуть ли не по-пасхальному, а на двух вымытых окнах колыхались занавески, припрятанные Рахмиэлом на тот случай, когда приведет он в свою развалюху третью жену. Но поскольку господь бог третьей жены не послал – хватит, мол, Рахмиэл, и двух, – пылились занавески в сундуке вместе с другими, совершенно не нужными хозяину вещами: длинной ночной сорочкой первой жены, большой, пожелтевшей от времени картой Российской империи со всеми ее владениями, только еще без ковенского тракта (как она попала к нему, Рахмиэл и сам толком не знал), верхним пологом свадебного балдахина, расписанного причудливыми узорами, разукрашенного диковинными животными: не то молчащими львами, не то рычащими рыбами (недосуг было его разглядывать!), маленьким оловянным рожком, в какие во все легкие дуют на праздник симхес-тойры. Иногда Рахмиэл вытаскивал рожок, прикладывал к запекшимся от старости губам и невнятно и буднично трубил в избе от скуки и одиночества. Трубил и вспоминал своих детей, вымерших от неведомой хвори, и град леденцов в молельне, когда он сам был маленький, и молодого рабби Ури со свитком в руках, как с облаком.
В кои-то веки мыли в избе пол и в кои-то веки хлопотала в ней женщина! Пусть чужая, пусть чудная (слыханное ли дело, чтобы баба сапожничала!), но женщина.
Правда, что-то мешало Рахмиэловой радости.
Чистота и порядок, преобразившие избу, сопрягались в намаявшемся мозгу Рахмиэла с чем-то неминуемым и неумолимым. Жизнь захламляет, смерть прибирает, думал он, глядя на женщину, на ее крепкие руки, на ее огромные колени, зажавшие верх башмака, на сосредоточенное, изуродованное бородавками лицо. Это смерть помыла пол, чтобы он, Рахмиэл, лег не в грязь, не в вонь, не в плесень, это смерть занавесила окна, чтобы зеваки не заглядывали в избу. Но почему смерть чинит его башмаки, ночной сторож не понимал.
– Чего он не идет? – пробасила Ципора, приколачивая к левому башмаку Рахмиэла подметку. Ну зачем он ему, левый башмак? Зачем? Нога все равно не образумилась, болит, мочи нет.
– Придет, – отрешенно ответил он.
– Укокошат его когда-нибудь, – сказала Ципора.
Она зажала между огромных колен другой, правый, башмак и принялась прибивать набойку.
– А его… мужа твоего… как зовут? – осторожно спросил Рахмиэл, прислушиваясь к стуку молотка и постепенно успокаиваясь.
– Цви, – сказала Ципора.
– Цви? – разочарованно выдохнул Рахмиэл.
– А разве он назвался по-другому?
– Он сказал: Арон!..
– Слушайте вы его! – отмахнулась Ципора.
– Может, все-таки Арон?
– Какой еще Арон?
– Который в рекрутах был, – промямлил ночной сторож, и изношенное, как башмак, сердце заколотилось неприлично громко.
– Цви в рекрутах никогда не был, – поплевывая гвоздочками, ответила Ципора. – А вам говорил: был?..
– Да.
– И вы поверили?
– Да.
Напрасно она ухмыляется. Если бы только знала, как ему сейчас хочется, чтобы звали его не Цви, а Арон, и чтобы он был в рекрутах! Был и вернулся обратно, и простил его, и проводил в последний путь, туда, где лежит весь Рахмиэлов выводок, две уточки и пять селезней… Рахмиэл слушал сапожничиху, и что-то в нем беззвучно рушилось, и ему было жалко того, чего никогда не было, но вошло в его душу, как звук рожка на празднике симхес-тойры, как град леденцов, сыпавшихся в незапамятные времена на его кудрявую русую голову.
– Только дураки ему и верят, – сказала Ципора и спохватилась. – Я не про вас…
– Почему же?.. И про меня… Но что делать, если дуракам ничего другого не остается?
– Чего не остается?
– Ничего другого…
Разве ей объяснишь?
– Страшно, – сказал Рахмиэл, – когда у тебя все отнимают дважды: сначала то, что у тебя есть, потом то, чего нет, но во что ты веришь.
Ципора вытаращилась на него и по-птичьи, на плечо, как на крыло, наклонила голову. Ах, эти евреи, чтобы они живы и здоровы были, путаники, мудрецы засранные, краснобаи докучливые!.. Хлебом их не корми, только дай посудачить, порассуждать, навести тень на плетень, но ей, ей-то какое дело до их выдумок, до их блажи, до их бредней?! Скоро заметет, завьюжит, запуржит, и, если не пригнать его вовремя домой, пророк ее, горе ее, отец ее детей протянет где-нибудь… в такой вот развалюхе… в придорожной корчме… в закутке молельни… в чистом поле ноги… или прихлопнут его за все пророчества… будет ему тогда и лестница в небо… будет и судный день!..
– До вечера подожду и, если не объявится, двинусь дальше, – предупредила она, и было в ее предупреждении тоски больше, чем решительности.
Рахмиэл не отважился ее второй раз утешить. И про урядника, нагрянувшего к нему с допросом, он рассказывать не стал. Что толку от рассказов? Уж если Ардальон Игнатьич схватил его и запер в хлев, никакая Ципора его оттуда не вызволит. Прыщавый Семен, понаторевший в мирских делах, называет хлев урядника «нашей Петропавловской крепостью». Крепость не крепость, но лучше туда не попадать. В шестьдесят третьем, когда Нестеровича в этих краях еще не было, держали там литовцев-бунтовщиков: пригонят, запрут в хлев, поставят охрану. Солдаты ходят вокруг, ружья – наперевес, а литовцы в хлеву свои песни поют, с родиной, стало быть, прощаются. Поют, а он, Рахмиэл, стучит до зари колотушкой, как будто подбадривает несчастных. Сколько их тогда через этот хлев прошло, и не сосчитать.
Видно, и ему, этому Цви (или не Цви?) в ермолке с булавкой, приколотой к волосам, суждено через этот хлев пройти и спеть в нем свою прощальную песню. Споет и как в воду канет, и сменит ермолку на каторжный башлык.
Видит бог, он, Рахмиэл, не виноват перед ним: приютил, чем мог поделился – картошкой и молоком, – прыщавому Семену не выдал, урядника умасливал: «Не злоумышленник он, Ардальон Игнатьич!» А то что сумасшедшим обозвал, не беда. Пусть в безумцах походит, только бы на каторгу не загремел, только бы к своей жене Ципоре и к своим малюткам вернулся.
Как ни намекал раньше пришелец на его предательство, он, Рахмиэл, покуда никого не предал: ни пасынка своего Арона, ни сына, ни брата, ни чужака. Зачем же слабому его слабость в вину вменять? Если бессилие перед злом – предательство, то сколько их, предателей, на свете? Ткни в каждого второго и не ошибешься. Весь мир для слабого – Петропавловская крепость, даже если он, слабый, и на свободе… И разве не в слабости сила господа? Потому-то и похож он на каждого второго… потому-то каждый второй молится ему и не сердится на него, ибо что он может? Вот когда всесильный перед злом пасует, он воистину предатель. Не бессилие – вина, а сила, загоняющая в хлев, как в рай…
Господи, сколько лет Рахмиэл прожил, не думая, и вот на закате, в предзимье, в преддверии неминуемого обрушились на него думы, как недуг.
В избу неслышно вошел Казимерас, поманил рукой Рахмиэла и, когда тот приблизился, сказал:
– Беда.
– Стряслось что? – похолодев, спросил Рахмиэл.
– Сын Ешуа исчез.
– Семен? Как исчез?
– Взял ружье и ушел из дому.
– Что вы там шепчетесь? – не церемонясь, по-хозяйски воскликнула Ципора.
– Казимерас спрашивает… он спрашивает… можно ли ему свои сапоги принести? – солгал Рахмиэл, и липкая испарина – предвестница натужного кашля и волнения – покрыла его корявый лоб.
– Можно, – сказала Ципора. – Муженька моего разлюбезного не видел? Не про него ли шепчетесь?
– Не видел, не видел, – почему-то утвердительно закивал головой Казимерас.
– Не видел, а киваешь? – уличила его Ципора. Неожиданный приход литовца посеял смуту и в ее душе.
– Не видел, – по-гусиному вытянув голову, сказал Казимерас и, понизив до мышиного писка голос, обратился к Рахмиэлу: – Разве она не была?
– Кто?
– Морта.
– А причем здесь Морта? – совершенно запутался Рахмиэл.
– Бегает и ищет.
– Семена?
– Обоих… Семена… и того… в ермолке… мужа ее… Но пока ни того, ни другого.
– Слушайте, – рассердилась Ципора. – Не терплю, когда мужики шушукаются… Господь шепот для баб придумал, чтобы их в постель поскорей заманить… Вы что-то знаете?
– Ничего не знаем, – неестественно бодро произнес Рахмиэл.
– А я ко всему привычна, – обронила Ципора. – Как поле.
– Как что? – поперхнулся Рахмиэл.
– Как поле… Вот ваши башмаки, – сказала Ципора, встала со скамеечки для поминовения мертвых, подошла к окну, раздвинула занавеску. – Скорей бы вечер, – выдохнула она. – Скорей бы ночь.
– Будет и вечер, будет и ночь, – не то себе, не то Ципоре сказал Рахмиэл, и никто в избе не понял, какой смысл вкладывает он в эти слова.
Ципора постояла у окна, задернула занавеску, как будто что-то стерла в памяти или на небе, и выскользнула в сени.
– А Ешуа? – обмакнул ладонь в испарину Рахмиэл.
– Что Ешуа?
– Он-то что делает?
– Молится.
– Молится?
– Выгнал всех из корчмы и – в синагогу.
– Быть беде, – буркнул Рахмиэл. – Быть беде, если Ешуа народ из корчмы гонит… – И без всякой связи с предыдущим добавил: – Всегда мы так…
– Как?
– Молимся, когда убивают кого-то… Господи, хоть бы он уцелел… хоть бы живой вернулся!.. Просвети Семену несчастному разум!.. – Рахмиэл почесал затылок, повернулся к Казимерасу: – Сам знаешь, какой из меня нынче ходок… Но я пойду… На развилку… Или к Неману… А ты… на лесосеку ступай, а потом на мельницу… Морта обойдет избы… Может, он у кого-нибудь засиделся? И с Ициком я договорюсь… Неужели столько дураков одного дурака от пули не уберегут? А?
«А?» повисло в воздухе, как осенняя паутина.
– Она плачет, – прошептал Казимерас.
– Кто?
– Сапожничиха. Вы, что, не слышите?
Рахмиэл обул починенные Ципорой башмаки, натянул сермягу, подбитую клочковатым войлоком, взял колотушку и, припадая на левую, увечную, поплелся к выходу.
За ним молча последовал Казимерас, озадаченный его затеей. Не дело это – попусту шляться и чокнутого искать.
– Куда вы? – спросила в сенях Ципора, пряча глаза.
Тоже чокнутая, подумал Казимерас. Где это слыхано, чтобы баба хозяйство бросила, детей и пустилась, как гончая, по мужнину следу. Он, Казимерас, такую бы в два счета выставил.
– За сапогами, – пояснил Рахмиэл.
– Вдвоем за сапогами? Он, – Ципора показала на Казимераса, – один дорогу не знает?
– Мы скоро вернемся, – пообещал ночной сторож.
– А колотушка зачем?
– Как зачем? Стучать!
– Среди бела дня?
– А что? Белый день порой ночи черней.
– Это уж точно, – поддержала его Ципора.
– Жди, – бросил Рахмиэл.
И они вышли из избы.
Рахмиэл то и дело останавливался, ловил ртом воздух, долго и надсадно отхаркивал, стуча себе в грудь колотушкой. Казимерас косился на него, но не торопил: харкай, стучи, с кем не бывает.
– Рабби Ури сказал, что колотушка для того, чтобы будить смерть, – почему-то вспомнил Рахмиэл. – Ерунда!.. Колотушка – благовест, а не панихида…
– Колокол лучше, – сказал Казимерас. – И когда беда, и когда праздник.
– У каждого свой колокол, – возразил Рахмиэл, – у меня колотушка, у тебя ветер в легких, у рабби Ури голова…
Рахмиэл снова отдышался, и Казимерас сквозь фырканье, хрюканье, сморкание услышал:
– Ты – на лесосеку, я – на развилку…
– А сапоги?
– Починит она твои сапоги, если он живой вернется… Сядут оба и вмиг починят… Он – левый сапог, она – правый… А если Семен его… – Рахмиэл сглотнул слюну, – то ходить нам с тобой, Казимерас, в дырах, и никакой сапожник их не залатает.
– В дырах?
– Когда все мои после той трижды проклятой свадьбы… вымерли… когда я один остался… сейчас, сейчас, дай только отдышусь… пришел я в избу… добрел до зеркала, чтобы завесить его одеялом, и увидел себя… увидел и обомлел: весь, как решето… места живого нет… дырка на дырке… и сквозь каждую ветер свищет… и сквозь каждую мои деточки… две уточки и пять селезней… крякают… кря-кря…
Они собрались было разойтись в разные стороны, Казимерас – на лесосеку, Рахмиэл – на развилку, как вдруг над местечком в небо взметнулся огромный столб дыма. Он клубился, разрастался, как чудовищный гриб, медленно и тяжко поднимался вверх, и пламя багровым ведьминым хвостом подметало чью-то крышу.
– Что-то горит, – сказал Казимерас. – Железом… горелым железом пахнет.
– Спиваки?
– Похоже, Спиваки, – вздохнул Казимерас, и от его вздоха пламя разгорелось пуще прежнего.
– Как бы все местечко не слизало! – опечалился Рахмиэл. – Ветер-то какой!. Огонь на корчму перекинется… потом к Фрадкиным… потом на костел…
Он впился глазами в угорелую даль, но взгляд его не был в состоянии ни погасить пламя, ни рассеять темно-серые клубы дыма.
Казимерас яро перекрестился, словно крестным знамением хотел защитить от пожара не столько себя, сколько деревянный костелишко.
– Пламя костел не тронет.
– Почему?
– Заклятья ваши на нас не действуют, – объяснил Казимерас.
– Какие еще наши заклятья?.. Что ты, Казимерас, мелешь?
– Может, говорю, тот… в ермолке с булавкой… который Ароном назвался… колдун?.. А баба его – ведьма?.. Где это слыхано, чтобы баба сапожничала?
Рахмиэл уставился на Казимераса, как на пожар.
– Тогда… когда он сидел на крыше… я своими ушами слышал: «Господь бог воздаст за каждый гвоздь.»
– И я слышал, – сказал Рахмиэл. – Ну и что из этого? От слов еще ничего на свете не вспыхнуло и не погасло?..
– Это от простых слов, – промолвил Казимерас. – А от колдовских… и реки горят… Может, говорю, не стоит связываться с нечистой силой из-за пары подметок?..
– А вдруг он все-таки – Арон?
– Да вы что – пасынка не узнали бы?..
– Столько лет прошло!..
– А родинка на правом плече?..
– Не было у него никакой родинки… В том-то и дело… Придумал я ее…
– Придумали? Зачем?
– Чтобы вспомнить что-то…
– А разве можно вспомнить то, чего не было?
– Можно… Только для этого надо все забыть…
– А забывать зачем?
– Чтобы память не удавила… Вот я и выкинул ее – веревку. А человек без такой веревки, оказывается, не может… то ее затянет, то отпустит…
– Все сейчас на пожаре, – сказал Казимерас. – Чем по лесам рыскать, лучше там его поискать!..
– Пока доберемся, все и сгорит, – ответил Рахмиэл, снимая башмаки.
– Такой дом, как Спиваков, огонь не скоро одолеет, – резонно заметил Казимерас. – Даже если гасить… часок еще поработает!..
– Босиком пойду. Так легче. – Рахмиэл связал оба башмака шнурком, перекинул через плечо и, прячась за спину Казимераса от боли и от памяти-веревки, зашагал по проселку к местечку.
Дыму над Спиваковой крышей поубавилось, столб утончился, из темно-серого превратился в сизый, просвечивающийся, но сполохи огня, как летние зарницы, по-прежнему крестили небо.
Рахмиэл шел не спеша, башмаки постукивали его по спине, и это постукивание, как давно забытое похлопывание матери, успокаивало и умиротворяло. Все мы погорельцы, думал он, и те, у кого крыша, и те, у кого ее нет, каждый день что-то сгорает в нас, и над нами, и вокруг, но разве теплеет от этого в мире, разве светлеет?
– Что это у вас за свеча, которая не гаснет? – спросил Казимерас и обернулся. – Столько лет гашу свечи и никогда о ней не слышал.
Ночной сторож пожал плечами.
– Здесь она вроде бы… – И Казимерас двумя пальцами, как щепоть табака, нащупал сердце. – Так говорил тот… в ермолке. – Он не знал, как его называть: колдуном, Ароном, бродягой, чтобы Рахмиэл не обиделся. – Она вроде бы и после смерти горит… Что это за свеча? – донимал его литовец.
Казалось, кроме этой свечи, Казимераса ничего не интересовало: ни сполохи над Спиваковой крышей, ни пришелец, пропавший без вести, ни Рахмиэл.
– Свеча надежды, видать, – сказал ночной сторож. – Только ее не задуешь.
– Почему?
– Потому что даже тогда, когда ты весь, как решето… когда через дыры ветер свищет… кто-то подносит к ней головешку, и она снова вспыхивает, и снова горит…
– А если нет головешки? – серьезно спросил Казимерас. – Что тогда?
– Тогда от солнца… от пера синицы… от доброго взгляда… от свитка в молельне… Да от чего только евреи не зажигают свечу надежды…
– А мы?
– И вы, и русские, и соседи наши – немцы, и турки…
С пожарища долетели крики:
– Куда прешь с пустым ведром?
– Слева заходи! Слева!
– Сейчас рухнет!
– Пошевеливайся!.. Стоишь, как у жениха на свадьбе…
– Лопаты! Лопаты берите! Ров копайте!
– Хаим! Хаим! Я умру со смеху!.. Мы горим!..
– Отведи его в корчму!
– Нет, Ешуа… Только не в корчму!..
– Глубже копайте! Глубже!
– Честное слово Нафтали Спивака. Всех, всех одарю!
– Пеплом?
– Заткнись!
– Подмога пришла!
– Да какая Рахмиэл подмога?
– А Казимерас?.. Дунет и погасит.
– Сегодня не суббота!..
Позвякивали все новые, рассчитанные на продажу ведра москательно-скобяной лавки братьев Спиваков, скрипели все лопаты, стоявшие еще вчера в ожидании покупателей и сверкавшие своими свежеобструганными черенками, а все вилы, предназначенные для скирдования соломы, для погрузки и разбрасывания навоза, выгребали из огня обгорелое, накопленное за долгие и смутные годы добро.
Плеск воды перемешивался с глухим падением балок, с потрескиванием и гусиным шипением головешек, с мяуканьем кошки, оплакивавшей своих котят, с могильным шорохом глины во дворе, и разве что ров мог остановить настырное и любопытное пламя, стелившееся по земле.
Чуть поодаль от москательно-скобяной лавки, в перекопанном дворе, высилась груда всякой всячины: начиная от граблей и конской сбруи, плоских борон и непроданного за лето дегтя до роскошной собольей шубы Хаима Спивака на блестящей шелковой подкладке (о, если бы путь евреев был так гладок и блестящ!) и пухового одеяла малинового цвета.
Нафтали Спивак расхаживал вокруг этой груды, как солдат вокруг ружейного склада, и время от времени оглашал двор не то криком, не то певучим плачем:
– Ой, я умру со смеху!..
– Пожар, Нафтали, не смерть, – успокаивал его корчмарь Ешуа, примчавшийся из молельни в праздничной ермолке и талесе. – Отстроитесь!
– Отстроимся, Ешуа, отстроимся!.. Ты мне лучше вот что скажи: почему Хава… сестра моя… повесилась?
– Бог с тобой, Нафтали!.. Совсем ополоумел от горя!..
– Почему?
– Нечего на пожаре счеты сводить, – прохрипел Ешуа, – и виноватых искать… Среди живых, Нафтали, нету невинных!.. Раз живешь, значит, виноват…
К груде спасенного от огня барахла и товаров то и дело подходили люди, сваливали то, что удалось вынести из лавки и из дому, смотрели исподлобья на расхаживавшего Нафтали, на празднично одетого корчмаря и спешили назад, туда, где позвякивали ведра и над пожарищем плыла гарь, смешанная с густым паром.
Командовал пожарниками-доброхотами Хаим, весь перепачканный сажей, в обгорелой ермолке и разодранном черном сюртуке, полы которого были распахнуты и оголяли небольшое, как птичье яйцо, брюшко и тонкие серповидные ноги. Изредка Хаим громко и как-то жалобно вскрикивал:
– Осторожно! Осторожно!.. Только без спешки!.. Такого зеркала нигде не достать.
Видно, отражалось в том зеркале не только пожарище, не только перепачканное сажей лицо, а что-то такое, от чего Хаим вздрагивал. Он смотрелся в него, как в свое безмятежное детство, как в свою беспечную юность, когда все на свете совпадало: предмет и отражение, мысль и ее отблеск, сегодня и завтра.
Цепь от москательно-скобяной лавки до колодца редела, и добровольцы, передававшие друг другу воду в новехоньких Спиваковых ведрах, стали расходиться кто куда. Безрадостная толока подходила к концу.
– Спасибо, – глухо, глотая, как застрявшие рыбьи кости, комки и раздирая похоронной благодарностью горло, говорил Хаим. – Спасибо! Эти ведра… эти вилы… эти лопаты – ваши!.. Навсегда!.. Кончилась москательно-скобяная торговля братьев Спиваков.
Добровольцы мешкали, мялись, переглядывались, ждали, кто первый понесет даровщинку домой, колебались: а вдруг Хаим опомнится и еще сдерет с них втридорога.
– Берите, – сказал Казимерас Рахмиэлу и протянул ему ведро со сверкающей дужкой. – Не бойтесь! Не отнимет!.. Я в нем полколодца перетаскал!
– Нет, – заупрямился Рахмиэл. – Кто за добро себе плату требует, тот не творит его, а торгует им. Смотри, смотри! – зачастил он. – Господи! Арон!.. Но почему без ермолки?
К дотлевающей москательно-скобяной лавке братьев Спиваков, неся на сдвинутых ладонях ермолку, как миску, семенил тот, кто назвал себя пасынком.
– Что это он несет? – забыв про вилы и лопату, полюбопытствовал Казимерас.
– Ума не приложу.
Пришельца заметил и Нафтали Спивак:
– Хаим! Хаим! Ты только посмотри, кто к нам идет! Ой, я умру со смеху!.. Это же тот, который у меня гвоздей на сорок копеек в долг взял… тот, который… Что это у него в руках?.. Сторица господа?..
– Какая сторица?
– Господь бог, сказал он, воздаст вам сторицей! – бушевал Нафтали.
– Не он ли лавку подпалил?
– Может, и он, – посеял дьявольское семя Нафтали.
– Ату его! Ату!
– Уряднику сдать!
– Нечистый!
Пришелец приближался к пожарищу. Шагов сто отделяло его от руин москательно-скобяной лавки, зиявшей уродливыми глазницами окон и обугленными провалами дверей.
– Вон!
– Пинком его в зад!
– Собак на него спустить! Собак!
Толпа искрилась ненавистью, гикала, шумела. Она вдруг лишилась глаз и превратилась в одну дремучую бороду, в один разинутый рот, изрыгающий проклятья. Праздник мести и безнаказанности захлестнул ее, как паводок, и расправа стала лакомством, таким же желанным, как пирог с изюмом и корицей.
Осанна им, осанна долгожданному суду и возмездию! Осанна погрому!.. И не важно, над кем его учинят – над колдуном или бродягой, над посланцем неба или ада, над христианином или евреем. Пинков! Крови! Стонов! Униженная, трепещущая весь год, всю жизнь перед каким-нибудь уездным Нуйкиным, склоняющая с утра до вечера перед каким-нибудь местечковым урядником или лесоторговцем выю, толпа получила наконец сладостную, ни с чем не сравнимую возможность возвыситься над собственным трепетом, над собственным дерьмом, над собственным трусливым унижением. Сейчас каждый из толпы, пусть он и сам трижды несчастен, покажет, на что он горазд: будет пинать каналью, спускать на него собак, будет бить, топтать, рвать в клочья и обвинять колдуна во всех смертных грехах – в пожарах и самоубийствах, в своей бедности и тупости, в крушениях и несбывшихся мечтаниях. Ей, толпе, нужны сейчас не вилы, не лопаты, не хлеб, не соль, не ложь, не правда, а виновный!.. Осанна виновному, осанна!
– Намять ему бока!
– Вон из местечка!
С весело позвякивающими ведрами, с новехонькими вилами и лопатами, отданными ей сердобольными погорельцами, толпа двинулась навстречу пришельцу, несшему на сдвинутых ладонях ермолку, как миску.
– На вилы его!
– В деготь!
– В Неман!
До пожарища и двадцати пяти шагов не было.
– Стойте! – вдруг закричал ночной сторож Рахмиэл. – Назад! Что вы делаете, евреи? Он – мой сын… Арон!.. Он вернулся из рекрутов… Реб Ешуа, – обратился он к корчмарю. – Скажите им, пока не поздно. Реб Хаим! Вы же помните моего мальца!.. В картузе таком… с козыречком!.. Остановите их! Реб Нафтали!
Нафтали Спивак повернул на крик голову и зашагал вокруг своей груды – ать-два, ать-два, и не было на свете рекрутчины тяжелей, чем эта.
– Казимерас, – поглядывая то на приближающегося пришельца, то на толпу, бредущую ему навстречу, взмолился Рахмиэл. – Ты почему молчишь?
– Сын, – прошептал литовец.
– Но почему шепотом? Почему шепотом? Доколе же мы будем правду шепотом говорить?
– Но это ж неправда, – возразил Казимерас.
– Правда, – отрубил Рахмиэл. – То, что спасает человека, правда, то, что губит – ложь.
– Ха-ха-ха!
– Хи-хи-хи!
– Ой! – застонала вдруг толпа от хохота. – Ой, умора!
Она обступила пришельца, как скомороха в праздник-пурим, и, стуча о днища дармовых ведер, как о натянутые шкуры барабанов, по-капельмейстерски размахивая вилами, вскинув лопаты, как мушкеты, зашагала назад, к пожарищу.
– Ха-ха-ха!
– Мамочка дорогая!.. Такого олуха свет не видывал!
– Потеха!
Пришелец, казалось, не замечал толпы. Он был занят одним – во что бы то ни стало донести до тлеющей лавки то, над чем все вокруг смеялись. Собственная жизнь как будто не интересовала его, а если и интересовала, то только в той мере, в какой была связана с тем, что он нес.
– Реб Хаим!
– Реб Нафтали!
– Реб Ешуа!..
– Сюда! Сюда! Вы только посмотрите! Получите миллион удовольствий!..
– Что вы ржете, как лошади? – возмутился Хаим.
– Что там у него в ермолке? – настороженно спросил Ешуа.
– Вода!
– Обыкновенная вода!
– Из Немана!
– Черта с два! Из лужи!
– От нее за версту лягушками разит!
– А он, олух, твердит: волшебная… из Иордана…
– Богохульник!
– Мыши у него в голове совокупляются!
– Гнать его взашей, и вся недолга!
– Явился к шапочному разбору!..
– Кому нужны его вонючие капли? – наперебой орали бородатые евреи.
– Ша! Ша! – рявкнул Хаим Спивак. – Если человек пришел хотя бы с одной каплей, грех его гнать с пожара.
– Но он же сам лавку поджег!
– Так говорил реб Нафтали!
– Придуривается мерзавец!
– Это Арон…
– Какой еще Арон?
– Которого Фрадкин вместо своего Зелика сдал!
– Нашелся заступник!
– Ша! Ша! – снова рявкнул Спивак. – Пусть он подойдет. Расступитесь!
Толпа расступилась, и пришелец с ермолкой на сдвинутых ладонях шагнул к сгоревшей лавке.
Нафтали Спивак, расхаживавший вокруг своей груды, не сводил с него глаз и машинально, беспамятливо приговаривал:
– Ой, я умру со смеху!..
Неведомо откуда, видно, с соседнего двора, через канаву на пепелище забрела коза с козленочком. Она трясла бородой, поворачивала мудрую материнскую голову, назидательно мекала, а козленок, легкий, прыгучий как мячик пялился на мир своими простодушными счастливыми глазами и все ему вокруг нравилось: и люди, и пепел, и небо, и конечно же, мать с седой бородой и сморщенным выменем.
Понравился ему и звук, короткий, трескучий, как хворост, но облачка порохового дыма, повисшего гусиным пером в воздухе, козленок не увидел.
Когда пришелец поднял его на руки, козленок был мертв.
Только глаза его были такими же простодушными и счастливыми, как прежде.
– Господи! – воскликнул корчмарь Ешуа и бросился домой.
Коза-мать ничего не поняла, тыкалась мудрой головой в пепел, пощипывала травку и изредка поглядывала на своего козленочка, парившего на чужих руках в небе. Для коз небо начинается с бедра человеческого.
Между первым и вторым звуком был крохотный и скорбный промежуток.
Пришелец подпрыгнул, словно взмыл ввысь, согнулся, прижал козленка к простреленному животу и, не выпуская белый ворсистый кожушок из рук, грохнулся на землю рядом с оброненной ермолкой.
– Убили!..
– Не может быть!..
– Кто стрелял?
– Откуда?
Толпа хлынула к нему, и вместе со всеми, сбросив перекинутые через плечо башмаки, пятьдесят лет безрадостной и беспросветной жизни, ковенский тракт, чужие свадьбы и свои могилы, бежал ночной сторож Рахмиэл, и в целом мире не было таких здоровых, таких крепких, таких быстрых ног, как у него, даже у лани… даже у шакала…
– Арон! Арон!
Кто-то, оттерев Рахмиэла, наклонился над пришельцем, приложил к дорожному балахону ухо и, давясь неверной искупительной радостью, прошептал:
– Жив! Кажется, жив!
– Жив! – загромыхала толпа.
– Жив!
Кровь, обагрившая балахон чужака, запятнавшая белую шерсть козленка, была не та кровь, которую она, толпа, только что, полчаса назад, два выстрела назад, жаждала, обезумев от собственной низости.
Никто не отважился разъединить их: пришельца и козленка.
– В корчму, – сказал кто-то. – Она ближе всего… В корчму, пока он кровью не истек.
– Наденьте ему на голову ермолку, – сказал погорелец Хаим Спивак.
Рахмиэл поднял ее с земли, влажную от речной или родниковой воды, пришелец открыл глаза, и тогда, в этот первый или последний миг, откуда-то из небытия, из беспредельной его тоски или любви, из старой, стершейся по краям ермолки вытекла речка, в которой полоскала белье его красивая высокогрудая мать, шевелила плавниками счастливая рыба и, как в зеркале, уцелевшем на пожаре, отражалось все. Только без огня и крови, без гари и копоти, с облаками и козлятами, с люлькой и с лестницей на голубятню, как в небо. И текла эта речка по его лицу и по шерсти козленка, смывая с них кровавые пятна, а с лица и шерсти водопадом падала вниз, на разоренный двор некогда могущественных братьев Спиваков, на пепел, на единственную улицу забытого богом местечка, а с улицы струилась дальше и дальше – по всему уезду, по всему Северо-Западному краю, по всей черте оседлости, по всем городам и столицам, по всей земле, унося все беды и распри, возвращая каждому то, что у него отняли или он потерял…
Вот, отдуваясь, плывет его сын Исроэл, негодник, вот машут руками его сестры и братья, погибшие на погроме, вот на лодке пробирается по ней домой пасынок Рахмиэла рекрут Арон, вот выныривает из воды, как из петли, жена корчмаря Ешуа Хава, а жена рабби Ури Рахель переправляется на пароме на другой счастливый берег, вот…
Вода вдруг сменила окраску: из зеленой стала оранжевой, а из оранжевой – багрово-красной, словно глаза залило помидорным соком. Но речка все еще текла, не зеленая, багровая, и в ее багровости все смутней и неразличимей проступал профиль его красивой, высокогрудой матери, и рыба шевелила не плавниками, а малиновыми жабрами.
Зеваки повалили в корчму.
Во дворе остались только двое: Нафтали Спивак и коза.
Нафтали описывал ястребиные круги вокруг своей груды и что-то объяснял козе.
Но коза не слушала. Она озиралась по сторонам, искала своего козленочка и возмущенно мекала.
– Ты еще совсем молодая, – утешил ее Нафтали. – Родишь еще одного козленочка… А вот мы с братом… вторую лавку не родим… все, что нам остается, это умирать со смеху!..
Морта совсем сбилась с ног. Чего только она не делала, чтобы пришелец очнулся: прикладывала к ране листья подорожника и тысячелистника, разодрала свежую, хрустевшую, как сахар, простыню, не постеснялась на людях снять с чужака задубевшие, бог весть когда стиранные штаны и обвязать залитый кровью живот.
– Жена его ждет, – сказал Рахмиэл, и голос его, как комариный писк, просверлил каторжную тишину.
– Скоро, скоро, – пробурчал Ешуа. Как ему ни хотелось избавиться от пришельца, он делал вид, будто взволнован, по-отечески озабочен, даже предложил перенести раненого из корчмы в дом, к нему в спальню, но Хаим Спивак посоветовал не перетаскивать чужака без дела, пока не удастся остановить обильное, как у бабы, кровотечение.
– Ну как? – спросил корчмарь у Морты.
Морта села на край лавки, где лежал пришелец, взяла его руку, долго держала в своей, подула на нее губами и, словно выдирая самой себе зуб, сказала:
– Застыл!..
– Честь его памяти! – промурлыкал Ешуа. – Бог свидетель, мы сделали все, что могли.
Все подавленно молчали.
– Честь его памяти! – снова возвестил корчмарь и обратился к Рахмиэлу: – Где хоронить будем?
– Жена решит, – ответил Рахмиэл, прижимая к животу колотушку, словно у него самого вот-вот хлынет кровь.
Вошел прыщавый Семен, обвел всех взглядом, увидел покойника, скрюченного, жалкого, белую простыню в крупных кляксах крови, добрел до него, заглянул в мертвые глаза, сгорбился и по-вдовьи внятно и безутешно произнес:








