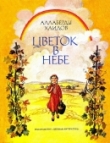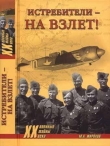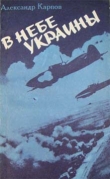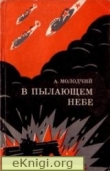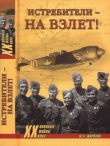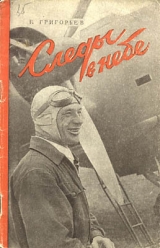
Текст книги "Следы в небе "
Автор книги: Григорий Григорьев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Коккинаки задумал долететь из Москвы до США за одни сутки. Он выбрал для этого путь, отличный от трассы, проложенной Чкаловым и Громовым.
Теперь пассажирские самолеты совершают по расписанию рейсы из Швеции в Японию через полюс. Иная сейчас техника, иные возможности. Но тогда регулярные полеты в Арктике были невозможны. В Северном Ледовитом океане очень каверзна и непостоянна погода. Здесь трудно создать постоянно действующие аэродромы. К тому же летчики умели летать только во время полярного дня. Воздушная связь могла быть только сезонной и должна была прекращаться на шестимесячную полярную ночь.
Вариант Коккинаки не зависел от времени года. По предложенному им пути можно было летать и летом и зимой. Трасса проходила через сравнительно населенные страны – Финляндию, Швецию, Норвегию, Исландию, Канаду, где не так уж сложно создать промежуточные пункты будущей воздушной линии.
...В сентябре 1959 года «ТУ-114» за 12 часов 21 минуту доставил Н. С. Хрущева и сопровождавших его лиц из Москвы в Вашингтон. Советский воздушный корабль на большой высоте пролетел над Швецией, Норвегией, Исландией, Канадой – по маршруту, намеченному двадцать лет назад В. К. Коккинаки. Несколькими днями раньше другой советский лайнер «ИЛ-18», на борту которого находилась, большая группа журналистов, с одной посадкой в Кефлавике (Исландия) прошел за 15 часов 13 минут тот же кратчайший путь из Европы в США.
Трасса через Северную Атлантику таит много трудностей особого рода. Хоть это и звучит парадоксально, воздушная дорога из Европы в Америку значительно длинней, чем в обратном направлении. Объясняется это тем, что над просторами Атлантического океана постоянно дуют бешеные ветры, всегда с запада на восток, прямо в лоб встречая самолет, идущий из старого в новый свет. Чтобы преодолеть сильные ветры, надо затратить много сил, времени и горючего. Вот почему путь из Европы в Америку дольше на 5—8 часов полета.
И во время последних рейсов «ТУ-114» из Москвы в Вашингтон приходилось преодолевать сильные встречные ветры, скорость которых была 150—200 километров в час.
Закончив свой исторический визит в США, Н. С. Хрущев прилетел в Москву за десять с половиной часов. Путь домой оказался намного легче: ветры были попутные.
...Из Америки в Европу люди стали летать еще в 1919 году. А вот попытки перелететь океан в обратном направлении в большинстве случаев кончались неудачей. Только немногим смельчакам удалось выйти победителями в поединке с Атлантикой и пролететь из Европы в Америку. Путь их лежал через южную часть океана, так как там есть острова, на которые в случае необходимости можно совершить посадку.
Коккинаки выступил в роли первооткрывателя воздушного пути из Европы в Америку через Северную Атлантику. Предстояло на сухопутном самолете пересечь несколько тысяч километров водного пространства. Вот почему так тщательно готовились к трансатлантическому рейсу.
От Москвы до восточных берегов США около 7000 километров. Принимая во внимание неизбежные встречные ветры, решено было взять с собой бензина на путь в 8000 километров. Больше самолет не мог поднять. И то приходилось во всем экономить, чтобы максимально облегчить машину. Даже сапоги летчику и штурману сшили из особо легкого сорта кожи. Кислород был взят жидкий, а не газообразный, требующий большего количества тяжелых стальных баллонов. Аварийный паек урезали до предела.
Когда журналист спросил Коккинаки: «Какие грузы будут на самолете, кроме продовольствия?», командир корабля ответил: «Пилот и штурман».
Наконец все готово. Краснокрылый моноплан вырулил на бетонную полосу аэродрома, которую прозвали «дорогой героев». Отсюда стартовали Чкалов, Громов, Леваневский, улетал на Дальний Восток и Коккинаки.
На плоскостях самолета выведены огромные буквы – «МОСКВА».
Рассказывают, что кто-то из инженеров предложил сделать эту надпись по-английски. Коккинаки, немного подумав, отказался.
– Пусть американцы учатся читать по-русски!
Ранним утром 28 апреля 1939 года, шипя, взвилась в небо стартовая ракета, и перелет на Запад начался.
По предварительным расчетам, самолет должен был лететь вдогонку солнцу, выгадывая на этом несколько часов светлого времени.
Когда самолет пролетел над Калинином, на горизонте показалось солнце и в бортовом журнале появилась первая запись: «Солнце начало свой путь на Запад, посостязаемся, кто кого обгонит».
Полет протекал точно по составленному графику. С борта самолета все время поддерживалась радиосвязь со штабом перелета, поместившимся в здании Центрального телеграфа на улице Горького.
На высоте 5500 метров самолет прошел над Хельсинки. Швецию и Норвегию увидеть не удалось: они были закрыты облаками. С еще большей высоты воздушные путники любовались угрюмым пейзажем «страны гейзеров» – Исландии.
На пути в Гренландию встретился мощный циклон. Чтобы миновать его, Коккинаки поднял самолет на высоту в семь километров. В течение многих часов летчик и штурман не снимали кислородных масок. Запас живительного газа быстро таял. Пришлось перейти на полуголодный паек. Над океаном летели в сплошной облачности. Переменчивые ветры то тормозили полет, то гнали самолет со скоростью 500 километров в час.
На последнем этапе пути пришлось подняться на девять километров, а кислорода в аппаратах оставалось совсем мало. Слабость охватила тело. Клонило ко сну. Кружилась голова. Напрягая все силы, Коккинаки, ориентируясь только по приборам, вел самолет «вслепую» к Нью-Йорку. Почти сутки он не выпускал из рук штурвала.
На американском континенте, вопреки прогнозам, погода оказалась отвратительной. Облака закрыли верхушки нью-йоркских небоскребов. Аэродромы не принимали гостя из Европы. Быстро сгущались сумерки.
Коккинаки изменил курс. Внизу, в заливе Лаврентия, летчик заметил небольшой остров и стал снижаться. Не зная, какие сюрпризы готовит ему импровизированный аэродром, Коккинаки решил посадить машину на «брюхо», не выпуская шасси, потому что при посадке на колеса самолет мог скапотировать, тогда была бы раздавлена выступающая вперед штурманская кабина и Гордиенко вряд ли остался бы жив.
«Москва» приземлилась на маленьком болотистом острове Мискоу. Название этого крошечного населенного пункта и имена пожаловавших сюда крылатых гостей много дней не сходили с первых страниц газет всего мира.
Героический экипаж самолета «Москва» находился в полете 22 часа 56 минут, покрыв путь по прямой в 6516 километров (фактический путь самолета превысил 8000 километров).
Кратчайший путь из Европы в Америку был проложен!
Не вина Чкалова, Коккинаки и их товарищей по знаменательным перелетам, что в силу сложившихся обстоятельств, в условиях «холодной войны», жители двух великих стран долго не пользовались воздушными мостами, которые были так героически переброшены из СССР в США. Теперь, когда меняется, заметно теплеет политический «климат» на трассе Советский Союз – Соединенные Штаты Америки, все больше и больше советских людей и американцев пересекут на самолетах Атлантический океан. И когда воздушные корабли будут плыть в небе над волнами Атлантики, пусть их пассажиры вспомнят добрым словом первооткрывателей воздушных путей из старого в новый свет – славных советских летчиков, в том числе и Владимира Константиновича Коккинаки!
...Коккинаки и Гордиенко приехали в Нью-Йорк 1 мая, в день открытия Всемирной выставки 1939 года.
В Москве перед самым стартом к летчику подошел советник посольства США и вручил ему письмо для передачи президенту выставки.
– Куда письмо? В Америку? – улыбаясь, переспросил Коккинаки.
– Да, в Америку.
– Есть такое дело! Письмо в Америку будет доставлено сегодня!
На конверте, привезенном Коккинаки в Нью-Йорк, стояли рядом два почтовых штемпеля – Москвы и острова Мискоу. Даты были одинаковые – 28 апреля 1939 года. Это было первое письмо в истории, доставленное за одни сутки из Европы в Америку.
На Всемирной выставке выделялся своей красотой, размерами и богатством экспонатов павильон СССР. Это радовало сердце коммуниста Коккинаки.
Устроители выставки рассказали ему о «капсюле времени». Когда закладывалась выставка, в бетонный колодец были замурованы документы, сообщавшие о том, какого высокого уровня достигла техника в XX веке.
Эти письма, адресованные далеким потомкам, были напечатаны специальной краской на особо прочной бумаге, способной храниться столетиями.
Среди других документов в «капсюль времени» было вложено письмо Альберта Эйнштейна, изгнанного фашистами из Германии и обосновавшегося в США:
«Наше время богато творческой мыслью, открытия которой могли бы значительно облегчить нашу жизнь. Мы научились летать и мы умеем без труда посылать сообщения по всему миру с помощью электрических волн. Тем не менее производство и распределение товаров у нас совершенно не организовано, так что каждый человек вынужден жить в страхе быть выброшенным из экономического цикла и лишиться всего. Кроме того, люди, живущие в различных странах, через неравномерные промежутки времени убивают друг друга, и поэтому каждый, кто думает о будущем, должен жить в страхе и ужасе. Я верю, что наши потомки прочтут эти строки с чувством оправданного превосходства».
Коккинаки так понравилось письмо великого ученого, что он попросил переводчика переписать его на память.
Владимир Константинович не очень бережно обращается с документами, но случайно эта запись не потерялась. Он вспомнил о ней, когда делился впечатлениями о посещении американской выставки в Москве, в августе 1959 года.
– Мало что изменилось у них за двадцать лет! Как в воду глядел Эйнштейн. Хорошо он сказал о чувстве оправданного превосходства. Только почему потомки? Трети человечества в наши дни уже знакомо это чувство оправданного превосходства!
«Черная смерть»
...В первые дни Великой Отечественной войны генерал-майор авиации В. К. Коккинаки подал рапорт с просьбой о направлении его в действующую армию хотя бы рядовым летчиком.
Он получил решительный отказ. Шеф-пилот конструктора Ильюшина нужен был для других, очень важных целей.
Коккинаки вначале очень болезненно переживал, что ему не разрешают взвиться на истребителе в фронтовое небо, с высоты ринуться на вражеский самолет, изрешетить его, заставить упасть огненным комом на землю. Ведь он был когда-то совсем неплохим истребителем! Товарищи дерутся на фронте, растянувшемся от Черного до Белого моря. На их боевом счету уже немало подбитых гитлеровских машин. Они воюют, а он?..
Каждое утро Коккинаки искал в газетных корреспонденциях с фронта упоминаний о знакомых летчиках. Когда удавалось прочесть описание победоносной воздушной схватки, он радовался и завидовал одновременно.
Сводки Информбюро приносили печальные вести об оставленных нами городах. Вот и в родном Новороссийске хозяйничают ненавистные оккупанты...
Приезжавшие с фронта за самолетами авиационные командиры с горечью рассказывали о превосходстве вражеских сил в воздухе. У фашистов в первый период войны было столько самолетов, что они позволяли себе гоняться за одиноким всадником в поле. У нас боевых машин не хватало. Летчики ожидали их на авиационных заводах, готовые взять сошедший с конвейера самолет даже с небольшими недоделками, лишь бы поскорей лететь на фронт.
Армия нуждалась в боевых крылатых машинах, и они стали поступать на фронт во все возрастающем количестве. Заводы, эвакуированные за Урал, наскоро размещали в зачастую недостроенных зданиях станки и машины. Эта «промышленность на колесах», как ее иронически именовали зарубежные обозреватели, давала все больше и больше самолетов.
Словно на переднем крае, круглые сутки звучали пулеметные очереди пневматических молотков. Здесь и спешно строили опытные образцы, и налаживали серийное производство боевых машин. У Коккинаки было дел по горло.
...Машины, как и люди, имеют свою судьбу. Одни самолеты рождаются, чтобы кончить свое существование, так и не попав в воинские части или на трассы гражданской авиации. Их жизненный путь ограничивается несколькими десятками часов испытательных полетов. Другие же живут годы, и их размножают в сотнях и тысячах экземпляров. Особенно счастливо сложилась судьба ильюшинского бомбардировщика «ИЛ-4». Его «воспитывал» Коккинаки. Сконструированный в первой половине тридцатых годов, этот бомбардировщик достиг десятилетнего возраста. В авиации такой срок жизни – редкость.
Большой радиус действия, высокая скорость, значительный потолок и хорошая грузоподъемность «ИЛ-4» были достигнуты не сразу. Ильюшин вносил в конструкцию самолета изменение за изменением, все время совершенствуя машину. Первым помощником конструктора в этом деле был летчик-испытатель.
В годы войны «ИЛ-4» ходили бомбить дальние вражеские тылы. По ночам на большой высоте армады бомбардировщиков пересекали линию фронта, громили склады, железнодорожные узлы, мосты во вражеских тылах и на рассвете возвращались на свои базы.
Бомбардировщики «ИЛ-4» летали скрытно, под покровом ночи; зато другая боевая машина Ильюшина воевала при свете дня, у всех на глазах. Это был знаменитый штурмовик «ИЛ-2».
Задолго до войны возникла идея создания боевого самолета, который мог бы быть использован в совместных операциях с наземными войсками. Такой самолет должен быть вооружен разнообразным оружием: пулеметами, пушками, бомбами разных калибров. Чтобы разыскивать и поражать танки, автомашины, артиллерийские батареи противника, ему надо очень низко летать над землей и иметь надежную броню, защищающую самолет от вражеского огня. Такой грозной боевой машиной явился штурмовик «Ильюшин-2».
Последние испытания «ИЛ-2» Коккинаки проводил накануне и в первые дни войны. В конце июля 1941 года с фронтовых аэродромов вылетели на боевые задания первые советские штурмовики. За их появлением со страхом следили гитлеровцы. «ИЛ-2» проносились с огромной скоростью на высоте 100—150 метров над землей, расстреливали и бомбили немецкие танки, уничтожали отдельные орудия, взрывали колонны грузовиков, обращали в бегство пехоту противника.
В значительной степени благодаря «ИЛ-2» были успешно отражены атаки танковых частей гитлеровского генерала Гудериана на подступах к Москве в 1941 году.
Фашистское командование выпустило против штурмовиков своя новые истребители «Фокке-Вульф-190». Но они были бессильны в борьбе с низко и быстро летающими «ИЛ-2». Огонь с земли тоже не страшил штурмовиков. Броня защищала летчика и стрелка от ружейно-пулеметного огня, от снарядов малокалиберных пушек.
Испытывая панический страх перед советскими штурмовиками, гитлеровцы прозвали их «черной смертью».
Коккинаки «доводил», как говорят самолетостроители, ильюшинские «летающие танки». Он часто выезжал на прифронтовые аэродромы, где базировалась штурмовая авиация. Он встречал «ИЛ-2», прилетавшие с боевых заданий, и считал пробойны в их плоскостях, в фюзеляжах. На некоторых машинах, побывавших в жарких боях, бывало до сорока-пятидесяти пробоин, и все же они возвращались домой. Самолет своей живучестью производил впечатление заколдованного.
«Черная смерть» была почти неуязвима для врага. Бывали случаи, когда самолет загорался в воздухе, но летчик ухитрялся дотянуть до аэродрома и благополучно приземлиться с пылающим хвостом.
Секрет живучести ильюшинских машин заключался в конструктивном совершенстве самолета, в соединении отличных летных качеств, мощного вооружения и прочной брони.
«ИЛ-2» воевали, а Коккинаки почти всю войну продолжал их испытывать. Дело в том, что конструктор все время улучшал свое детище. Каждая новая партия штурмовиков, сходившая с заводских конвейеров, несколько отличалась от предыдущей. И каждое изменение конструкции машины, ее вооружения проверялось Коккинаки в воздухе. Штурмовики выпуска 1944 года были более грозной и неуязвимой боевой машиной, чем «ИЛ-2» производства 1941 года. В этом была и заслуга летчика-испытателя В. К. Коккинаки.
...Еще шла война, а генеральный конструктор самолетов С. В. Ильюшин и шеф-пилот испытатель В. К. Коккинаки уже трудились для завтрашнего мирного дня. Они знали, как нужен будет их Родине быстроходный, экономичный, безопасный, вместительный транспортный самолет, и создавали его.
Вскоре после Дня Победы на воздушных трассах страны стали курсировать комфортабельные пассажирские самолеты «ИЛ-12».
Взлет продолжается
В сентябре 1957 года Владимир Константинович Коккинаки стал дважды Героем Советского Союза. Вторую Золотую Звезду он получил, как говорится в наградной грамоте: «За проявленное мужество и мастерство при испытаниях опытных самолетов, а также учитывая многолетнюю летно-испытательную работу».
Это было в разгар испытаний новой «Москвы». Дать «путевку в жизнь» воздушному лайнеру «ИЛ-18» оказалось одной из труднейших задач, которые когда-либо пришлось решать: самолет имел огромные размеры, большую грузоподъемность, высокую скорость.
В пассажирском самолете следует все предусмотреть. Пассажир не должен опасаться за свою жизнь даже в том случае, если по какой-нибудь причине сдадут два и даже три из четырех двигателей машины. А если внезапно выйдет из строя вся моторная группа (что практически исключено), летчик обязан, умело планируя, дотянуть до ближайшей посадочной площадки. В современном лайнере пассажиру предоставляется максимум удобств. Здесь поддерживается нормальная комнатная температура. Человек, безмятежно дремлющий в мягком плюшевом кресле, не испытывает никаких затруднений с дыханием, на какой бы высоте ни находился самолет. В далеких рейсах, на огромной высоте, ему подают чай, кофе, суп, котлеты...
Сейчас это кажется обычным, однако немало дополнительных трудностей пришлось преодолеть не только конструктору, но и летчику-испытателю.
Чтобы лучше познакомиться с новинкой – турбовинтовыми двигателями, Коккинаки засел за теоретические труды. Ему приятно было узнать, что впервые идея турбовинтового двигателя была выдвинута нашим великим соотечественником К. Э. Циолковским еще в 1932 году.
Коккинаки имел некоторый опыт полетов на самолетах с реактивными двигателями, а вот с турбовинтовыми – встретился впервые.
Часами простаивал летчик у стендов, на которых «гоняли» турбовинтовые двигатели. Прочные стенды дрожали – ведь турбины давали обороты, близкие к десяткам тысяч.
...Вот уже остались позади рулежки, подскоки. Гигантский воздушный корабль стремительно набирает высоту. Воле летчика повинуются шестнадцать тысяч лошадиных сил.
«ИЛ-18» уже в первых испытательных полетах отлично слушался пилота. Чем больше летал Коккинаки на новой машине, тем сильней она ему нравилась. А летал он очень много. Рейс в Арктику, о котором мы рассказывали вначале, был лишь одним из эпизодов длинной серии испытательных полетов. Они продолжались и тогда, когда «ИЛ-18» пошел в серийное производство, появился на воздушных трассах страны и в несколько раз приблизил к Москве Фрунзе и Симферополь, Адлер и Ашхабад.
Сначала Коккинаки летал согласно техническим нормам. Потом начал «нажимать», шагая через контрольные цифры. За работой летчика-испытателя внимательно наблюдали конструктор и ведущий инженер. Самолет стал подниматься выше своего первоначального потолка. Потом он стал летать дальше, чем это было рассчитано. Затем увеличилась его скорость. Втроем – конструктор, ведущий инженер и летчик растили машину, воспитывали ее, вели к высоким показателям, к мировым рекордам.
И вот ранним утром 19 августа 1959 года обычный серийный «ИЛ-18» начал рекордный скоростной перелет. В экипаже корабля, который возглавлял В. К. Коккинаки, бортинженером летел его брат – Павел Константинович Коккинаки.
Новороссийский паренек, став летчиком, втянул в авиацию и своих четырех братьев. Он «заразил» их неистребимой тягой в просторы пятого океана, страстной любовью к небу. Семья портового весовщика стала авиационной семьей. Военный летчик Александр Коккинаки погиб в воздушном бою на фронте Великой Отечественной войны. В 1955 году летно-испытательную работу младшего из братьев Коккинаки – Валентина прервала катастрофа. Константин испытывает новые самолеты. Павел работает авиационным инженером.
...В багажное отделение и пассажирскую кабину воздушного корабля были уложены мешки с песком весом в пятнадцать тонн. Поднявшись на восьмикилометровую высоту в 6 часов 3 минуты по московскому времени, самолет прошел над линией старта и взял курс на Мелитополь.
С огромной скоростью мчалась в облаках серебристая стальная птица. К счастью, вблизи цели облачность рассеялась и с высоты отчетливо стали видны зеленые сады южного города. Спортивные судьи, ждавшие самолет в Мелитополе в 7 часов 24 минуты, зафиксировали его прохождение над контрольным ориентиром точно в положенный срок.
Для того чтобы на развороте не потерять много времени, командир корабля круто описал в небе полукруг. С большим креном самолет развернулся, быстро лег на обратный курс и по безупречной прямой пошел к Москве.
Через 2 часа 47 минут после старта «ИЛ-18» разорвал своими винтами невидимую ленточку финиша.
Маршрут Москва – Мелитополь – Москва является так называемой двухтысячекилометровой мерной базой, зарегистрированной в ФАИ. «ИЛ-18» с коммерческим грузом в пятнадцать тонн прошел это расстояние со средней скоростью в 719,5 километра.
Это было новым мировым достижением.
Тринадцать лет назад американские летчики Грабовский и Барлет достигли наивысшей средней скорости с грузом в одну, две и пять тонн по двухтысячекилометровому маршруту – 588 километров в час, а с десятью тоннами – 574 километра.
Коккинаки побил рекорд американцев. С таким большим грузом, какой он взял на борт, на машинах с поршневыми и турбореактивными двигателями еще не летал ни один летчик.
Летчик установил пять мировых рекордов скорости полета на участке в две тысячи километров с грузом в одну, две, пять, десять и пятнадцать тонн.
Одновременно были побиты и пять международных рекордов скорости полета с грузом в одну, две, пять, десять и пятнадцать тонн на участке в тысячу километров, тоже принадлежавшие американцам.
Так за один замечательный полет Коккинаки подарил Родине десять мировых рекордов!
Когда на аэродроме товарищи поздравляли Коккинаки с выдающимися достижениями, он пошутил:
– Мы, летчики, находимся в очень выгодном положении. Народ дает средства, рабочие на заводах строят самолеты, конструкторы работают над созданием совершенных машин, а мы – садимся, летаем и пожинаем лавры...
За свою долгую летную жизнь Владимир Коккинаки установил двадцать четыре международных авиационных рекорда. Столько раз его имя встречается в таблицах мировых достижений, зарегистрированных ФАИ. Ни один летчик мира не оставил больше памятных следов в небе.
...В первых числах сентября 1959 года воздушный корабль летел к далекому и близкому Черному морю. Далекому потому, что на поезде до него нужно добираться около двух суток. А близкому – ведь «ИЛ-18» сократил этот срок до двух с половиной часов полета! На борту среди пассажиров находился стройный, подтянутый человек в сером костюме с совсем седой головой. Владимир Константинович смущенно улыбался – ему непривычно было сидеть в этом, ставшем родным, самолете, в мягком пассажирском кресле.
Ничего не поделаешь, врачи приказали отдохнуть, впереди большая напряженная работа.
Вскоре после отпуска, 25 ноября 1959 года, Коккинаки со своим дружным экипажем поставил очередной мировой рекорд на «ИЛ-18». Этот «старый» самолет не был забыт, шеф-пилот еще не исчерпал все богатейшие возможности замечательной машины. «ИЛ-18» ушел в стратосферу с нагрузкой, более чем вдвое превышающей обычную при рейсах с пассажирами. На борту воздушного корабля, поднявшегося на 12 000 метров, находилось двадцать тонн груза. С такой коммерческой нагрузкой так высоко не поднимался еще ни один турбовинтовой самолет в мире.
Через два месяца, 2 февраля 1960 года, все тот же «ИЛ-18», пилотируемый заслуженным мастером спорта В. К. Коккинаки, пролетел по замкнутому маршруту Москва – Севастополь – Свердловск – Москва расстояние в 5018,2 километра. Полет происходил на высоте 8000 метров, со средней скоростью 693,54 километра в час и продолжался 7 часов 14 минут 8 секунд. На борту самолета находилось десять тонн груза. Этим полетом экипаж В. К. Коккинаки превысил сразу пять мировых достижений по классу самолетов с поршневыми и турбовинтовыми двигателями на дистанции 5000 метров: без груза, с грузом в одну, две, пять и десять тонн.
Блистательный взлет, начатый Владимиром Коккинаки три десятилетия назад, продолжается...