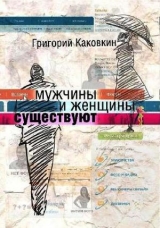
Текст книги "Мужчины и женщины существуют"
Автор книги: Григорий Каковкин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
20
Муж Людмилы Тулуповой, про которого она сначала старалась не думать, потом старалась не рассказывать, потом старалась не вспоминать, потом старалась не произносить его имя, потом просила детей, Сережу и Клару, в ее присутствии хотя бы не говорить о том, что он был, – прилетел к ней с неба. Точно.
На город, на соседние с Червонопартизанском колхозы и совхозы в то лето напала саранча – настоящее нашествие. Она залетала в дома, на дорогах образовывалось месиво из гниющих тварей, даже речку покрыла сплошная пленка из саранчи, которая покачивалась от несильного степного ветра. В Червонопартизанском райкоме партии создали общественный штаб по борьбе с насекомыми и спасению урожая. Председателем назначили главного партизана города Николая Ефимовича
Лученко – он случайно сказал на партсобрании, посвященном этой теме, что с саранчой надо бороться как с фашистами в войну, и его предложили председателем.
Он совершенно не знал, что надо делать, но услышал, что саранча, которая и до того случалась в здешних местах, в этом году пришла с названием “итальянский прус”, и решил, что капиталисты специально подбросили саранчу на Украину, чтобы СССР загнулся, не выполнив Продовольственную программу, принятую последним съездом партии. Ему представлялось, что диверсанты с Запада, под видом дипломатов или членов международных делегаций, привезли трехлитровую банку с саранчой и выпустили. Ну а та, понятное дело, – он даже потирал руки от разгаданного им коварства, – с наслаждением размножалась при социализме и к середине лета заполонила весь район. Собрали митинг на площади. И когда объясняли народу, как надо бороться с полчищами итальянских насекомых, над головами, по тракторному тарахтя моторами, пролетели два, один за другим, кукурузника.
– Летят наши соколы отомстить врагу! – с пафосом прокричал Лученко. – Летят! Самое интересное, что взгляды партизана-гестаповца и молодой женщины Людмилы Тулуповой, которая уже два года после окончания школы работала учетчицей на шахте, совпадали. Иначе бы один из этих соколов не стал потом ее мужем.
Она посмотрела в небо. Подумала, что хорошо бы вот так взлететь и посмотреть на Червонопартизанск, как на постоянно удаляющуюся точку. И сам этот плохенький этажерочный самолетик показался возможностью, счастьем, как бы сложенным из тетрадного листа в голубок и пущенным на волю.
Он мог улететь из Червонопартизанска, а она не могла.
Было около девяти часов вечера. Мила возвращалась домой от школьной подруги – Иванова ездила в Киев поступать во врачи, но провалила первый экзамен. Потом так же быстро в украинской столице влюбилась, лишилась невинности, о чем не сильно переживала. Затем быстро устроилась на работу санитаркой в больницу, но прижиться в Киеве не получилось, объясняла, что не та у нее фамилия, не выразительная и не на ту букву заканчивается – не украинская. Пришлось вернуться в Червонопартизанск и мечтать уже вместе с Тулуповой о Москве, о любви и мужьях. О счастье. Как оно достигается? Оказывается, просто – на дороге валяется.
Лето. Только начало темнеть. Суббота. Повсюду пьяный гул, магнитофоны из разных концов городка соединяют все советские шлягеры в один. На дорогах саранча, сметенная в большие кучи, присыпанная каким-то белым порошком. Чуть жара начала спадать. И возле забора – Тулуповы жили в двухэтажном немецком домике на четыре семьи (немецком, потому что его добротно строили пленные немцы), возле забора, что огораживал три сотки прихваченной землицы под грядки и цветы – в крови, грязи, в порванной рубахе сидит, скорчившись, стонет молодой мужчина. Тулупова сначала прошла мимо, но неожиданно вернулась, нагнулась и рассмотрела – “не наш”. В том ее понимании – это был плюс. К чему этот плюс должен был прилагаться неясно, но местные “партизаны” ей были не нужны – все нормальные уехали, осталась одна пьянь.
– Эй, ты кто?!
– Я летчик, – сказал Виктор Стобур, будущий муж Людмилы Тулуповой.
– Подбитый летчик, – поправила его Людмила.
– Да, – согласился Стобур. – Что ни на есть. Самый подбитый. Очень-очень.
– Ты Маресьев или… Идти можешь? – спросила Тулупова.
Стобур поднял глаза и увидел большую грудь и доброе заинтересованное лицо молодой женщины. Она нависла над ним, пахла одуряющей свежестью, пьянящей чистотой – с ней можно было жить только для того, чтобы это вдыхать ежедневно.
Людмила потом говорила, что это была самая лирическая сцена за всю их недолгую совместную жизнь.
– Не Маресьев, а Витя, – нечетко произнес Стобур.
– Ну что, пьяный Витя, пойдем в дом, приведем тебя в порядок, сельхозавиация!
– Мотострелковый полк 176 Псковской дивизии ВДВ.
Она помогла бывшему десантнику подняться, и в разложенном виде он оказался огромным – на голову выше. Ручищи большие, сильные, но пальцы короткие, как бы подрубленные, приблизительно одной длины. Светловолосый. Глаза степные – голубые, вроде красивые, но расфокусированные, куда они смотрят – непонятно, сквозь тебя, за тебя или в куст багульника в глубине и сбоку картины. Может быть даже за раму. Когда стали жить вместе, он объяснял, что так устроен его глаз, привыкший к казахским степям, где прошло его детство. Не раз, когда он лежал пьяный, а Тулупова рассматривала его лицо, руки, волосы, разрез глаз – всего, как экспонат в зоологическом музее, только не было музейной справки, – задумывалась, что и как соединяется в этом человеке.
Так вышло, что родители уехали на три дня в Желтые воды и ее уговаривали долго, она сама всегда рвалась, а в этот раз будто какая якорная лень зацепила, или – судьба. Одна осталась на те три дня.
В пятницу вечером ходила по двум небольшим комнаткам в легкой белой ночной рубахе с маленькими синими цветочками. Затем в Москве она точно такой же рисунок увидела на обоях и купила, а когда родился Сережка, поклеила вместе с Шапиро и Смирновой, они ее тогда опекали. В субботу приготовила борщ, не для себя, а от делать нечего, чтобы что-то резать, чистить, варить, пробовать. Полдня на это ушло. Вечером зашла к Татьяне Ивановой, и там, под работающий телевизор, говорили о чем-то, вспоминали школу и обсуждали червонопартизанские свадьбы, а на обратном пути возле забора – будущий муж лежит, как новогодний подарок под елкой.
Она привела его в дом, погрузила в ванну, прижгла йодом ссадины, налила борща, который он похвалил, сказал – “отличный”. Расспросила, как все вышло, кто его бил. Он описал четверых, и выходило, что один из них Андрей Сковородников. Она поймала себя на мысли, что у нее какая-то гордость за то, что “наши” бьют “не наших”. Стало стыдно, что она такая безжалостная и несправедливая: четверо на одного. Провела рукой по голове, вроде погладила или пожалела, Стобур решил, что она просит, изнемогает и набросился. Не хотелось ни шуму, ни любопытства соседей, посопротивлялась и уступила. Потом думала, кто бы ни встретился на пути тогда – раздвинула ноги и все, будь что будет, надоело одной. Он в нее кончил, она испугалась, бросилась в ванну вымывать, потом вспомнила, как Танька Иванова только что рассказывала, что в этих случаях помогает лимон – дольку надо туда, бросилась искать в холодильнике. Не нашла. Нашла огрызок кислого недозревшего зеленого яблока и просидела полчаса с ним в туалете. Пришла – он спит. Легла рядом. Думала долго, что вот существуют мужчины и женщины, спят рядом, греют друг друга, и им, наверное, хорошо. Для того и существуют. Такой была ее первая ночь с мужчиной.
В воскресенье начала будить его рано, часов в шесть, чтобы ушел незамеченный. Но, открывая дверь, Стобур, которого тяжело было и поднять с кровати, и выпроводить, наконец, из квартиры, наткнулся на соседа Прокопенко. Он давно на мотоцикле не ездил, но ремонтировал его с утра до ночи.
– Здравствуйте, Григорий Иванович, – Людмиле ничего не оставалось другого, как поздороваться.
– Доброе утречко, – ответил Прокопенко и внимательно, как механик мотоцикл, осмотрел летчика.
– Здрасьте, – буркнул Стобур.
– Здравствуй, здравствуй, – нараспев, произнес сосед.
Через несколько месяцев это “здравствуй-здравствуй” переросло в пьяное “горько-горько”. Ей все время хотелось сказать “нет”, и в первую ночь, и потом, когда летали со Стобуром на его кукурузнике над Червонопартизанском, и она видела в каком, в самом деле, маленьком городке она выросла.
Какие кривые у него дороги. Как кольцевой маршрутный автобус поднимает пыль, и она несется и рассеивается в сухом голубоватом воздухе, как неудовлетворенное желание. Как малы ворота на футбольном поле возле школы и как мальчишка весело их защищает. Как нелепо, медленно из церкви выезжает грузовик, потому что в ней гараж. Как на желтом поле, съеденном саранчой, победно развевается выцветший красный флаг.
На что ни смотрела она, все выходило – очевидно так и чудно. Чудно и очевидно. Очевидно, что она его не любила, и чудно, что не могла ему сказать об этом.
Чудно – все, что видишь сверху, невозможно любить, а смотришь внутрь, вглубь себя и очевидно любишь.
“Дорогой Павлик. Самый дорогой и самый любимый. Вот уже три дня, как я замужняя женщина. Мой муж летчик. Сейчас он летчик сельхозавиации, но, когда мы поедем в Москву из нашего партизанска, он сдаст какие-то экзамены и будет летать на больших пассажирских самолетах, может быть, даже за рубеж. Надо только выучить язык, английский, но не в совершенстве, а так, чтоб можно было разговаривать с аэропортами при посадке и взлете. Он говорит так. Я думаю, что английский он не выучит, а на больших самолетах летать сможет. Ты знаешь, Павлик, тебе я могу сказать, его все не любят. Я не знаю почему, вот не знаю. И все. Прокопенко застукал нас, когда мы выходили с Витей. Честно скажу тебе, если бы он не пошел в такую дурацкую рань чинить свой дурацкий мотоцикл, хотя их там у него уже штук десять, если не двадцать, он по помойкам весь хлам собирает, я бы еще подумала, выходить мне замуж или нет. То есть я конечно же вышла бы за Витю, но попозже, а тут Прокопенко сказал Свете, Света – матери, мать – что у тебя с летчиком? Я ей словами из песни: “Мама я летчика люблю, мама за летчика пойду…” В общем достали. Даже Сковорода пришел, когда узнал, что мы подали заявление в ЗАГС, – туда же: он меня любит, и любил всегда, и просит не идти за него, потому что он, дескать, жмот, трус и вообще. А он хороший – значит. Вот что зависть делает. Он спросил, можно ли жить без любви. Это он спросил, он! Сказал, что по глупости тогда в парке, что был пьяный. Они все пьют. По-черному. Это правда. Но мне было приятно, что Сковорода извинился вроде, но я знаю, с кем он сейчас, и пускай не врет. Ты, конечно, Павлик, знаешь, что только с тобой я была бы счастлива. Только с тобой у нас все было так, как должно быть, чтоб и чувства, и жизнь, и все-все, что соединяет мужчин и женщин, но я, как настоящая вдова, должна подумать и о себе, о моих, можно сказать, о наших с тобой детях. Они с Витей будут, и он будет хороший отец. Конечно, не такой, как ты, но это самое главное, согласись. Мне, конечно, очень хочется знать, что бы ты сказал, что посоветовал. Танька Иванова говорит, главное – муж чтоб был не сумасшедший и не изменщик. А как это узнаешь сейчас? И можно ли без любви – разве узнаешь сейчас? Я думаю, что можно. И нужно. Его все не любят, а я люблю. Не так как тебя, но люблю. Дом строят строители. Семью – мужчина и женщина, и не надо ничего выдумывать. Сковородников пришел учить. Да, он немного жадноват, мой муж, но для семейной жизни это даже хорошо. Значит, все будет в доме. Свадьба прошла, можно сказать, хорошо. Никто ничего. Не подрались и вообще. Приехала его мать, свекровь моя, – они тут, оказывается, триста километров от нас жили. Отца у него нет, он его не знает. Женщина такая, ух. Хотела, чтоб я ее сразу мамой называла. У меня язык не поворачивается – надо же привыкнуть. Я ей пообещала, что потом буду. Осталась одна, попробовала ее представить и говорить “мама”. Не получается. И не получится. Значит, соврала. Кто это придумал? Она подарила нам сервиз перламутровый, немецкий, на дне тарелок написано “сделано в ГДР”, “Мадонна” называется. И я за этот сервиз должна ее называть мамой. Через две недели мы поедем в Москву, Витя будет экзамены сдавать, и мы там будем жить. Я вышла замуж. Так. Вот. Я замужем. Мы уедем в другое место. Скоро. Четырнадцать дней. Завтра он пойдет покупать билеты, а я куплю новый чемодан и сложу туда все свои вещи. Все. И эту тетрадь. Я ее спрячу и говорю тебе, что тебя не забуду. Хотя у меня много жизни впереди. Но не забуду. Тебя никто не сотрет из моей памяти. Ты мой первый и никто об этом не узнает никогда. Муж пришел. Пока, мой Павлик”.
21
– Это водитель, от Кирилла Леонардовича. Я жду вас внизу. Черная “Ауди” – с торца. Я не мог дозвониться, было занято.
– Сейчас выхожу, – ответила на звонок Тулупова подъехавшему водителю.
Она обвела глазами пустую библиотеку, вспомнила, включен ли дежурный свет, сигнализация, задернуты шторы, отключен ли компьютер, и присела на стул возле двери, как перед дальней дорогой. Помолчала. Встала. Произнесла тихо – “с Богом”. Заперла дверь и спустилась вниз. Олег взял у нее ключи, она, как обычно, расписалась в книге о сдаче помещений, но как только вышла на улицу и увидела стоящий черный автомобиль, поняла всерьез, что знакомство на сайте становится непростой историей. Людмила постаралась взять себя в руки, уговаривая себя, что, мол, ничего особенного не происходит – вообще наплевать, что будет, и бояться нечего, дети выросли, если что-то с ней, то… Страх отступил, но она решила набрать телефонный номер дочери.
– Кла, – запиши где-нибудь на бумажке, на всякий случай, – Кирилл Леонардович Хирсанов, да, первое – “х”, и номер машины Е 048 ДИ… Региона – нет, тут флажок. И все. Это так, если что… Я еще позвоню. Поздно. Не волнуйся.
Тулупова молча села на заднее кожаное сиденье роскошного, как ей показалось, автомобиля. Водитель поднял трубку телефона, встроенного в приборную доску автомобиля, и произнес, казалось, специально для Людмилы Тулуповой:
– Кирилл Леонардович, мы уже едем. Через двадцать минут будем на Старой площади. Вы из какого подъезда выйдете? Хорошо. Третий.
Уже обращаясь к Тулуповой, пояснил:
– Мы едем к третьему подъезду.
– Хорошо, – сказала Людмила, хотя ей было все равно, она не знала никаких подъездов и вообще не знала, где находится администрация президента.
Москва, несмотря на прожитые в ней годы, оставалась все же чужим городом. Мила могла с закрытыми глазами рассказать о каждой улице Червонопартизанска, о том, куда и как можно короткой дорогой пройти, на какой остановке автобуса выйти. В Москве – это были только маршруты: от работы до дома; от дома до квартиры Марины Шапиро; до Юли Смирновой; до Парка культуры, куда с детьми, когда были маленькие, ездила; до Лужников – на елку. Еще было десятка два таких маршрутов, натоптанных жизнью.
Несколько минут они простояли в пробке на бульварном кольце, возле какой-то церкви с подсвеченными куполами, потом ехали по трамвайным путям, потом развернулись на знакомой Людмиле площади, но она не помнила точно названия, и, наконец, подъехали к серому зданию со шлагбаумом.
– У вас есть паспорт? – спросил водитель.
– Нет, – ответила Людмила.
Водитель набрал номер Хирсанова:
– Мы у третьего. У нас нет паспорта… Хорошо, подъеду к одиннадцатому.
Мила вспомнила, что точно так же, как сейчас водитель Хирсанова, она говорила о своих детях во множественном числе, когда водила их по врачам в поликлиниках. Заходила в кабинет, держа за руку то Сережку, то Клару, а иногда обоих – это обязательно, перед тем как отправить в пионерский лагерь, – и говорила целый день: “мы… эти анализы мы сдали – этой справки у нас нет, куда нам теперь”, а врач называл номер кабинета, и они мчались по этажам, отыскивая необходимую дверь. Машина еще раз развернулась на узкой улице, проехала несколько сотен метров, еще повернула и остановилась возле высоких дверей, над которыми было написано: “ПОДЪЕЗД № 11”. Ждали. Людмилу раздражал этот будто специально разыгранный спектакль с подъездами и паспортами, она жалела, что не настояла на встрече в каком-нибудь ресторане или, еще лучше, в кафе. “Сидела бы себе и ела, или нет – пила… или”. И она вспомнила те редкие случаи, когда оказывалась за белой скатертью, и почти всегда выходило, что это был многолюдный юбилей или свадьба, а так, чтоб сидеть напротив друг друга наедине с мужчиной, – такого не было. Ни разу. В Червонопартизанске был павильон “Голубой Дунай” – там собирались шахтеры после смены. В Москве она с детьми после аттракционов в парке ходила в пельменную. С Сергеем Авдеевым – в недорогую закусочную рядом с домом и катком, затем в ее жизни была отличная чебуречная рядом с Белорусской, которую она очень любила и где она, когда Шапиро ушла на пенсию, часто бывала, и тогда…
За этими воспоминаниями Тулупова пропустила тот момент, когда Хирсанов вышел из своего одиннадцатого подъезда, и он сел на заднее сиденье рядом с ней.
– Рад вас видеть, Людмила Ивановна, все не получалось и вот, – сказал он.
– Я – тоже. Наверное, нам надо было договориться и где-то встретиться, – ответила она и подумала, почему это она решила, что они пойдут непременно в ресторан и что это будет не “Голубой Дунай”. И вообще – мало ли что мог наобещать неизвестный, совершенно незнакомый мужчина пятидесяти лет по телефону.
– Я заставил вас ждать. Но такова специфика работы – себе не принадлежу.
– А кому – неужели народу?
– Президенту, Людмила Ивановна. Ему! – ответил Хирсанов и, выдержав паузу, добавил: – А президент принадлежит народу, значит, вам, народ – это вы. Следовательно, я принадлежу вам, – и, еще раз театрально остановившись в речи, продолжил: – Но если президент захочет меня видеть – я встану и пойду. В любое время суток.
Тулупова кивнула головой.
Хирсанов обратился к водителю:
– Сергей, как едем в клуб? Через площадь и по бульварам?
– Как скажете, Кирилл Леонардович, сейчас не угадаешь, везде бывает пробочно…
Водитель знал, что хозяин, а так он называл прикрепленного за ним чиновника, любит все решать сам – держать под контролем, и проще переложить ответственность, чем самому определять маршрут поездки. Тулупова подумала – о каком клубе идет речь, само слово клуб пугало. И решилась спросить, когда с улицами, по которым надо было проехать, все было ясно. Хирсанов не ответил, а только положил сухую теплую ладонь на руку Людмиле и так держал ее, пока не остановились перед небольшим двухэтажным старомосковским особнячком.
– Куда мы приехали, Кирилл Леонардович? Что – тут?
Тулупова не обнаружила на доме никакой вывески – несколько дорогих машин неподалеку от входа и все.
– Не волнуйся, Мила, – сказал Хирсанов, сразу перейдя на “ты”, когда машина с водителем отъехала. – Я – Кирилл, просто Кирилл. Ты – Мила или Людмила, как тебе больше нравится? При водителе не все можно говорить.
– Мила, – механически ответила Тулупова.
– Это клуб. Закрытый клуб с замечательным рестораном в подвале. Сюда пускают не всех, но для нас путь открыт.
Хирсанов нажал на кнопку возле белой распашной двери, через секунду сработал электронный замок, и дверь можно было открыть. За дверьми стоял человек в черном костюме с рацией за ухом.
– Вы вниз? – спросил он.
– Да, – ответил Хирсанов и назвал номер карточки члена клуба.
Тулупова и Хирсанов прошли по длинному коридору и, спустившись на два пролета вниз по лестнице, оказались в большом полупустом ресторанном зале с красивой мебелью, картинами на стенах и роялем, за которым сидел седой, с длинными волосами музыкант в черном фраке и играл блюзы. Метрдотель провел их к столику у стены и предложил меню. Людмила отказалась даже открывать кожаный переплет с золотыми буквами и тиснением – ее зарплаты здесь хватило бы разве что на чай с лимоном.
– Вы сами, сами, Кирилл Леонардович, – почти в истерике произнесла она, ясно понимая, что теперь целиком и полностью зависит от него – выпустить отсюда могли только с ним.
– Мила, я тебя пригласил. И хочу, чтобы ты выбирала то, что тебе понравится.
– Вы сами…
– Не вы – а ты. Скажи “ты, Кирилл”.
– Ты, Кирилл. Сам. Я ничего не знаю, а ты бываешь здесь каждый день…
– Можно я тебя поцелую? – спросил Кирилл.
Он встал с места, увидел ее волнение – взыграли его мужские чувства, он невинно клюнул ее в щеку и вернулся за стол.
Хирсанов согласился, что будет заказывать сам, но вместе с Людмилой. Перед этим позвал официанта и попросил принести им по пятьдесят граммов коньяка.
– Какой вы будете – Хенесси, Курвуазье, Камю? – спросил официант.
– Какой ты будешь? – Хирсанов переадресовал вопрос Людмиле.
Она хотела сказать, что ей нравится молдавский, но поняла, что в такой обстановке это неуместно, и неожиданно подвернулась фраза из какого-то старого фильма:
– На твой выбор, дорогой.
– Арманьяк, “иксо”, – заказал Хирсанов официанту и объяснил Людмиле, что ему очень нравится именно этот французский коньяк, который он приучился пить еще в первую свою заграничную командировку в Алжир.
Он не сказал, что “Арманьяк” был тогда самым дешевым коньяком из продававшихся в посольском магазинчике, остальные в два раза дороже. И все же, он в Алжире иногда ощущал себя очень состоятельным и свободным человеком, который позволял себе напиваться фирменным алкоголем, а не варить самогонку, как делали работники торгового представительства. Те жили в отдельном квартале в городе, а не в охраняемом посольском особняке и могли в целях экономии гнать замечательный, крепкий самогон, а затем настаивать его на арабских травках.
Тулупова сделала глоток “Арманьяка” из огромной коньячной рюмки и сказала, что за всю свою жизнь пробовала только молдавский, и он ей всегда нравился, а французский коньяк она вообще никогда не пила, вот – первый раз.
– Никогда. Я только слышала о таком. Спасибо, Кирилл.
Если бы она знала, как такие слова действовали на Хирсанова – смазанную педаль любовного газа Людмила отжала до самого пола, как Шумахер. Праздник начался.
– Сегодня мы все будем делать в первый раз. Лобстеры. Ты ела когда-нибудь?
– Нет, нет, – почти взвизгнула Людмила. – Никаких лобстеров! Я видела в магазине, они безумно дорогие, давайте я лучше съем котлету по-киевски.
Это уже был крутой вираж, обгон на закрытом слепом повороте – Шумахер оставался позади, и соревноваться было не с кем – прямая трасса до финиша. Хирсанов упивался возможностью открывать этой большегрудой женщине из музыкальной библиотеки целые миры, кулинарные, винные и любые другие, где собирался быть единственным экскурсоводом – ему будут внимать, смотреть в рот, задавать несложные вопросы, и он на любые из них с наслаждением ответит. И только потом…
– А устрицы?
– Кирилл!
– Устрицы надо есть, надо пробовать. Ты знаешь, что они гермафродиты? Причем одно время женщины, другое – мужчины?
– Нет. Я даже точно не знаю, как они выглядят. Это раковины, кажется?
Кирилл рукой подозвал официанта.
– У вас устрицы “Фин де Клер” какой номер?
– Только третий, – ответил официант.
– Хорошо. Пусть будет третий. Сколько в порции?
– Тарелка с лимоном и сливочными гренками – двенадцать штук.
– Тарелку. Одну. Вино белое. Шабли. Два лобстера. Два салата ваших фирменных. Еще коньяка… Неси бутылку.
– Зачем так много? – почти прошептала Людмила.
Официант посмотрел на Тулупову – мол, кого из вас слушать.
– Неси, – подтвердил заказ Хирсанов. – Сыр. Еще. Рыбки. Икры черной и красной. И там по смыслу, все для рыбного стола, как положено. Без изъятий.
Людмила Тулупова после оглашенного Хирсановым заказа поняла, что значит быть Золушкой, еще не потерявшей туфельку, в самом начале бала. Фортепьянный блюз, что-то из Гершвина, который она сразу не оценила, проникал в нее вместе с атмосферой закрытого клуба и арманьяком. Она впервые посмотрела на занятые небольшими компаниями столики, заставленные переносными мангалами и бутылками, на абстрактные картины, висевшие на стенах, и на своего пожилого принца. Во всех женских мечтаниях, стонах о настоящих мужчинах, слышанных в последнее время, именно так должен был поступать этот смешной дядька на белом коне, неожиданно выскочивший из леса: заказывать устриц, лобстеров, угощать коньяком и икрой. Одного она не понимала, почему это происходит с ней. “Красивый мужчина, – подумала Тулупова, впервые прямо разглядывая Хирсанова как часть этого интерьера. – Пятьдесят. Что им возраст? Им седина – ничего. Голос у него ровный, приятный. С какой-то прохладцей. Ровно подстрижен. Глаза врут как будто, но кто не врет?”
За соседним столиком сидели трое мужчин и одна молоденькая ослепительная красавица, мужчины почти не обращали на нее внимания.
“Почему я здесь, почему он не взял вот такую же, длинноногую и молодую. Она бы ему за черную икру…”
Кирилл поймал ее взгляд и догадался, о чем она думает.
– Мила, видишь тех четверых за столиком? Знаешь кто?
Тулупова мотнула головой – нет.
– Молодой парень, чуть с сединой. В очках… Это семнадцать сталелитейных заводов на Урале. Владелец. Сейчас ему конец.
– Почему?
– Кризис. Весь в долгах, все встало.
– И что теперь? – с неподдельным удивлением спросила Тулупова, будто ему сейчас нечем будет расплатиться в ресторане и ей придется рыться в собственной сумочке, спасая несчастного.
– Ничего. Продаст и уедет в Лондон, – сказал Хирсанов и добавил: – Если дадут…
– А это жена?
– Нет, это кукла. Эскорт. Тысяча за вечер.
– Тысячу платят?
– Баксов, – уточнил Хирсанов.
Принесли устриц. На специальной тарелке среди колотого льда лежали открытые, довольно большие раковины, а в середине – половинка лимона.
– И как их есть?
Хирсанов взял одного моллюска в левую руку, выдавил на него капли лимона, аккуратно отпил жидкость из раковины и затем специальной маленькой ложкой, которая подавалась к блюду, стал соскребать светло-серую мякоть с желтой точкой с краю. Жевал долго. Затем откусил кусочек ржаного хлеба, пропитанного сливочным маслом, и отпил из бокала шабли.
– Вот так, – сказал он. – Пробуй.
Людмила пыталась повторять эту процедуру, а Хирсанов рассказывал, как где-то во Франции, много лет назад, их угощали устрицами, и они ели их ведрами, вскрывая особо крепким ножом.
– Они очень полезны для мужчин. Людовик какой-то издал даже указ, чтобы их употребляли в пищу. Был большой любитель! Раньше их ели только в месяцы, где есть буква “р”, с сентября по апрель. Нам принесли выращенные, небольшие, третий номер…
– А большие – десятый?
– Нет, ноль. Или два ноля. Самые большие, их называют “лошадиное копыто”, редкость. Французы предпочитают естественные, не выращенные на плантациях в море.
Тулупова съела устрицу и, положив известковую раковину на тарелку, сказала:
– Честно – ничего не поняла. Совсем ничего. Тут и есть нечего.
– Мне тоже кажется, что ничего особенно в них нет. Говорят, их надо съесть очень много, тогда поймешь. Но я и много пробовал – нет. Есть еще один рецепт, с квашеной капустой, он вкуснее…
– Я солю, – сказала Людмила. – У меня капуста получается! Угощу как-нибудь.
Людмила вспомнила, как резала на большом кухонном столе капусту вместе с детьми. Клара нарезанную соломкой капусту присаливала, а она присматривала, готовая в любую минуту остановить, лишь бы дочь не пересолила самый ходовой продукт их семьи. Сережка, маленький еще, потея, тер морковь, разбрасывал ее равномерно по наструганной капусте и ждал, когда женщины посолят и дадут команду “мять”, и он детскими ручками и с большим желанием вместе со всеми начнет выжимать из капусты соки. Пропитанная их желанием жить и выжить, капуста укладывалась в кадку, и они долго, несколько недель, говорили о ней, как о новом, поселившемся в их доме человеке. Сережка приходил из школы и спрашивал:
– Мам, как наша капуста?
Выйдет на балкон, стоит и пробует:
– Не-е, – говорит. – Еще не-е…
– Мила, ты давно развелась? – неожиданно спросил Кирилл Хирсанов.
Она знала, что все мужчины рано или поздно задают ей этот вопрос, и она, как при пересечении границы, должна ответить на него и на ряд других.
– Давно, – ответила Тулупова. – Я даже и не помню, была ли я когда-нибудь замужем. Совсем не помню. Полгода, наверное, мы жили вместе. Чего мне там было лет… Потом дети. Ты знаешь, что у меня двое детей?
– Конечно, – ответил Хирсанов, интонацией подтвердив, что много про всех знать его обязанность и даже специальность.
– Погодки. Почти погодки – полтора года разница. Я с мужем прожила, может быть, полгода или год и ничего из той жизни не помню. Совсем. Я тогда в Москву переехала с ним, и все было сразу – муж, Москва, работа, дети. Все сразу. Ничего не запомнила. Я мечтала уехать. В Червонопартизанске про Москву все разговоры были: можно легко на завод устроиться, москвичи работать не хотят, комнату можно в общежитии получить. Все легким казалось, – и через паузу вдруг спросила: – А ты, что на сайте делаешь: разведен или гуляешь?
– Я? – Хирсанову не хотелось рассказывать о больной жене, которая его держала при себе, и единственная возможность жить одному, без скандалов, претензий, разговоров о врачах, это отправлять ее в санатории и лечебницы по всему миру. – Как сказать…
– А так и скажи, – прервала его Тулупова. – С кем Новый год встречаешь?! Все просто. Печать в паспорте – не важна! С кем Новый год встречаешь – та и жена. Что такое печать в паспорте? Ничего!
– Давай выпьем коньяку, – предложил Хирсанов и подготовил на закуску себе и Людмиле по кусочку хлеба с черной икрой.
– Давай, – согласилась Людмила.
От коньяка с каждым разом им становилось все теплее и задорнее. Один раз выпили, закусив черной икрой, а следом сразу – красной.
Принесли лобстеры.
– Красота необыкновенная! – почти вскрикнула Тулупова и захлопала в ладоши, радуясь будто ребенок. – Кирилл, честно, я никогда не была вот так в ресторане. Каждая женщина, наверное, об этом мечтает, а ты вот так все это сделал – для меня. Все так замечательно, музыка, коньяк, вино, лобстеры… Но не знаю: зачем? Зачем я тебе нужна?..
– …ты мне очень…
– Но! Я тебя не перебивала. Мне коньяк не дает сосредоточиться. Подожди. Я забыла, что хотела сказать.
– Про лобстеров?
– Нет. Не подсказывай. Я сама вспомню. Ты меня сбил. Не про лобстеров… – Людмила хотела сказать точнее, искала слова, собирала мучительно, как пазл, распадающиеся мысли. – Про Новый год. Про этот Новый год. Ты знаешь, нет, ты ничего не знаешь. Я тоже про тебя ничего не знаю. И это хорошо. Мне это нравится, что мы ничего не знаем друг про друга и можем говорить. Вот ты где-то там работаешь у президента, может, видишь его каждый день – а я родом из Червонопартизанска. Такой отличный городок на Украине есть, – она что-то вспомнила и добавила: – Ну не совсем отличный. Находится, черт знает где. Другая страна. Я ничего не понимаю в политике, совсем. Просто знаю, что она есть. Политика. Я, кажется, опять








