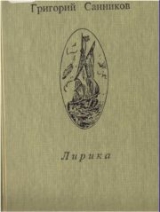
Текст книги "Лирика"
Автор книги: Григорий Санников
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Лирика. К 100-летию со дня рождения поэта (1899–1969)
МАЛЬЧИК ИЗ ЦЕРКОВНОГО ХОРА
Григорий Санников – лирический поэт стальной эпохи
Вот и наступают столетние юбилеи «стальных соловьев», славивших зарю новой эры и голосивших изо всех сил: «Наш паровоз вперед лети…», «Мы кузнецы, и дух наш молод…» Молодых лириков «рабочего удара» – кузницы, молота, крана и рубанка; поэтов, прощавшихся с «керосиновой лампой» и приветствовавших «свет электролампы», но втайне любивших «фитиля крутое золото». Что же осталось?..
Под портретом государевым,
Возле сваленных икон
Отсияло твое зарево,
Схоронился медный звон.
…………………………………………
Нынче всюду электричество.
Край наш вятский знаменит.
Но тот пламень твой лирический
До сих пор во мне звенит.
«Прощание с керосиновой лампой» Григория Александровича Санникова (1899–1969) часто цитировалось как «гербовое» стихотворение поэта. Однако «насвистанные» славословия технике погасли, а «пламень лирический» все «звенит». Не зря же в уездной вятской глуши мальчик пел в церковном хоре. Может быть, этот звук и поднял поэта к вековому перевалу… Та небоязнь простого, обычного и вечного, человечного, что хранит поэзию и дает пронести «банальное», но таинственное:
Я помню себя очень маленьким.
В нашем доме, где крашеный пол,
Словно в поле цветочек аленький,
Мой младенческий крик расцвел.
И качала меня мать в колыбели,
И про звезды мне пела она,
И плыла колыбель, и звезды звенели
По волнам голубого сна.
И одна из тех звезд нечаянно
Мне однажды упала на грудь
И, горя в моем сердце пламенем,
Повела меня в дальний путь.
В дальнем этом пути, словно оправдывая «санное» звучание поэтического имени, судьба одарила романтика страннической звездой, призванием моряка и капитана. Григорий Санников – один из своеобразнейших маринистов русской поэзии. И не случайно свой графичный «Южный Крест» поэт посвящает памяти А. С. Новикова-Прибоя, с которым вместе плавал по морям и океанам:
С времен Колумба и да Гама,
С далеких парусных веков
Не счесть погибших моряков
На баррикадах океана.
Во тьме пучины погребенным
Борцам безвестным счету нет.
Угрюм простор неугомонный,
И никаких вокруг примет.
Лишь по ночам над океаном
На черном мраморе небес
Ориентиром капитанам
Горит алмазный Южный Крест.
Но и водная стихия напоминает поэту об «эпохе вздыбленной», кажется плачем и предупреждением:
Не по жертвам ли войн нескончаемых,
Человечеству в укоризну,
Сокрушается море в отчаянье
И справляет суровую тризну?
И другой океан – «песчаный океан» пустыни – влечет Григория Санникова, который вместе с известными писателями тридцатых годов совершает путешествия на Восток, в Среднюю Азию, переживающую также бурную эпоху ломки, драматических перемен, перекраивания традиционных устоев. Поэт отправляется в Африку, в Аравию. «Разучивает наизусть» язык стихий огромного мира. Зловещая баллада – об умирающем, оставленном в пустыне верблюде: «В пустыне законы жестоки, / И каждому свой черед». А страшнее Эгейского моря – море житейское, погребающее человека при жизни…
Так вырабатывается характер необычный, диктующий «пролетарскому поэту» и не совсем обычные, нетрафаретные вкусы и поступки. Музыкально одаренный и чуткий, Григорий Санников впитывает певучие уроки Андрея Белого, становится младшим другом, учеником, собеседником символистского чародея. Вместе с Борисом Пильняком и Борисом Пастернаком подписывает напечатанный в «Известиях» в январе 1934 года некролог – яркое и сильное слово прощания с Андреем Белым.
«Милому Санникову с веселой дружбой», – надписывает Сергей Есенин своего «Пугачева». Бывало, они пели на два голоса, и так голоса и судьбы поэтов сплелись, а вот они рядом на снимке: Григорий Санников, Василий Казин, Сергей Есенин… Григорий Санников мог подолгу рассказывать о встречах с Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским, хотя это были разные отношения…
Григорий Санников защищал и поддерживал самобытный дар Павла Васильева; он сохранил и опубликовал его поэму «Христолюбовские ситцы», добивался полной реабилитации и восстановления доброго имени Павла Васильева, вел в январе 1961 года юбилейный вечер в честь пятидесятилетия со дня рождения замечательного русского поэта, трагически погибшего столь молодым…
Так во многих штрихах проступает глубокое благородство натуры Григория Санникова, преданность поэта русской культуре. Архив Григория Санникова, хранимый и изучаемый его сыном Даниилом Санниковым, живо свидетельствует о связях поэта с именами Ивана Бунина, Марины Цветаевой, Андрея Платонова и других выдающихся современников. Много лет посвятил Григорий Санников редакционной работе в известных журналах. В годы Великой Отечественной войны Григорий Санников сотрудничал во фронтовой печати, был контужен. Умер в январе 1969 года, не дожив до своего семидесятилетия…
Тонкий ценитель русской поэзии Иван Розанов отмечал «сдержанный, мужественный лиризм» «морских и восточных стихотворений» Григория Санникова. Поэтом «моря и Востока» называл Григория Санникова остроумный Николай Глазков. Маститые Лев Озеров и Николай Рыленков говорили о нравственной чистоте и подлинности судьбы поэта. Любителей поэзии пленяла санниковская мелодика.
Но главное, мне кажется, что в Григории Санникове всегда жила затаенная музыка, не поддающаяся пересказу. «Пламень твой лирический…» Голос мальчика из церковного хора, вятская нота… И свет – не электрический, а внутренний, душевный…
И такая тоска:
Где ты, друг мой родной?
Облака, облака,
Облака надо мной…
С. ЛЕСНЕВСКИЙ.
СТИХОТВОРЕНИЯ
СЕЛЬСКАЯ КУЗНИЦА [1]1Открывает первый сб. «Лирика» (1921).
[Закрыть]
Кукует в кузнице кукушка,
Выстукивая по станку
Такую бойкую частушку:
«Ку-ку, ку-ку».
Лучится утро чистой сталью,
Звенит и вторит молотку,
И над проселочною далью
Ликует гулкое «ку-ку».
Кудрявится вдали опушка
Кудрями кучными в шелку,
Кукует в кузнице кукушка:
«Ку-ку, ку-ку».
1919
«Весна. Струится ветер тонкий…»
Весна. Струится ветер тонкий,
Над городом кричат грачи.
О, как под вечер в шуме звонком
Устали в мастерской ткачи!
И я устал за тканьем тканей,
Уж мне домой пора, пора.
С тоскою непонятно тайной
Станок оставил до утра.
Иду, а по дороге талой
Поет о вечере ручей,
И вспоминается устало
Мне песнь весенняя ткачей.
И тянется мой взор за грани,
И синь небес он жадно пьет.
А вечер розовые ткани
Так радостно в лазури ткет.
1920
«Я помню себя очень маленьким…»
Я помню себя очень маленьким.
В нашем доме, где крашеный пол,
Словно в поле цветочек аленький,
Мой младенческий крик расцвел.
И качала меня мать в колыбели,
И про звезды мне пела она,
И плыла колыбель, и звезды звенели
По волнам голубого сна.
И одна из тех звезд нечаянно
Мне однажды упала на грудь
И, горя в моем сердце пламенем,
Повела меня в дальний путь.
1921
«В невеселом городе Тавризе…» [2]2В 1925–1926 гг. Санников путешествовал по Закавказью и Персии (Ирану). Тавриз – город в Иране. Иолдаш – по-тюркски – товарищ.
[Закрыть]
В невеселом городе Тавризе,
Где сады, сады, сады,
Полюбил я лирику Хафиза
И простую мудрость Саади.
По базарам шумным я толкался,
На коврах курил ли в чайхане,
Саади седой со мной встречался,
За кальяном улыбался мне.
И о чем-то издавна понятном
Говорил мне добрый Саади:
– Не горюй, мой друг, о невозвратном,
Радуйся тому, что впереди!
И пьянился чистый дым кальяна,
Слышно было, как века текли,
Осыпались розы Гюлистана
И еще роскошнее цвели.
А когда кругом синели крыши,
Затихал базарами Тавриз,
Мнилось мне, листву садов колыша,
Звал свою любимую Хафиз.
И всю ночь в сплошном самозабвенье
Преданные розам соловьи
Бульканьем, и щелканьем, и пеньем
Сыпали признания свои.
1925
В КОВРОВОЙ МАСТЕРСКОЙ
Высоки большие пяльцы,
В долгой песне мало слов,
И болят и ноют пальцы
От бесчисленных узлов.
Тонкой вязью песня вьется,
Голос мастера певуч.
Через крышу пыльно бьется
Одурелый солнца луч.
Сколько ткать еще осталось,
Мой товарищ – иолдаш?
Вся-то жизнь твоя – усталость,
Корка сыру и лаваш.
День за днем – узлы да слезы,
Шелест ниток, шелест слов.
Твой ковер в роскошных розах,
Жизнь – в уколах от шипов.
1925
ПОДРАЖАНИЕ ПЕРСИДСКОМУ
Не буду пьянствовать – сказал
Тебе вчера я в час рассвета
И вдребезги разбил бокал
В знак нерушимости обета.
Но мы расстались, моя Джемиле,
И, твой восторженный поэт,
В кругу приятелей разбил я
Одним бокалом свой обет.
1925
«У меня всего одна любимая…»
У меня всего одна любимая,
Но и та теперь мне не нужна.
Догорай же, песня лебединая,
Пропадай, зеленая весна.
Пропадай, веселая, цветистая,
Безрассудной страсти полоса.
О тебе, любовь, я пел неистово
За персидские твои глаза.
Ничего не видел, кроме Персии,
Целый год я был невольник твой;
А теперь опять заплачу песнями
Над своей суровой стороной…
Догорай же, песня лебединая.
Я проснулся от хмельного сна.
У меня всего одна любимая,
Но и та теперь мне не нужна.
1926
УХОДИМ В ПЛАВАНИЕ [3]3В 1926 г. Санников вместе с А. С. Новиковым-Прибоем плавал вокруг Европы. Алхесирас – город в Испании рядом с Гибралтаром.
[Закрыть]
А. С. Новикову-Прибою
От толчеи и гула гавани,
От постоянства тихой суши
Вчера мы оторвались в плаванье,
Чтоб-океан всем сердцем слушать.
Дружить с ветрами, с неизвестностью,
Любить покой живой лазури
И, отличаясь полной трезвостью,
Одолевать в Бискайском бури.
И снова плыть по глади зыблемой,
Встречать и штормы и туманы.
Мы все – сыны эпохи вздыбленной
И по призванью капитаны.
1926
«За бортовым кипеньем шторма…»
За бортовым кипеньем шторма
Мне не забыть ночной парад —
Вокзал в огнях и у платформы
Шеренгой поезд на парах,
Ее встревоженную нежность,
Тугое упоенье рук,
Приказ звонков и марш железный
В вагоне скорого на юг.
Она – на юг, в сады магнолий,
А я – в бессонницу морей,
Чтобы развеять чувство боли
И потопить тоску о ней….
Какое торжество разлива,
Какой невиданный простор!
Мятутся волны и ретиво
Со мной вступают в разговор.
Как бы заламывая руки,
Пружинясь грудью на меня,
Они отчаянье разлуки
Напрасно силятся унять.
Напрасно бьются и качают,
Вскипают буйно под винтом —
Им не унять моей печали
О днях рассыпанных, о том
Параде ночи освещенной,
О марше поезда, о ней…
Она – на юг, в сады магнолий,
А я – в бессонницу морей.
1926
В СЕВЕРНОМ МОРЕ
Я не знаю, не знаю наверное,
Почему я охвачен тревогой.
Разошлось, разгулялось Северное,
Так и хлещет волною широкой.
И грохочет пальбою пушечной,
Вспоминая недавние были:
Как на бой, при огнях потушенных,
По ночам крейсера выходили;
Как под вымпелами Британии
От германских подводных лодок
Броненосцы, смертельно раненные,
Всеми трюмами пили воду.
И, во тьме надрываясь зовами,
Под неистовый вопль матросов,
Вдруг проваливались, багровые,
Прямо вглубь накрененным носом…
Не по жертвам ли войн нескончаемых,
Человечеству в укоризну,
Сокрушается море в отчаянье
И справляет суровую тризну?
1926
ТУМАН В ЛА-МАНШЕ
Приполз неслышно по воде
Седой, на облака похожий.
Истлело солнце в духоте,
И путь дальнейший невозможен.
По карте – рядом берега,
На рифы напороться впору.
Грянь, ветер, в эти облака
И распахни, открой просторы.
И распахни, разбей, развей,
Пусть лучше шквал, и шторм, и качка,
Чем эта тягостная спячка
В Ла-Манше между двух морей.
1926
ВСТУПИЛИ В ОКЕАН
Шумит, колышется могучий.
Он по размаху нам сродни.
Но как томительно тягучи
На корабле пустые дни.
О всем успеешь передумать
И пережить, вторгаясь в даль,
Мечты и чаянья Колумба
И Чайльд-Гарольдову печаль.
О суше встрепенешься болью,
И, задымленные слегка,
Из одичалого раздолья
На миг возникнут берега,
Событий памятные числа
И ложный блеск пройденных стран.
И снова предо мной лучится
Широкой зыбью океан.
Белеют облака в лазури,
И вдруг, откуда ни возьмись,
Нагрянет шквал – предвестник бури,
И вот уже померкла высь,
И волны мчатся, закипая,
Переходя в крутой галоп,
Как будто конница лихая
Со сталью сабель наголо.
И мне отрадны перекаты,
И этот рев, и гул, и плач,
И ветра бурные сонаты
На деревянных струнах мачт.
1926
«Вчера ушли из Гибралтара…»
Вчера ушли из Гибралтара.
Дышали горы синевой,
И от полуденного жара
Сияло море за кормой.
Такой знакомый и отрадный
Белел вдали Алхесирас.
На крыши, башни и аркады
Я посмотрел в последний раз.
Уходит вдаль и этот город,
И в сердце почему-то грусть.
Прощай, Испания, не скоро
Я к берегам твоим вернусь.
Другие города и годы
На траверсе передо мной…
Шумит вода под пароходом,
Сияет море за кормой.
1926
НОЧНОЙ ШТОРМ
С вечера круто упал барометр.
К ночи на атлантический круг
Волны пошли черней и огромней,
Громче раскаты, грохот и стук.
Что это, заговор? Волны в разгуле,
Словно на дыбу корабль ведут.
Я на полу, как сраженный пулей,
В штурманской рву воротник в бреду.
Рядом другие в такой же дичи.
Лишь капитан, одолев маету,
В рупор на вахту зовет и кличет,
Режет и глушит гудками тьму.
Отклик не слышен. Команда в жути.
Пятеро смыты, а боцман пьян.
Мачты ломает, рычит и крутит,
И ходит по палубе сам океан.
1927
ШТИЛЬ
Однообразие пустыни,
Неодолимая вода.
Я заплутался в этой сини,
Стремясь к миражным городам.
Я позабыл года, и числа,
И пестрые названья стран,
И только вижу, как лучится,
Перегибаясь, океан;
Как на его цветном просторе,
В томительном бреду лучей,
Вдруг затрепещет белый город
Красивее страны моей.
Столпятся стены, башни, крыши,
И я матросов тороплю,
Бегу по вантам выше, выше,
Чтобы отдать морской салют.
Кричу: «Куда, куда вы звали?
О, атлантический обман!..»
Мой курс – в неведомые дали.
Мое жилище – океан.
1927
СИРОККОЛУННОЕ СИЯНИЕ
По африканским берегам,
По берегам крутого зноя
В багровом пульсе маяка
Вдруг наступают перебои.
Глядим – и в несколько минут,
Крутясь и мучаясь истошно,
Нам с визгом преграждает путь
С пустыни ветер невозможный.
Он жаром дыбится и вплавь
Идет, неистовый и рьяный,
И звезды крупные стремглав
В его сухом дыханье вянут.
Чернеет низкий небосвод,
Хватая клотик корабельный,
И содрогается пароход,
Как в судороге смертельной.
И дико, беспокойно мне.
Кругом отрава и опасность.
И, задыхаясь, слепнут снасти
В его невидимом огне.
Скорей бы выбиться, уйти
На океана круг широкий,
Но перекрыты все пути,
Повсюду душное сирокко.
1927
Затих, уснул закат измученный,
И вот – вовсю разлив луны,
И блещет море многозвучное
Червонным золотом волны.
Как скрипки зыбкое звучание,
Как упоенье тонких струн,
На море лунное сияние
И колыханье стаи шхун.
Я выходил один на палубу
И в средиземной тишине
Глядел на призрачную, алую
Оранжевую зыбь огней.
Я вспоминал пески Аравии,
Кофейный африканский зной
И до утра луны отравою
Дышал на палубе ночной.
И думал я о дальних гаванях,
О промелькнувших маяках,
О том, что жизнь, как это плаванье,
Заманчива и коротка.
1927
ГОРОД УГЛИЧ [4]4В 1928 г. Санников вместе с Б. А. Пильняком провел лето в Угличе, где и было написано это стихотворение. «Город Углич» печатается по сб. «Красная площадь» (1929). Многие строки в последующих редакциях были изменены, изменено и название, снято посвящение. Последний вариант стихотворения «Прощание с керосиновой лампой» в многотиражных сборниках «Стихотворения и поэмы» (1972) и «Аметистовые реки» (1979).
[Закрыть]
Борису Пильняку
Горяча заката киноварь,
Но сейчас я не о ней —
Я о лампе керосиновой,
Об уездной старине.
Пожилую, неприветную,
Закоптелую, в пыли,
Мне вчера подругу медную
Из чулана принесли.
За окном соборов зодчество,
Город в сумрак отступал.
Я над лампой в одиночестве
До рассвета горевал.
И в бреду вставала молодость:
Ночи, зори, петухи,
Фитиля крутое золото
На мои лилось стихи.
В керосиновом сиянии,
Молод, прыток и упрям,
Я навек бросался в плаванья
По развернутым морям.
Я по странам неисхоженным,
Я по тропикам гулял.
Над стихами невозможными
И смеялся и рыдал.
Помнишь, лампа, время зимнее
Ночь. Беспамятство снегов.
Девушке с глазами синими
Я нашептывал любовь.
При огне, огне прикрученном,
От избытка чувств и сил,
Я ее в потемках, мучая,
Упоительно любил.
Ты всему была свидетелем,
Но однажды, медный друг,
Догорела, не заметила,
Я уехал поутру…
Годы шли крутые, быстрые,
В грозах, в битвах, в маете.
Вся страна легла под выстрелы
Мылась кровью, а затем…
Но об этом долго сказывать.
Жизнь – эпический роман.
И в собранье хлама разного
Отнесли тебя в чулан.
Под портретом государевым,
Возле сваленных икон,
Отсияло твое зарево,
Схоронился медный звон.
И с тобою, незаметная,
Отцвела моя весна…
Керосиновая, медная,
Никому ты не нужна.
Нынче всюду электричество.
О бессонный друг ночей,
Я на память в Исторический
Передам тебя музей.
Под таким-то черным номером,
Керосиновая медь,
Обо всем былом, что померло,
Обо мне ты будешь петь.
Может, кто, задетый заживо,
Вспомнит дым далеких лет,
Как себя в ночах выхаживал
При твоем огне поэт.
Горяча заката киноварь,
Бредит город стариной
И во славе керосиновой
Потухает предо мной.
1928
РАЗДУМЬЕ [5]5В 1929 г. Санников путешествовал по Аравии.
[Закрыть]
Разгул ветров, безумство штормов
И штилевых затиший грусть —
Весь этот мир, живой, огромный,
Разучивал я наизусть.
Ходил по северным и южным,
И вот опять, как в прошлый год,
Ветрам Атлантики послушный,
Сажусь на дальний пароход.
Куда теперь? На юг иль север?
В какой еще водоворот?
Я вдоль и поперек измерил
Полглобуса земных широт.
То с Байроном под парусами
Свершал свой безотрадный круг;
Нас опалял восток ветрами
И обжигал песками юг.
То я с Рембо на люке трюма,
В беседе дружески простой,
Хмелея, пил из звездных рюмок
Ночей тропический настой…
О штевень гладясь, шли мальштремы,
А я, в раздумьях о земле,
Туманной жизни теоремы
Решал на шатком корабле.
Куда ж теперь? В какие воды?
Оставим этот пароход
Для юных и отменно бодрых,
Которым странствовать черед.
Полмира пройдено – довольно.
Полжизни прожито – пора,
Пора предать забаве школьной
Морской романтики тетрадь.
1929
САМУМ [6]6В 1930 г. Санников участвовал в поездке первой бригады писателей по Туркестану (Республикам Средней Азии); в 1934 г. был руководителем второй бригады в Туркмении. Джидда – растение. Дувал – глинобитный забор.
[Закрыть]
Цвел костер в синеве весны,
Лепестками кружились искры,
Ободок азиатской луны
Над пустынею реял низко.
Цветом слез осыпалась джидда
На унылую глину дувалов,
Шелестела в арыках вода,
И с афганской земли задувало.
* * *
Сначала вскричала валторна
И трелями медной гортани
В пустыне, горячей и черной,
Пошла шевелить барханы.
Заплакали флажолеты,
И, словно тромбоны, гобои, бубны, —
На девять баллов ветер —
Песчаный джаз-банд Каракумов.
* * *
Ветер грохочет в бубны
И, круто повертывая пред нами
Песчаную ночь на уступы,
Спутанными рядами
На север уходит проворно.
Кричат в стороне валторны,
И над растрепанною пустыней
Рассвет появляется синий.
1930
ПОСВЯЩЕНИЕТебе, Бела
Ты, похожая на ночную молнию,
Ты, достойная песнопений,
Прими пока что неполное
Собрание моих сочинений.
Прими эти песни, лавою
Покрывшие нашу дорогу,
С невеселой моею славою
И лирическою тревогой,
С духотою тропических плаваний,
С высотою восточной лазури.
Полюбившему дальние гавани
Суждены испытанья и бури.
1933

СМЕРТЬ ВЕРБЛЮДА [7]7
Открывает сб. «Восток» (1935).
Это стихотворение написано под впечатлением от последнего посещения Санниковым Андрея Белого в клинике, за два дня до смерти писателя.
[Закрыть]
В пустыне законы жестоки,
И, когда не под силу кладь,
И отказываются у верблюда ноги,
Отказываются шагать,
Его подбадривают ударами
Безжалостные проводники,
Пока не падает старое
Животное на пески.
И, увидев, что время верблюду
Умирать,
Со спины натруженной люди
Равнодушно снимают кладь.
Обнажаются кровоточащие, стертые
Верблюжьи его горбы.
Но он голову держит гордо
Для последней в жизни борьбы.
И, не чувствуя боли незаживленных,
Запекающихся под солнцем ран,
Глядит тоскливо и удивленно
На уплывающий караван.
Ему тяжело и душно,
Ослепительно льются пески.
И, когда ни глаза, ни уши
Не улавливают удаляющейся тоски,
Покинутое животное
Вдруг начинает понимать,
Что не пить ему больше воду,
Не встать.
И, внезапной объятое болью,
Чуя свой наступивший срок,
Гордую голову
Роняет на песок.
А пустыня колышется, вспыхивает, тускнеет,
И, курясь на барханах дымком,
Его вытянутую шею
Не спеша заметает песком.
И не слышит он, бездыханный,
Здесь могилу нашедший верблюд,
Как вдали бубенцы каравана
Без него, не смолкая, поют.
В пустыне законы жестоки,
И каждому свой черед.
Живи для людей, умирай одинокий
И не грусти об ушедших вперед.
1934

«Снилось: я песками пламенными…»
Снилось:
я песками пламенными,
Караванной шел тропою,
Волочил ногами каменными
Всю пустыню за собою.
Но и я свалился тоже,
Как и мой верблюд издохший.
И зрачками выпирающими,
Раздирающими веки,
Вдруг увидел я играющие
Аметистовые реки.
1934
«Песчаная вечность…»
Песчаная вечность.
Ни отклика, ни дорог,
На карте пустыни
Следы моих ног.
Подымется ветер,
Песком заметет
Тропу моей жизни,
Труда и забот.
И был ли я, не был —
Кто будет знать?
И все же отрадно
Шагать и шагать.
1934
«Черный вечер, белый снег…» [8]8При жизни не публиковалось. Печаталось в сб. 1972 и 1979 гг. по машинописным текстам.
[Закрыть]
Черный вечер, белый снег,
Звезды красные на башнях.
Разошлись с тобой навек
В непогожий день вчерашний.
Где теперь ты? Отзовись!
До чего ж мы безрассудны.
Так и с жизнью разойтись
Мне уже совсем нетрудно.
Эй, прохожий человек,
Где он, где он, день вчерашний?
Черный вечер, белый снег,
Звезды красные на башнях.
1934
ВЕТЕР С ПОЛЕЙ ИСПАНИИ
Резок, порывист ветер осенний,
Ветер с полей Испании.
Слышу в нем грохот сражений,
Крики и стоны раненых.
Вижу: под крыльями самолетов
Город в огне и развалинах.
Ветер доносит стук пулеметов,
Рявканье пушек оскаленных.
Слышу, как танковые дивизионы
За дымовой завесой
Гулко грохочут тяжелыми тоннами
Ползущего в бой железа.
Вижу: проходит… прошла… шагает
По Арагонии армия смерти.
Земля шатается,
Солнце медленно меркнет.
Но, не сгибаясь, стоит Испания,
Испания на баррикадах…
Вздрагивает в смятенье
Ветер весенний.
1937
ТЫ ЛИ ЭТО, АСТУРИЯ?
Трупы танков лежат, ржавея,
Чернеют скелеты бомбардировщиков,
Опрокинутые орудия и минометы —
Всюду останки железной бури,
Бури огня и металла…
Ты ли это, Астурия?
Тысячи жертв непогребенных
На изрытых полях сражений.
Тонущие под самолетами пароходы
На неспокойной бискайской лазури
С последними беженцами во Францию.
Ты ли это, Астурия?
………………………………………….
Астурия, Астурия…
1938
«Немеет степь…» [9]9Три отрывка из поэмы «Сказ про двух сестер».
[Закрыть]
Немеет степь
в багровом душном зное.
Ни деревца, ни тени.
Тишь да гладь —
Такая гладь,
что краю не видать.
Недвижен день,
как вол на водопое.
Трава повыгорела от жары,
Унылы опаленные бугры,
Пустые, пересохшие овраги…
Ни облачка,
ни капли влаги…
1938








