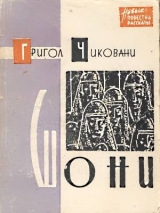
Текст книги "Шони"
Автор книги: Григол Чиковани
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
10
После сражения под Кулеви Сесирква Липартиани не брал в руки оружия: старые раны не позволяли ему даже сесть на коня. Но когда враг подступал к границам Одиши, сам Дадиани посещал его, советовался с ним. В дни празднеств и торжеств сажал он Сесирква рядом с собой. И это было не только знаком уважения – Дадиани любил его, как брата.
Сесирква женился, обзавелся детьми. По его повелению, Синту похоронили не в дворцовой ограде и не на кладбище, а под старой ольхой, лицом к дороге, откуда должен был прийти Чонти…
Прошло двадцать лет. Однажды утром Сесирква Липартиани, сидя на балконе своего дворца, наблюдал, как его старший сын Александр упражнялся во владении саблей. Сесирква готовил сына к походу: царь Картли и Кахети Теймураз собрался выступить против шаха-Аббаса.
Молодой царь избрал удачное время: между Ираном и Турцией шла война. На помощь войскам Картли и Кахети должны были прийти Имерети и Мегрелия, чтобы объединенными силами изгнать кизилбашей из Грузии.
Липартиани смотрел с балкона на Александра и вспоминал свою молодость. Юноша ловко владел оружием и сейчас теснил своего противника, испытанного воина-карачаевца. Тот отступал, уклоняясь от быстрой сабли Александра. Мужчины, обступив их полукругом, с интересом следили за поединком. Тут были абхазцы, имеретины, кахетинцы, лезгины, чеченцы – лучшие воины, собранные из разных краев, чтобы обучить Александра сабельному бою и метанию копья, стрельбе из лука и владению кинжалом. Теперь они внимательно следили за каждым движением своего ученика.
Высок и широкоплеч был молодой господин, чоха плотно облегала его стройный стан. Нежное, не успевшее огрубеть под солнцем лицо, яркие голубые глаза и русый вихор, упрямо спадавший на лоб, придавали его облику мужественную доброту и привлекательность.
В его годы таким был и Сесирква Липартиани; Александр продолжал его жизнь, его дело. Отец защищал Одиши от турецкого нашествия, а сын собирался теперь к царю Теймуразу, чтобы принять участие в походе за освобождение Грузии от персов…
Липартиани заметил вдруг, что к людям, наблюдавшим за поединком, быстро подошел незнакомец, одетый в богатую турецкую одежду, с кривым ятаганом за поясом. «Кто это! – удивился Сесирква. – На купца он не похож…»
Как раз в это мгновение карачаевец неожиданным выпадом выбил саблю из рук Александра. Разгоряченный юноша ринулся, чтобы поднять свое оружие, но незнакомец опередил его.
– На этот прием отвечают вот так, сынок, – проговорил он негромко и взмахнул саблей: – Держись, карачаевец!
С лязгом скрестились сабли, раз, другой, и вот уже сабля карачаевца упала на землю. Незнакомец поднял ее и протянул противнику. Потом обернулся к Александру, но увидел перед собой взволнованного Сесирква.
– Чонти!
Чонти опустил голову и преклонил колено перед своим господином.
11
Недолго рассказывал Чонти…
Турки втащили его, раненого, на свой корабль, привезли в Стамбул и продали в неволю. Опытный глаз работорговца на стамбульском базаре разглядел в изнуренном рабе прекрасного воина. Чонти не знал в его доме недостатка ни в чем: ни в лекарях, ни в уходе, ни в пище. Вскоре он пришел в себя, окреп и тогда торговец, вместе с другими ценными подарками, преподнес его в дар султану. Затем Чонти попал к знаменитому турецкому военачальнику, и начались наезды, походы, битвы. Пришла к Чонти слава, а слава принесла с собой и богатство. Но ни богатство, ни почет не могли заглушить тоски по родине. День и ночь мечтал Чонти о возвращении домой, но миновало целых двадцать лет, прежде чем представился случай осуществить давно задуманное. Воспользовавшись ирано-турецкой войной, он убежал в Армению, оттуда перешел в Кахети, в Картли, заехал к царю Теймуразу, передал ему важные сведения о турецком войске, и вот он здесь, в Одиши…
Чонти рассказал невеселую повесть своей жизни так, словно пережил все это не он, а кто-то другой. Его думы были заняты одним – он хотел узнать о судьбе Синту.
Сесирква проводил его на могилу. Долго стояли они под старой ольхой. Лес безмолвствовал. Только где-то в зарослях кричали дрозды да на дороге поскрипывала арба…
По этой дороге прошел сегодня утром Чонти. Мог ли он подумать, что тут похоронена Синту?!
«Я вернулся, не смогла погубить меня турецкая сабля, Синту!»
Через неделю Чонти вместе с Александром Липартиани уехал в Кахети.
Шони

1
Девушка стояла на краю канавы… В одной руке у нее был кувшинчик, заткнутый кукурузными листьями, в другой – увязанный в платок полдник.
– Не надо, – сказал парень.
Он стоял в канаве, опершись на черенок лопаты. На его лице, разгоряченном от солнца и тяжелой работы, сверкал пот. – Мне и своей еды хватает. – По-мегрельски он говорил плохо, а когда сердился – так и того хуже.
Из-под челки волос, упавших на лоб девушки, ласково глядели на парня большие голубые глаза.
– Нет, не хватает, шони,[4]4
Шони – сван (мегр.).
[Закрыть] – сказала она упрямо и присела на землю, выброшенную из канавы. – Хозяйским хлебом не насытишься.
– Отцепись ты от меня, девчонка! – Вместо угрозы в голосе парня невольно прозвучала мольба. – И за что только наказал меня бог! Зачем нанялся я к этому Катран-батони![5]5
Батони – господин, владетель, а также почтительное обращение.
[Закрыть]
– Ты жалеешь об этом, шони? – Девушка окинула его грустным взглядом.
– Не надо было мне наниматься к Катран-батони…
– Вот что, шони, я немножко посижу с тобой. – Тряхнув головой, Циру отбросила назад волосы, улыбнулась парню, и на ее загорелом лице блеснули белые зубы. – Ты только не сердись, шони, я побуду с тобой совсем немножко. – Она развязала платок: в тыквенный лист была завернута горячая кукурузная каша-гоми с вплавленным в нее сыром. Сняла крышку с горшочка, до краю полного фасоли. – Это я сама заправила фасоль, шони.
– Я потому и не хочу, что ты сама заправила, – ворчливо отозвался парень. – Теперь-то ты уйдешь, наконец?
– Не уйду. – Циру, обхватив руками ноги, уперлась подбородком в колени. На лоб ее снова упала прядь волос.
Сван отвернулся от девушки, заправил за пояс подол архалука[6]6
Архалук – национальная одежда.
[Закрыть] и стал копать, загоняя лопату в землю по самый черенок и высоко подбрасывая комья.
– Чего ты надрываешься, шони, – сказала Циру, – отдохнул бы…
Парень бросил лопату, вылез из канавы и пошел прочь. Перескочив через забор, он вошел в виноградник.
Взгляд Циру всегда манил его, звал к себе. Когда она глядела на парня, он, как зачарованный, лишался воли. Даже сейчас, шагая по винограднику, ощущал он за спиной силу ее взгляда…
Циру, действительно, не отрывала глаз от парня, но теперь они были затуманены печалью. А когда сильная, рослая фигура свана скрылась за лозами, на ресницах девушки повисла слеза, и она уже ничего не видела перед собой. Все слилось воедино: и виноградник, и тополя, выстроившиеся вдоль забора, и курятники, и конюшни, и марани Катран-батони, и земля, и небо. Долго сидела она так, не опасаясь, что кто-нибудь увидит ее здесь, безразличная к тому, что скажет о ней молва.
– Что мне с тобой делать, шони! – прошептала она в отчаянии и закрыла лицо руками.
2
Невесту для Гау – так звали юного свана – выбрали, когда он был еще в материнской утробе. Конечно, обе матери могли родить девочек или мальчиков, но вышло так, что надежды родителей сбылись: сперва появился на свет Гау, а затем Мзиса. Отец Гау, Тависав Чартолани, навестил отца новорожденной и принес ему в подарок дробовик.
– Бекмурза, если твоя Мзиса по своей или чужой воле выйдет за другого, то я и ты… – Тависав положил широкую, как лопата, ладонь на рукоять кинжала.
Бекмурза был из зажиточного рода, и Тависав, как бедняк, хотел иметь невестку из его семьи. Бекмураза был ему другом и спустя год привел будущему жениху положенный обычаем накданвири[7]7
Накданвири – дар, приносимый родителями невесты жениху (сван.).
[Закрыть] – упряжку быков. Тависав, в свою очередь, одарил будущую невестку на смотринах. Теперь уже никакая сила не могла разлучить помолвленных.
Гау и Мзиса росли вместе. Вместе пасли скот, носили дрова из лесу, косили траву, ходили на мельницу. При переходе через реку Гау брал девушку на руки, она несмело обнимала его за шею, приближала свое разгоряченное лицо к его лицу. Но юношу это ничуть не трогало. Мзиса трепетала в его сильных руках, но ее юное тело было всего лишь тяжелой ношей. Мзиса понимала, что для Гау она была только другом, но она не открывала Гау причину своей печали. Впрочем, юноша и сам догадался, что Мзиса любит его…
Подошло время венчания, и Гау, по обычаю, должен был принести в дар невесте начвлаши[8]8
Начвлаши – ответный дар жениха невесте (сван.).
[Закрыть] – две упряжки быков и одну корову. Тависав посоветовал сыну отправиться на заработки – так поступали все бедняки-сваны. Забросив за спину мешок и накинув бурку, взяв в руки лопату, они шли либо в Рачу и Лечхуми, либо в Имеретию и Гурию, но чаще всего в Одиши. И Гау решил пойти в Одиши.
Посреди лета Гау собрался в дорогу, чтобы к осени заработать деньги на покупку скота. Мзиса ждала его на краю села, в руках у нее был мешок с припасами. Они пошли рядом. Мзиса в душе молилась за Гау святому Георгию – покровителю путешественников. Наконец после долгого молчания юноша сказал:
– Мзиса, передай Сохре, чтобы он не продавал быков.
– Передам, Гау.
– Я ему задатка не давал.
– Знаю, Гау.
– Скажи, мол, через два месяца вернется Гау.
– Скажу, Гау.
– Пусть Сохре подождет меня два месяца.
– Да, Сохре подождет два месяца.
Они шли по тропинке вдоль высокого берега Ингири. В ущелье глухо рокотала река. Мзиса снова помолилась за Гау святому Георгию.
– Я и Сохре сошлись в цене… Скажи ему, чтобы он не продавал быков.
– Не продаст Сохре быков.
– Пусть и корову не продает.
– Чтоб волки съели ту корову, Гау, – сердито сказала Мзиса. – И тех быков.
Внизу по-прежнему глухо ревел Ингири.
Мзиса остановилась, остановился и Гау.
– Гау, – сказала Мзиса, – может быть, не нужно никакого начвлаши?
Но Гау как будто не слушал Мзису, он смотрел на реку.
– Может быть, не надо начвлаши? – повторила Мзиса. – А отец вернет накданвири, Гау…
Гау удивленно взглянул на девушку.
– Не нужны тебе больше ни быки, ни корова, слышишь, Гау! Считай себя свободным… Только бы ты был счастлив!
Мзиса повернулась и пошла в деревню. Гау стоял пораженный. «Считай себя свободным, Гау», – слышался ему в шуме Ингири покорный голос Мзисы…
3
Вместе с пятью другими сванами Гау целую неделю тщетно искал работу. Взятые из дому припасы были съедены, денег и лишних вещей у них не было, а шестерых таких здоровяков никто даром кормить бы не стал. Они решили разойтись, и Гау ходил теперь от дома к дому один. Просить он не хочет ни еды, ни жилья, потуже затянул пояс, питался дикими вишнями и тутой, спал под деревом, укрывшись буркой. Однажды, изнуренный жарой и голодом, он забрел в горную деревню Лакади. Отдохнув на чьем-то поле, он вышел к заводи, огороженной колючим кустарником, и вдруг остановился как вкопанный…
Навстречу ему шла юная девушка, только что вышедшая из реки. Ее тело, цвета зрелой нивы, блестело от воды, длинные мокрые волосы стлались по плечам и упругой груди. Высокая, гибкая, она горделиво несла свою красоту. Гау она увидела, когда их разделяло несколько шагов. Ужаснувшись, девушка с трудом удержалась от вскрика, но, взглянув на удивленно-восторженное лицо свана, невольно улыбнулась. А Гау показалось, что вместе с ней улыбнулись небо, земля, сверкающая под солнцем вода, вся окрестность. Но уже в следующее мгновение она повернулась, в несколько прыжков достигла речки, и до Гау донесся громкий всплеск.
– Откуда ты взялся здесь, шони? – Из воды показалось смеющееся лицо девушки, ее голубые лучистые глаза смотрели на Гау смело и прямо.
– Что ты на меня уставился, шони? – Она разразилась смехом. – Уходи! Уходи! А то я закричу!
Гау повернулся и пошел. Ноги плохо повиновались, ему хотелось еще хоть раз взглянуть на девушку.
– Уходи, уходи, шони, а то я, правда, закричу!
Что-то в ее голосе заставило Гау остановиться.
– Правда закричу, так и знай, шони! – смеялась девушка, хлопая руками по воде.
Не решаясь повернуться, не в силах слышать более ее голоса, не то призывного, не то насмешливого, Гау сорвался с места и побежал прочь. Уж не привидение ли это? Уж не померещилась ли ему эта девушка от голода, зноя, усталости?..
А девушка все не выходила из воды, ей казалось, что сван еще там, на берегу. Потеряв, наконец, терпение, она окликнула его. В ответ – молчание. Тогда она робко двинулась к берегу, прикрывая руками грудь. Когда вода была ей по пояс, она внимательно оглядела берег, убедилась, что сван ушел, быстро добежала до куста, схватила платье, висевшее на нем, и натянула его на себя. Отжав волосы, она взмахом головы красиво разбросала их по плечам. Сейчас, оттененное ярким, кизилового цвета платьем, лицо ее казалось еще более загорелым, глаза более глубокими и лучистыми.
«Откуда только этот медведь забрел сюда? – думала она о сване, идя кукурузным полем. – Заблудился он, что ли?»
Это было то самое кукурузное поле, откуда Гау попал к заводи. Девушка полола там кукурузу и перед полдником всегда купалась в реке. Она выбрала этот уголок, потому что туда не только человек, но и скот никогда не забредал…
Село пряталось между высоких холмов, отсюда узким потоком выбегала река, русло которой затем постепенно расширялось Холмы, покрытые фруктовыми деревьями, виноградниками, посевами ржи и кукурузы, были окрашены сейчас, в близости заката, в нежно-розовый цвет. Обычно с наступлением сумерек село оживлялось – возвращавшаяся с работы молодежь с веселым говором, смехом и песнями уходила в узкие улочки и переулки. Дома и плетеные хижины, весь день как бы дремавшие, пробуждались ото сна. Юноши и девушки спешили умыться и поужинать, чтобы поскорее встретиться друг с другом. Затем снова воцарялась тишина: ведь любви не нужны ни слова, ни песни – ничего, кроме сердечной близости.
После битвы в Кулеви с Махмуд-Гассаном в селе долго не слышно было ни песен, ни смеха. По возвращении с работы девушки уже не спешили к избранникам своего сердца: ни один юноша не вернулся назад из Кулеви. Застывшим в горе девичьим сердцам было теперь не до пенья, не до веселья, и за последние два года Циру была в селе едва ли не первой девушкой, прервавшей работу по велению сердца…
Циру, идущей по сельской улочке, казалось, будто все девушки спешат сейчас домой. Она и сама не знала, ради чего так торопится, но в поле остаться она не могла: в ее ушах неотступно звучала та полузабытая песня, какой сердца призывают друг друга. Она почему-то решила, что шони ждет ее дома. Мысль эта так сильно овладела ею, что она невольно ускорила шаг. А когда вбежала во двор, у нее чуть не подкосились ноги: под платаном, за покрытым столом, спиной к дому, сидел сван и с аппетитом ел.
– Что это за человек, мама? – спросила девушка у матери. Та сидела у порога и лущила кукурузу.
– Это шони, детка, он ищет работу. Просил пустить его на ночь, а когда я взглянула на него, сразу поняла, что дело не в ночлеге, он просто очень голоден…
– Как же ты пустила в дом чужого человека? – намеренно громко сказала девушка.
Гау положил обратно поднесенный ко рту кусок.
– Как же я могла отказать ему, дочка? Ведь даже врагу, если он голоден, уделяют кусок!
Девушка стояла с мотыгой на плече, не отводя глаз от матери. Кажется, никогда еще она так не любила ее. Но на свана она не решалась взглянуть. Впрочем, он и так крепко запомнился ей: выше среднего роста, широкий в плечах, ладно скроенные чоха и архалук, сдвинутая на затылок серая войлочная шапка, упрямый лоб, густые брови, большие глаза, устремленные на нее, Циру, с восторженным удивлением.
– Ой, какой он смешной! – внезапно воскликнула девушка и расхохоталась.
– Кто смешной, девочка? – От неожиданности мать даже перестала лущить кукурузу.
– Да он…
– Кто он, дочка?
– Да он же, мама! Если бы ты только видела, как он смотрел на меня! – Отбросив мотыгу, Циру вбежала в дом и со смехом бросилась на тахту. – Как он смотрел, какие у него были глаза! – воскликнула она сквозь приступ неудержимого смеха.
– Циру, дочка, – встала над ней испуганная мать. – Что это случилось с тобой? Кто смотрел на тебя, кто был смешной?
Циру вскочила с тахты, схватила мать за талию и закружила ее по комнате.
– Ой, ты тоже смешная, мама! И я смешная, самая смешная, глупая, сумасшедшая!..
– Пусти меня, дочка, у меня кружится голова! С ума сошла моя дочь!
– Верно, мама, я сошла с ума! – В открытую дверь девушка глянула на Гау, тот по-прежнему сидел спиной к дому, и она с трудом удержалась, чтоб не броситься к нему. – Что мне делать, мама, скажи… со мной такое творится! – Отпустив мать, Циру выбежала из комнаты и, перескочив через забор, помчалась по дороге. Мать с тревогой следила за ней, пока она не вскрылась за дальними деревьями.
А Циру все бежала, не зная, куда и зачем. Перед глазами ее стоял сван. Она бежала все быстрее и быстрее, боясь, как бы образ его не растворился в сгущавшихся сумерках. Колени у нее подгибались, она почувствовала слабость во всем теле и в изнеможении опустилась на траву. Легла на спину. Высоко в небе, над самой ее головой сияла полная луна. И на бледном серебристом диске луны Циру увидела огромное лицо. Широко раскрытые глаза… Горящие, взволнованные, такие же, как там, у реки… Циру не выдержала их взгляда, прикрыла глаза рукой. И все же, сквозь пальцы, глядела на лунный лик.
– Шони… шони… – шептала она. – Как зовут тебя, парень? – Сердце ее неистово билось, и она прижала к груди руку. Но разве можно успокоить сердце! Она вскочила и опять побежала, шепча про себя с неизъяснимым чувством все то же слово: шони, шони, шони…
«Кто он такой, этот шони?! Я не знаю его, и он не знает меня. Что свело меня с ума? Да разве это имеет значение, кто он такой? Шони… шони… шони…»
Она бежала по деревенской улочке. А с серебряного лика луны глядел на нее сван. «Шони! Шони!» – улыбалась ему Циру.
Остановилась Циру у калитки дома, стоявшего в конце проселка, и только сейчас поняла, что именно сюда она и стремилась. Хотя хозяева уже спали, девушка, переводя дыхание, негромко позвала:
– Пуцу!
Вскоре дверь заскрипела, на балкон вышла женщина и пристально вгляделась в темноту.
– Это я, Циру…
Пуцу в одной рубашке направилась к калитке.
– Что ты, Циру? Что-нибудь случилось?
– Скажи, Пуцу, когда ты в первый раз увидела своего Гуджу, он не показался тебе смешным?
Пуцу так поразил этот странный вопрос, да еще среди ночи, что она не сразу нашлась, что ответить.
– О чем ты спрашиваешь меня, Циру, дорогая? Зачем ему было быть смешным?
– А какой же он был?
– Какой? Самый хороший, лучший из всех… – Красивое, молодое лицо Пуцу озарилось улыбкой.
– Так почему же… шони такой смешной?
– О каком шони ты говоришь, Циру?
– Ну, а потом? – допытывалась Циру, не отвечая. – Что с тобой было потом?..
– Понравился он мне…
– А что еще было? Ну, понравился… А потом что? А потом ты убежала?
– Что ты, Циру, зачем мне было убегать!
– Но тебе не было смешно?
– А что в этом смешного?
– Значит, ты не убежала и не смеялась? А мне вот смешно. – И Циру опять безудержно расхохоталась.
– Перестань, Циру, – прижала ее к сердцу Пуцу. – Ты просто влюблена.
– Ой, правда! – воскликнула Циру. – Скажи мне, Пуцу, а когда Гуджу посмотрел на тебя, что с ним сделалось?
– Я ему тоже понравилась.
– А как ты узнала об этом?
– Он смутился и не мог выдержать моего взгляда…
– А что еще было с ним?
– Лицо у него покраснело, как бурак…
– Ой, и с ним так было, Пуцу!
– С кем? Скажи, наконец, с кем, Циру?
– Да с шони, с шони…
4
Гау лежал под платаном на бурке, подушкой ему служил свернутый мешок. Несмотря на усталость, он не мог уснуть: все мерещился ему образ девушки. Тщетно закрывал он глаза, ворочался с боку на бок, сон упорно не шел к нему. Мог ли он думать, что в это время, скрывшись за платаном, над ним стоит сама Циру и не сводит с него глаз…
«Что это так тревожит его?» – спрашивала она себя, трепеща от страха, что сван услышит, как бьется ее сердце. И вдруг Гау поднял голову и присел.
– Чего ты хочешь от меня, девушка? – сказал он как бы про себя, и в голосе его слышалось отчаяние. – Пожалей меня!
– О, шони! – невольно отозвалась Циру.
Гау вскочил со своего ложа, и оба они, испуганные и трепещущие, оказались друг против друга. Циру опомнилась первой.
– Не смотри на меня так, шони, а то я закричу… – сказала она тем же лукавым тоном, что и при первой их встрече. – Боже, какой ты смешной, шони, и лицо у тебя красное, как бурак!..
Циру громко рассмеялась, тряхнула волосами, откинув их назад, убежала и тенью скользнула в дом.
5
Утром Циру и ее мать с удивлением обнаружили, что старый, поломанный забор вокруг двора приведен в полный порядок, а сван, стоя под платаном на одном колене, точит мотыгу Циру. Мать и дочь переглянулись.
– Смотри-ка на этого шони, – улыбнулась мать. – Уж не собирается ли он к нам в женихи!
Между тем сван, окончив точить, тронул пальцем острие мотыги, приставил ее к стволу платана, перекинул за спину мешок и бурку и направился к женщинам.
– Я ждал, пока ты встанешь, мать, – сказал он, обращаясь к хозяйке и не глядя на Циру. – Хотел поблагодарить тебя.
– Это тебя надо благодарить, сынок, да будет благословенна твоя рука! Пусть будут счастливы твои родители за то, что вырастили такого хорошего сына. Обожди, сынок, я накормлю тебя.
– Не надо, мать, я не ем по утрам.
– Он, наверное, заодно съедает завтрак и полдник, – улыбнулась Циру. – Так ведь, шони?
Она смотрела на Гау, но он опустил глаза.
– Оставайся с миром, мать…
И Гау повернулся было, чтобы уйти.
– Мама, – будто между прочим сказала Циру, – по-моему этот шони ищет работу. А Катран-батони нужно канаву выкопать…
– Как это я забыла, чтоб мне сквозь землю провалиться! – воскликнула хозяйка. – И виноградник нужно огородить Катран-батони! Это вон там, сынок, в конце проселка!.. У него работы месяца на два хватит. Правда, он немного прижимист, этот Катран-батони, смотри, чтобы он не надул тебя при расчете!..
Гау так был погружен в мысли о Циру, что не расслышал слов хозяйки. Ничего не ответив ей, он повернулся и пошел к воротам, даже не взглянув на Циру.








