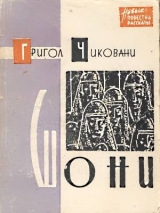
Текст книги "Шони"
Автор книги: Григол Чиковани
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Григол Самсонович Чиковани
Шони
Тагу

Послов сопровождал Кешан Чиладзе. Они торопились: выйдя утром из Потийской гавани, не сделали ни одного привала. Шли густым, вековым лесом; высокие, могучие кроны, образуя сплошной свод, скрывали от людей солнце. Потеряв счет времени, послы опасались, что ночь застигнет их в чаще. От зноя, казалось, закипало болото, со всех сторон подступавшее к путникам, В мрачном молчании леса было слышно, как булькает и клокочет трясина, из которой то и дело выскакивали на дорогу огромные пучеглазые жабы. От омерзения, смешанного со страхом, у послов перекашивались лица. Их было двое, они несли к Дадиани послание султана Мурада.
Люди одишского правителя – мтавара никогда не вели турецких послов в его резиденцию прямой дорогой и старательно обходили населенные места, поля, сады, виноградники. Если послы высаживались в гавани Поти или Кулеви, им приходилось преодолевать на своем пути лесные заросли и топкие болота. Если шли из Анаклии, то их вели по опасным, узким тропам, по самому краю обрывов и скал; на реках проводники обходили броды и переправляли послов через бурлящие водовороты. Ночлег им устраивали в грязных пастушеских хижинах, где дым очага выжигал глаза, потчевали их черствым мчади и вяленой козлятиной. Ложем им служила охапка сена, подушкой – обрубок дерева. Словом, прежде чем послы добирались до Дадиани, они проклинали свою судьбу, приведшую их в Одиши. Таким способом Дадиани хотел обмануть могущественного султана, отбить у него охоту владеть будто бы нищим, обездоленным, полуголодным княжеством Одиши.
Приближенные Дадиани, которым он поручал встречать иностранных послов и курьеров, брали с собой опытных проводников, знакомых с каждой тропкой, с каждой извилиной дороги. На этот раз проводниками были пастухи Кешана Чиладзе, Тагу Зарандиа и его семнадцатилетний сын Вагуриа Сквери. Сквери[1]1
Сквери – козуля, по-мегрельски.
[Закрыть] юношу прозвали потому, что своим стройным станом, точеной шеей и большими глазами с длинными ресницами он действительно походил на козулю. К тому же, как и все мегрельские пастухи, которых на каждом шагу подстерегала опасность, он всегда держался настороже.
Вагуриа Сквери был одет в домотканые из серой шерсти штаны и рубаху, из которых давно вырос: штаны едва доходили ему до колен, а рукава рубахи до локтей. Он был необут, простоволос, подпоясан грубой веревкой.
Землю, по которой ступали путники, устилал сплошной покров из перегнившей листвы и моха, росшие вокруг болота кусты и колючки сплелись между собой, образуя труднопроходимые заросли; бук, ольха, тополь и липа цеплялись друг за друга ветвями. То тут, то там сквозь густую зелень леса пробивались мощные столбы солнечного света, щедро золотя листву и чахлую болотную поросль. Порой сияющее золото лучей пересекала тень вспугнутой лани, пролетевшей утки, выпорхнувшей из кустов лесной курочки…
Вагуриа Сквери быстро и безошибочно угадывал, где под покровом гнилой листвы и моха скрывалась твердая, сухая земля, а где – коварное, бездонное болото, поджидающее свою жертву. И отец и сын, перегоняя с места на место княжеский скот, вдоль и поперек исходили гористую часть Одиши и равнины ее прибрежной полосы. Не было таких горных рек и стремнин, через которые им не приходилось переправляться.
Собираясь в поход или задумав какое-либо иное опасное дело, Кешан Чиладзе всегда призывал к себе Тагу Зарандиа. Кешана восхищало невозмутимое спокойствие Тагу перед лицом любой опасности и даже самой смерти, его способность терпеливо переносить телесные страдания. Поручая ему сопровождать турецких послов, Кешан твердо был уверен, что никто другой не сможет провести их через Коратскую чащобу. Но Кешан не знал одного: Тагу Зарандиа уже не был прежним Тагу. Зрение его потеряло свою остроту, и сердце начало сдавать, и задору стало куда меньше. Правда, он, как и прежде, добросовестно пас тучные стада своего господина, но теперь он не чувствовал всю полноту жизни, особенно после утрат двух своих детей. Единственной радостью, единственным утешением его скорбного сердца был Вагуриа.
Когда Тагу передали приказание немедленно явиться к Кешану, он обрадовался, что князь вспомнил о нем, но и огорчился, считая себя уже непригодным для важных дел. Узнав, что ему поручают быть проводником турецких послов, он без колебания решил сопровождать их: даже на смертном одре не отказался бы Тагу от такого поручения, ведь с турками у него были давние счеты. Скрыв от князя, что время и тяжелые утраты ослабили его тело и дух, Тагу решил взять с собой сына.
Зной все прибывал, становилось трудно дышать. Шли гуськом: впереди, по непроторенной дороге, шагал Сквери, за ним Тагу и Кешан Чиладзе, далее послы, а замыкали шествие слуги. Дорога осталась далеко в стороне, но, подумав, что ночь застанет их в лесу, Сквери решил вновь выйти на дорогу.
– Сквери! – Услышав тихий, предостерегающий голос отца, он тотчас же воротился на прежний путь.
Между ними было условлено, что, пока отец не подаст ему знака, он не должен выводить послов на дорогу: Тагу хотел помучить турок, довести их до изнеможения. И хотя Вагуриа своим безошибочным чутьем понимал, что скоро потеряет направление, он все же повиновался отцу.
Спускались сумерки. Лес притих, слышно было лишь надсадное дыхание утомленных путников, звуки всплывающих на болоте и лопающихся пузырей, неумолчный комариный звон. Лучи солнца, пробившиеся сквозь зеленый лесной свод, постепенно редели, бледнели, разноцветная поверхность болота переливалась в сумеречном свете, как змеиная кожа.
Все ощущали, что творится что-то неладное, что проводники сбились с пути. Послов охватило подозрение: как могли люди мтавара заблудиться на собственной земле? Они украдкой наблюдали за поведением проводников, и подозрение их вскоре рассеялось: те сами были растеряны и взволнованы не меньше послов…
Тагу уже жалел, что помешал сыну вернуться на дорогу. Вагуриа рассудил правильно, а его, Тагу, ослепила злоба против неверных. Теперь же оставалось одно: идти вперед. Если они и не выберутся на дорогу, то, быть может, повстречают пастухов, которые выведут их из болота.
Между тем идти стало труднее. Почва под ногами делалась все более зыбкой, воздух, насыщенный болотными испарениями, стеснял дыхание, комары облепили измученных путников, лезли в глаза, в нос, в уши, за воротник, под шапку. Шли уже наугад, по нескольку раз обходя тот же куст, то же дерево, ту же тропку; земля под ногами изгибалась, качалась, липла к подошвам, утяжеляя шаг. Утомленные, ожесточенные, пришедшие в отчаяние путники с трудом волочили ноги. Один только Вагуриа Сквери не терял бодрости и спокойствия. Его уверенная поступь, высоко поднятая голова, ясная улыбка вселяли в путников надежду. Но сам Вагуриа видел, что люди выбились из сил. Чтобы подбодрить их, он запел песню. Это была любимая песня его сестры Цау, он запевал ее в трудные минуты своей жизни.
В голосе Вагуриа звучала вечно юная сила жизни и смутная печаль, понятная только Тагу. Эта песня перенесла его в прошлое.
Пасхальная ночь. На балконе дома он свежует подвешенного козленка. Только сегодня с зимних пастбищ спустился Тагу, где он пас господское стадо. Вся семья в сборе, и в доме царит радость. На столе – крашеные яйца. Блестят глаза у Вагуриа и Куджи. Цау щиплет кур на балконе. Сегодня она необычайно счастлива: вернулся домой отец. Она крутится по дому, как волчок, и все успевает сделать: постирать и починить отцу белье, умыть его, причесать, почистить одежду. Ведь сколько времени был он вдали от близких без ухода, как соскучился по семье, по жене и детям! Цау не дает отцу и пальцем пошевелить, перехватывает любое дело у него из рук…
Едва только Тагу освежевал козленка, как Цау уже ставит перед ним котел.
– Принеси и воду, дочурка!
Цау хватает кувшин и, пританцовывая, бежит к колодцу. На бегу она напевает, радуясь и яркой луне над головой, и цветению сливовых деревьев, и своим шестнадцати годам. Как колокольчики звенит ее голос:
Высоко, высоко белые горы,
На горах стоят пастухи,
Они спустятся по узким тропинкам,
Встретят Зису на Ингири.
Внезапно голос ее обрывается, и до Тагу доносится приглушенный крик:
– О-о-тец!
В переулке зацокали копыта. Тагу сбегает с балкона, с маху перескакивает через забор, но всадники уже далеко. Из деревни доносится лай собак, женский визг, боевой клич мужчин и возгласы:
– Курсали! Курсали![2]2
Курсали – похитители (мегр.).
[Закрыть]
– Цау похитили!
– Скорей, скорей, не упускайте!
Люди перескакивали через заборы, канавы, ручьи и пускались в погоню за похитителями, но те были уже недосягаемы…
Горько стало Тагу при этом воспоминании. Цау теперь на чужой стороне, наложница какого-нибудь турка. А за собой сейчас слышит Тагу поступь своих недругов: словно тяжелые капли, падают в тишине отзвуки их шагов. Раз, два, три, пять… десять лет!..
Другая картина встает перед взором Тагу. В Одиши ждут нашествия турок, и пастухи угнали стада в горы. Ночью грозовой ливень захлестнул окрестные пастбища, мощные потоки унесли множество коров, лошадей, овец, козлов, жеребят. Пастухи, убежденные, что это архангел Михаил, грозный владыка гор, наслал на них непогоду, при первом же ударе грома, чтобы умилостивить его, разожгли костры и запели «Даэргве-ашва». Но все было тщетно: еще грознее блистали молнии и грохотал гром, еще сильнее злобствовала гроза. Стремительные потоки косого дождя хлестали по непокрытым головам людей, слепили глаза, прерывали дыхание. Но пастухи продолжали петь, выпрашивая у неба милость. Наутро от многочисленных стад, выращенных и сохраненных с таким трудом, не осталось и половины; разбушевавшаяся стихия размыла дороги и тропы, унесла не одного пастуха…
Полностью уцелело только стадо Кешана Чиладзе, пасшееся на горе Джагордзага. Но спасли его не костры, не пение «Даэргве-ашва». Тагу Зарандиа и его пастухи окружили обезумевший от страха скот и не дали ему разбежаться. Всю ночь, не присев, стерегли они свое стадо, повинуясь указаниям Тагу. Куджи ни на миг не отходил от отца. В темноте на парнишку наскочила испуганная кобыла. Упав, он вывихнул себе руку. Тагу сам вправил Куджи руку и наложил повязку.
– Не туго, сынок?
– Нет…
– Больно?
– Нет…
Что-то странное почудилось Тагу в голосе сына.
– Что с тобой, Куджи? – Он поднял голову. – Куда ты смотришь?
Куджи смотрел на дорогу. Три старых пастуха, вооруженные до зубов, направлялись к их единственно уцелевшему шалашу. Сердце замерло у Тагу: что им нужно? Он взглянул на Куджи – и сразу все понял. Куджи искупался вчера в горной речке, а горные воды принадлежат, по преданию, Михаилу Архангелу, и никто не имеет права осквернять их. И вот разгневался Михаил Архангел, наслал на людей грозу, ливень, ветер. Никому не прощают пастухи обиду, нанесенную горам…
«Это я виноват, – пронеслось в сознании Тагу, – почему позволил Куджи искупаться!»
А три старых пастуха все приближаются, неотвратимые, как рок. Повернулись к ним подпаски, оставив работу. Затаив дыхание стоит Куджи.
– Ах, зачем я ему позволил!
Вот пастухи окружили Куджи и повели: один впереди, двое – сзади.
– Куджи, сынок!
Но Куджи скрылся из глаз. Подошли подпаски к Тагу в знак соболезнования склонили головы. Чем еще могли они утешить несчастного отца, как помочь ему? Куджи нарушил извечный закон гор, и пастухи не могли поступить иначе: они и родному сыну не простили бы обиды, нанесенной горам. Ведь пастухи живут милостью гор, не будь гор, не было бы и пастухов. Куджи оскорбил покровителя гор, и они потеряли половину своих стад. Тем самым Куджи заслужил самого сурового наказания, какое только может постигнуть человека: изгнания из родной страны…
Мать не вынесла потери второго ребенка – и вскоре Тагу стоял перед свежевырытой могилой. Сердце мужчины тверже. Все вынесет Тагу, что ниспошлет ему судьба, лишь бы Вагуриа Сквери был с ним. Он не отпускал его теперь ни на шаг от себя, был для него отцом и матерью, сестрой и братом. А мальчик рос любознательным, ничего не могло укрыться от его острых внимательных глаз. Он быстро усваивал все, чему мог научиться от отца и окружающих людей. И Тагу казалось, что этот семнадцатилетний юноша вмещал в себе все тайны природы и всю мудрость, доступную человеку…
Между тем над лесом сгущались сумерки. Впереди, указывая путь, по-прежнему шел Вагуриа Сквери. «Боже, помоги моему мальчику! – молил Тагу. – Это я сбил его с пути, я помешал свернуть на верную дорогу!»
В глухой, напряженной лесной тишине шла потайная, скрытая от людских глаз жизнь. С приближением темноты на все окружающее, казалось, находит покой и мир, но Вагуриа Сквери отчетливо видел, каким ужасом начинают загораться глаза лесных зверей и зверушек, слышал, как бьется на дереве птица, попавшая в когти хищника, как беспомощно пищит лягушка в пасти змеи, с каким ожесточенным клекотом бьются из-за добычи две птицы, ударяя друг друга могучими крыльями; видел он ланей, испуганно выгнувших длинную шею и ждущих опасности со всех сторон; видел шакала, терзающего свою жертву; клыкастого кабана, с громким сопением выбежавшего на охоту; чутко настороженного, трепещущего зайца с поднятыми ушами. В мнимом покое и тишине чащобы, на земле и под землей, в кустарнике и на деревьях, на поверхности болота и в его глубине – всюду живые существа боролись друг с другом не на жизнь, а на смерть. А разве сам он, Вагуриа Сквери, не поступает так же, как обитатели лесов? Разве не ведет он на верную гибель этих турецких посланцев?
На их пути простерлось широкое, топкое болото, а над ним – ясное небо и золотое солнце, клонившееся к закату. Вагуриа взглянул на солнце: по нему можно было определить, что верная дорога пролегает по ту сторону болота. Но обойти болото ни справа, ни слева невозможно. Оставался один путь: прямо, наперерез. На той стороне росли несколько высоких тополей. Надо срубить один из них и уложить на болото вместо моста. Вагуриа Сквери внимательно разглядел трясину. Из болота торчат полусгнившие ветки ольхи и ясеня, остатки стволов. Выдержат ли они его тяжесть? Остальные путники тоже всматриваются в трясину, затем переводят взгляд на Вагуриа Сквери. А Вагуриа поднимает глаза на Тагу: «Да поможет нам бог, отец!»
Юноша нагнулся, засучил и без того короткие штаны, взял у Тагу топор, заткнул его за пояс.
– Осторожно, Вагуриа! – предупредил его Кешан Чиладзе.
Вагуриа не любил пустых слов. Недовольно, дерзко тряхнув головой, он ступил в болото. Прыгнул на остаток пня, торчавшего из трясины, оттуда на ветку, затем на другую, снова на пень, все дальше и дальше, ловко и легко, как козуля. Люди на берегу не отрывали от него глаз. Тагу замер, перестал дышать. Земля уходила из-под его ног.
– Берегись, сынок!
А Вагуриа достиг уже середины болота и продвигался дальше. Но на одном пне он задержался: следующая ветка, на которую можно было прыгнуть, оказалась слишком далеко.
– Прыгай, сынок!
Нет, тут не допрыгнешь. А гнилой пень стал уже расползаться под ногами Вагуриа, он вот-вот погрузится в трясину.
– Прыгай же, сынок, прыгай!
Болото доходит уже до лодыжек Вагуриа, вокруг него колышется и булькает мерзкая, липкая жидкость. Он хочет прыгнуть, но болото уже не отпускает его.
– Лови, сынок! – кричит Тагу и бросает ему конец веревки.
Но веревка коротка, Вагуриа нагибается, чтобы протянуть к ней руку, и погружается до подмышек в трясину. Тогда эту веревку связывают с другой и снова бросают Вагуриа, но болото уже успело сковать ему руки. Теперь видны только расширенные, полные ужаса глаза…
– О-тец… – пронесся над болотом истошный, звериный крик, и болотная жижа, отвратительно булькая, сомкнулась над Вагуриа Сквери.
Стон вырвался из груди Тагу, но лицо его ничего не выражало: лучи заходящего солнца глядели в его невидящие глаза. Вот бежит за водой, весело припрыгивая, Цау. Вот пастухи ведут Куджи: один впереди, двое позади. Исчезла Цау, скрылся за поворотом Куджи, а болото все булькает, черными пузырями поднимается кверху дыхание Сквери…
Тагу видит побелевшие, полные ужаса глаза Сквери, его протянутые за помощью руки, слышит его истошный крик, и не может ступить ни шагу: он падает на землю, как подкошенный косой. Кешан Чиладзе склонился над ним, чтобы оказать помощь, но тут же отдернул руку: Тагу был мертв.
Зашло солнце, тень легла на болото, на неподвижное лицо Тагу, мир погрузился во мрак и тишину.
Синту

1
Синту видела сквозь щелку в двери, как Чонти на балконе снял с гвоздя саблю и копье, вышел во двор и быстро зашагал по тропинке. Девушка так смотрела, будто хотела остановить его, но он не оглянулся. И вот Синту стоит, опершись голым плечом о косяк двери, и задумчиво глядит вслед Чонти…
«Зря ты сердишься на меня, дорогой! Не виновата я. Не могла же я запретить господину смотреть на меня! Он господин, а я его раба… Какая сила сковала меня? Почему отпустила я Чонти, не побежала за ним? Но я знаю его: стоит ему переступить через порог, как он перестанет сердиться… Да, я знаю его сердце – стоит ему переступить через порог, и он тут же забудет обо всем!..»
Смотрит Синту на дорогу, по которой ушел Чонти. Далеко-далеко убегает она и пропадает в знойном мареве. Щурит Синту свои большие глаза, и снова видится ей Чонти. На нем короткая, ладно пригнанная чоха и мягкие сапоги. Через плечо перекинута сложенная вдвое бурка, за поясом – сабля и широкий меч, в руке на весу – копье. Все дальше и дальше уходит он своим упругим, размеренным шагом.
Обширный двор перед господским дворцом пуст. Дрожит и тускло мерцает отяжелевший от зноя воздух. И хотя Чонти давно уже скрылся, из глубины амбара, из винного погреба, из пекарни и конюшни, из виноградника и огорода смотрят на тропу десятки глаз: выдержит ли Синту? Когда девушка показалась в темном прозоре открытой двери, все взоры тотчас же обратились к ней.
«Я должна была догнать его! Я же ни в чем перед ним не виновата: разве закажешь господину глядеть на меня, на то он и господин! Я должна нагнать Чонти! Сбор воинов назначен возле шатра Арзакана…»
Девушка перешагнула через высокий порог, подол платья поднялся к колену и вновь скользнул вниз.
Синту идет по двору. Люди следят за ней. Вот она поравнялась с дворцом, который высится посреди пустынного двора, гордо вздымая вверх крытую сверкающей черепицей кровлю. Синту бросила быстрый взгляд туда, где в густой тени ореховых деревьев находилось окно Сесирква Липартиани, ее господина. Тяжелый занавес закрывал окно, Сесирква еще ранним утром отправился к месту сбора воинов. И Чонти ушел туда, он всегда сопровождает господина в походах. Если бы не десятки следящих за нею глаз… Ну и пусть смотрят, пусть думают о ней, что угодно!..
Синту уже бежит, она изо всех сил спешит к шатру Арзакана. Юноши, увидев ее, восхищенно переглянулись, мужчины подкрутили усы, старики заулыбались, а женщины с завистью вздохнули.
2
К полудню зной усилился. Небо дышало жаром, как раскаленная сковородка. Синту выбежала на пологий берег Техуры и с разбегу остановилась. Речка была полна лошадей, они понуро стояли в воде. На другом берегу, в лощине, вокруг шатра Арзакана лежали вповалку обессилевшие от зноя воины.
«И Чонти там, – перед ее глазами возникло сердитое лицо Чонти. – Я всего только улыбнулась господину! А что мне было делать? Я же раба его, а он господин мой!»
Синту, не раздумывая, кинулась в воду. Обычно холодная Техура была насквозь, до самого дна, прогрета солнцем. Выйдя на другой берег. Синту побежала к возвышающемуся шатру Арзакана. Ее босые ноги оставляли влажные следы на раскаленной, пересохшей от зноя земле. Воины, видимо, заметили девушку, один из них приподнялся и стал глядеть в ее сторону, прикрывая рукою глаза от солнца. Синту тотчас же узнала Чонти и остановилась…
А вослед Синту, не видевший сейчас ничего, кроме вставшего ей навстречу Чонти, мчался от реки табун взбесившихся от жары лошадей. И тотчас же, словно по чьему-то неведомому знаку, стремительно выбрались на берег и помчались за ними стоявшие в Техуре кони. Какое-то безумие гнало их вперед, и они плотным табуном неслись прямо на Синту. Взметенная тысячами копыт, поднялась и повисла в воздухе тяжелой завесой туча пыли. Казалось, спастись от надвигающейся беды было невозможно. На миг Синту оглянулась и побежала. С угрожающей быстротой настигал ее топот копыт – звук преследующей ее смерти. Все ближе и ближе… Вдруг чья-то сильная рука подхватила девушку с земли и подняла на коня.
– Синту, – услышала она. – Сумасшедшая!..
– Думаешь, я струсила! – Она рассмеялась так, словно ничего не случилось, словно он только что не спас ее от смерти. Девушка посмотрела на него, и глаза ее засветились.
– Чертовка!
– Ты больше не сердишься на меня, правда? – Синту обхватила руками его шею. – Если бы кони затоптали меня, на кого бы ты тогда сердился? Не было бы с тобой Синту…
– Замолчи!
Бешено мчавшийся табун настиг их, захлестнул, увлек за собой. Чонти сильно натянул одной рукой повод, удерживая своего коня в повиновении, а другой обнимал стан Синту.
– Ну, скажи, на кого бы ты тогда сердился, Чонти? – повторила девушка. – Ну, перестань же хмуриться, слышишь! Не то… – Она огляделась: вокруг лавина обезумевших коней… – …не то я уйду от тебя – не удержишь!
Синту ухватилась за гриву бежавшей рядом вороной кобылы и птицей взлетела ей на спину.
– Синту! – крикнул Чонти.
– Синту ничего не боится! – Девушка повернулась к нему, глаза ее сверкнули. – Ничего и никого, кроме тебя…
Синту знала, как трудно вывести Чонти из равновесия, и потому, бывало, не раз она одним прыжком вскакивала на дикого, необъезженного коня и, прильнув к его гриве, отдавалась буйному бегу. А потом ухватится руками за ветвь дерева и повиснет на ней, раскачиваясь и с улыбкой глядя, как летит дальше конь уже без седока. Или же спрыгнет на скаку с коня, перекувырнется раза два по земле и усядется, довольная…
Чонти обычно спокойно наблюдал за всем этим. Он был из тех людей, мужественных и суровых, которые прячут свои чувства от чужих глаз, говорят мало и сдержанно, а больше молчат, горячи и вспыльчивы, но умеют сдерживать себя. И девушка, так и не добившись, чтобы на лице Чонти появился страх за нее, растерянность или волнение, нередко убегала куда-нибудь, где ее не могла видеть ни одна живая душа, и в слезах отводила душу.
То же странное чувство отчаянного озорства владело девушкой и сейчас. Она крепко вцепилась в гриву кобылы; длинные косы Синту развевались по ветру, босые ноги сжимали конские бока. Пригнувшись к шее вороной, Синту, казалось, не замечала мчавшихся рядом коней, этой вздыбленной лоснящейся лавины, не слышала их храпа и фырканья. Она хотела лишь одного – уйти от Чонти. Но сделать это теперь было не так просто. Неожиданно часть табуна свернула в сторону, вторая – в другую. Только кони Синту и Чонти мчались вперед.
– Не догонишь! – крикнула Синту, торжествуя.
Эх, если бы ей удалось смутить спокойствие Чонти! Она летела не оглядываясь, подгоняла свою кабардинку-трехлетку, высокую, тонконогую, горячую и злую.
«Сбросит, непременно сбросит!» – говорил себе Чонти. Поняв, что не сможет догнать Синту, он направил коня наперерез ей.
Пыль, поднятая табуном, скрыла долину, встала до самого неба, в десяти шагах ничего не было видно. Чонти потерял Синту из виду и скакал наугад. Внезапно в перестуке копыт послышался новый звук, чем-то неуловимо отличимый от других. Чонти тотчас же догадался: это иноходец его господина!..
И когда кобыла вынесла Синту из-за завесы пыли, две руки одновременно с двух сторон схватили гриву вороной. Ринулась вперед кабардинка, взвилась на дыбы, но напрасно: сильные руки держали ее. Тогда она злобно заржала, остановилась. Разгоряченная скачкой, Синту удивленно оглядывала своих спасителей. Сесирква Липартиани и Чонти, словно литые, сидели в седлах по обе стороны от нее. Они тяжело дышали, повернув к девушке взволнованные, раскрасневшиеся лица. Смущение связывало их незримыми узами и даже придавало им неуловимое сходство. Для Синту они были схожи сейчас, несмотря на то, что на одном были богатые доспехи и драгоценное оружие, а другого облегала заношенная чоха, через плечо висела простая сабля, на поясе – кинжал без насечки и украшений.
Синту настороженно смотрела на них. Ни один не отпускал гриву. По обычаю, Чонти должен был спешиться, как подобает крепостному, и поклониться. Но на этот раз он видел перед собой не господина, а просто молодого парня, которому приглянулась его Синту.
Сесирква и Чонти были молочными братьями. С колыбели росли они вместе, проводили друг с другом целые дни, месяцы, годы. До поры возмужания они словно не знали, что один из них был господином, а другой его слугой. Но время шло, и друзьям пришлось, наконец, почувствовать разницу в положении. Отныне на людях они соблюдали все, что закон и обычаи предписал в отношениях между господином и слугой. Но стоило им остаться вдвоем, как они пять становились просто друзьями.
Чонти, не знавший страха или нерешительности, был сейчас смущен и растерян. А что, если Сесирква прикажет ему отпустить гриву вороной и уйти? Выполнить волю господина?
Синту поняла, что происходит, и тотчас же к ней пришло решение. Она чуть сжала колени и крикнула что-то на ухо вороной. Та рванулась и понеслась стрелой, едва не выбросив из седел Сесирква и Чонти.
Оба молча глядели вслед девушке, пока она не скрылась в туче пыли, все еще висевшей в воздухе. Наконец Сесирква прервал неловкое молчание.
– Как только взойдет луна, мы выступим в поход, – сказал он Чонти и направил коня туда, где поджидала его свита.
Сесирква возвращался от мегрельского владетельного князя Дадиани, когда увидел бешено скачущего вороного коня и узнал в девушке Синту. Может быть, она не может справиться с лошадью? Не раздумывая, бросился Сесирква на помощь. Свита ждала, что произойдет!.. Когда Сесирква повернул коня, люди вздохнули с облегчением, – беда прошла мимо Чонти.








