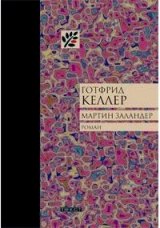
Текст книги "Мартин Заландер"
Автор книги: Готфрид Келлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Нынче Мартина, разумеется, усадили за столом подле хозяйки дома, зато великолепная Мирра эллинского происхождения оказалась его визави.
К его удивлению, Луи Вольвенд незамедлительно вооружился разливною ложкой и погрузил ее в супницу, с которой кухарка – тоже весьма примечательная обличьем – сняла крышку.
– Это моя обязанность! – сказал он Заландеру, который за ним наблюдал. – Прошу тарелки, будем просто их передавать, нас ведь немного.
Жена явно несколько смущалась, что ею этак командуют; Вольвенд же наполнял тарелки одну за другою, зачерпывая со дна супницы самое вкусное, по справедливости, но заботясь и о том, чтобы при передаче суп не расплескался.
Во всех жизненных ситуациях, когда появлялся суп, Мартин Заландер следовал привычке немедля приступать к еде, как только получал свою тарелку. Вот и на сей раз, едва с разливом было покончено, он без промедления погрузил ложку в суп и понес ее ко рту. Однако донести не успел, потому что хозяин, который словно бы дожидался именно этой минуты, вдруг сухо проговорил:
– Георг, молитву!
Опешивший Заландер замер с ложкою в руке и глянул по сторонам. Все сидели благоговейно сплетя ладони, меж тем как мальчик читал застольную молитву. Хочешь не хочешь, Мартин тоже опустил ложку в тарелку и по крайней мере положил руки перед собою на стол. Для лицемерно-молитвенного жеста ему недостало наглости. Но он вполне непринужденно наблюдал за Луи Вольвендом, который серьезно потупил взор и сжал губы под своими татарскими усами, будто держал во рту глоток вина.
После молитвы беспрепятственно приступили к супу, а поскольку при этом обыкновенно говорят мало, у Заландера было время обдумать сей инцидент. То, что в семье с детьми по-прежнему читают застольную молитву и что Вольвенд тоже поступал так, видимо переняв этот обычай в семье тестя, привлекло его внимание куда меньше, нежели очевидный умысел, с каким он позволил ничего не подозревающему гостю взять ложку, а уж потом отдал приказ. Отсюда Мартин заключил, что это определенно был камешек в его огород и, меж тем как, втайне забавляясь, узнал в этом давние штучки, только удивлялся, зачем они понадобились сейчас и отчего Вольвенд сам не почувствовал обидной их формы. Как ни хорошо он знал или думал, что знает старого приятеля, ему все же в голову не приходило, что Вольвенд успел преисполниться и некой злости, каковая без его ведома просачивается наружу там, где он меньше всего желает, просто оттого, что прочность оболочки ослабевала.
Кстати, Вольвенд заметил, что гость воспринял маленькую каверзу его новейшего изобретения не вполне равнодушно, и начал застольную беседу следующим образом:
– Наверно, тебя удивил этот наш обычай, дружище! Ты ведь знаешь, я никогда не был ни нытиком, ни святошей, да и не собираюсь становиться! Но в нынешние времена и при той жизни, какую мне выпало вести, в постоянной и самой унизительной погоне за барышом, обычно бесплодной и утомительной, учишься все больше обращать взорна старинные идеалы человечества, дабы если и не для себя, то хотя бы для детей спасти опору и поддержку. Ты ведь понимаешь!
От Заландера не укрылось, что и женщины, и мальчики пристально смотрели на говорившего и, судя по выражению лиц, полагали его слова, новые для них и непонятные, все же чем-то великим и мудрым. Вот почему он не хотел молчанием оставить главу семейства без поддержки.
– Ты совершенно в своем праве! – отвечал он. – Отвлекаясь от вопросов домашнего богослужения, я всегда считал, что вообще ввиду положения, которое христианская религия занимает в мировой истории и в современной жизни, никак нельзя утаивать от детей ее значение, каким бы оно ни представало на тот или иной момент. Наш долг – обеспечить им возможность развить к совершеннолетию свободное мировоззрение; а для этого они должны узнать, что существовало вплоть до их времени, должны услышать, что религия говорит сама о себе, а не что говорят о ней другие.
Кухарка, пышная, смуглая от природы особа в наряде словацкой крестьянки, подала два – три сытных блюда, последовательность коих свидетельствовала о скромных и разумных помыслах, далеких от всякого хвастовства. И седмиградское вино, которым угощал Вольвенд, было вкусное, но отнюдь не дорогое, причем цедили его прямо из бочонка; бутылок поизысканней наготове не стояло.
– Это вино мне привезли из дома, – сказал Вольвенд, – пей вволю, оно только вкусней делается, когда распробуешь, и вреда от него не будет!
Заландер чуть ли не удивился бюргерски солидному распорядку, которому предшествовала молитва, при том что присутствие служанки в чужестранном национальном костюме в свою очередь придавало этому распорядку прямо-таки благородный оттенок.
Вольвенд между тем продолжал:
– Ты превосходно все сформулировал, совершенно в твоем духе, я имею в виду религиозное воспитание детей! Но хочу пойти немного дальше и сказать, коль скоро мы достигнем такой позиции, то и нам, старшим, надобно сохранить или вновь принять более идеальное мировоззрение, ведь нас это не обременит!
«Знать бы, к чему он клонит!» – подумал Заландер и пропустил мимо ушей несколько Вольвендовых слов, но примерно сориентировался, когда тот продолжил:
– Да, друг мой! Я убежден, что вы, устанавливая непосредственное народоправство, в чем достославно преуспели, упустили из виду кое-что очень важное, так сказать начисто забыли! Религией вы пренебрегли и церковь от себя оттолкнули, вместо того чтобы привлечь духовенство к своим делам! И поплатитесь за это!
– Кто же чем-то обидел религию или тем паче духовенство? – спросил Заландер. – Во всяком случае, при мне такого никогда не бывало!
– Довольно и того, что делают вид, будто их вовсе не существует, и очень жаль упущенной возможности создать Божие государство Нового времени!
Заландер рассмеялся:
– Божие государство Нового времени? Эк тебя занесло! Ладно, давай продолжим в том же духе! Ты помнишь, как заканчивается Шиллеров «Дон Карлос»? Нет? «Кардинал, свое я дело сделал. Очередь за вами!» [16]16
Перевод И. Мандельштама.
[Закрыть]Так пьеса будет заканчиваться снова и снова!
– А я не успокоюсь и постараюсь донести до людей мою идею! – заявил Вольвенд, для которого заландеровская цитата была непригодна, ибо до конца он «Дон Карлоса» никогда не читал. – Я мог бы наверстать многое из упущенного и на склоне лет, пожалуй, еще с пользою послужить отечеству!
«Странности все прибавляется! – думал Заландер. – Он намерен привить к нашей демократии теократическое движение, только этого нам недоставало, для этого мы ее расширяли! Однако ж чудачество, коим он козыряет теперь, несравненно грандиознее прежних шуток; надеюсь, конкурс, от которого он бежит на сей раз, не такого же масштаба! Впрочем, вряд ли дело обстоит так, иначе бы он не стал выплачивать старые долги! В конце концов это чистая заносчивость, ведь теперь он обеспечен; ему тоже хочется сыграть свою роль, а поскольку ничего другого под рукой нет, примкнул к какой-то миссионерской секте и изображает апостола!»
Вольвенд между тем впрямь затеял нечто вроде проповеди, но Заландер в рассеянности не слушал. Пустой, кстати говоря, словесный шум лишь еще больше усыплял его внимание, и мысли его тоже теряли друг дружку из виду, словно окутанные туманом. Чтобы сообразить, где, собственно, находится, он поднял глаза и увидел напротив лицо барышни Мирры, чьи элегически опушенные ресницами глаза наблюдали за ним, а губы приоткрылись в прелестной улыбке, так как его удивленные черты переменили выражение. Бокал его был пуст, и она, взявши бутылку, наполнила оный, после чего бутылку взял Заландер и налил ей тоже. При этом он скромно чокнулся с нею и выпил ее здоровье, меж тем как отблеск юного ощущения счастья скользнул по его лицу, морщинки которого, словно змейки, принялись извиваться, растягиваться, загибаться, создавая едва ли не впечатление добродушного сумасбродства. Вольвенд заметил это и прервал свою речь.
– Погодите, – сказал он, – чокнуться надобно винцом получше!
Он вышел и принес бутылку токайского, золотистая влага пронизала все существо воздержанного Мартина Заландера приятным теплом, а на губах обернулась веселыми словами, хотя и не словами мудрости, ведь говорил он для прелестных ушек Мирры Главиц, не зная, что они воспримут и что может им понравиться, а поскольку собственный его огонь трепетал будто на ветру, то связность и смысл его речей были не слишком отчетливы.
Но это осталось без внимания, потому что благодаря нежданному окончанию вольвендовской проповеди и благодаря веселости Заландера установился оживленный настрой, и даже мальчики зашумели. В этой легкой неразберихе Мартину вдруг взбрело на ум ради прекрасной дамы оказать семейству любезность, пригласив покататься в экипаже. Он достал из записной книжки карточку и написал на ней заказ хорошего экипажа, адресовав карточку хозяину извозного двора, к услугам которого при необходимости прибегал. Луи Вольвенд, приятно тронутый, торжественно объявил, что принимает приглашение, и послал мальчиков с карточкой на улицу, наказав передать ее одному из посыльных, что стояли на ближайшем углу.
Через полчаса подъехал извозчик с превосходным открытым экипажем; а еще через полчаса женщины были готовы и вся компания с большою помпою спустилась вниз, и обстоятельства сложились так удачно, что домовладелец, действительно должник Заландера, как раз стоял у входа и поздоровался с Заландером, так что Вольвенд, нынче глядящий совершенно венгерским судьей из тайного судилища, мог почваниться как друг капиталиста и коммерсанта и доброжелательно приподнял шляпу.
Дамы надели широкополые шляпы с перьями и яркие накидки. У Мирры поверх белого наряда была накидка алого шелка. Мужчины заняли заднее сиденье и устроили меж собою юного Луи; Георг восседал на козлах рядом с кучером. Для наемного выезда лошади оказались вполне резвые, в красивой сбруе, и вообще весь экипаж привлекал внимание, и Мартин Заландер простодушно проехал в нем чуть не через полгорода, и каждый, кто его узнавал, провожал его взглядом, хотя он этого не замечал.
Не заметил он и г-на Мёни Вигхарта, который с давнишней тростью под мышкой стоял на одной из площадей; постаревший почти так же мало, как и его трость, он аккурат выдул из пенкового мундштука остаток сгоревшей сигары и собирался раскурить новую. Рядом, беседуя с ним, стоял старый Мартинов поверенный, волосы его изрядно поредели, что в такой жаркий день было ему весьма кстати, ибо он снял шляпу, дабы проветрить голову. Оба посмотрели вслед экипажу.
– Гляньте, Мартин Заландер проехал! И даже не взглянул на нас! – сказал Вигхарт. – Что это за люди с ним?
Стряпчий направил лорнет на господ на заднем сиденье и отвечал:
– Это может быть только одинчеловек… угадайте кто!
Понятия не имею! Целый месяц провел на водах и вернулся лишь вчера вечером.
– Ну, это не кто иной, как тогдашний «Шаденмюллер и компания», сиречь Луи Вольвенд!
– Да что вы! Как такое возможно? Я думал, это ряженый китаец с семейством! И давно ли сей субъект снова здесь?
– Уже некоторое время назад господин Заландер побывал у меня и рассказал, как Вольвенд явился к нему, внес платеж в счет первого ущерба, вы помните, юношеское поручительство, и намерен ежегодно продолжать выплаты; так вот, господин Заландер спросил у меня, стоит ли ему соглашаться, не чревато ли это риском. Я сказал, чтобы он брал все, что может получить. Более позднюю и более крупную историю он Вольвенду фактически простил. Я не мог посоветовать ему никаких мер, этот Вольвенд – старая продувная бестия под видом недоумка. Он поселился здесь, а когда ему прислали налоговый формуляр, принес в общинный дом все свои бумаги и чин чином доказал, что все, что он имеет, есть состояние жены, приобретенное им через брак, и заявил, что беспрекословно уплатит налог со всего, что не находится в Венгрии и не облагается налогом там!
– И теперь Заландер возит его на прогулку в экипаже?
– Или Вольвенд Заландера, не знаю! Однако ж в экипаже сидела замечательная красотка, насколько я успел заметить! – добавил стряпчий. – Может, этот злой демон ловит теперь мышей таким манером?
– Тут опасаться нечего. Кабы мастер Мартин хотел спотыкаться об этакие камешки, так давно бы начал! Однако ж эта новость, возвращение Шаденмюллера, для меня хуже горькой редьки. Вот ведь окаянный тип со своими калмыцкими усами! Заландеров истукан, как он его когда-то называл, сызнова тут как тут! Вообще, еще один небольшой урок ему бы не помешал; хотя бы по причине вечной своей неугомонности он заслуживает щелчка по носу! И все же я ему такого не желаю, он порядочный человек!
– Безусловно! – сказал стряпчий, на прощание пожимая руку г-на Вигхарта.
Удостоившийся этакой похвалы Мартин отправился с семейством Вольвенд – Главиц в уютное курортное местечко, расположенное примерно в двух часах езды и славящееся добрым угощением, красивыми видами и тенистыми садами, а потому весьма популярное. Там они провели вторую половину дня – пили кофе, гуляли по чистым укромным дорожкам ближнего елового леса. Время от времени Заландер вел под руку Мирру, сияющую белизной в зеленом полумраке, а когда она шла одна, в лучах солнца, проникавших сквозь кроны деревьев, он видел, что стоит ей забыть о заученной манерности провинциального воспитания, как движения ее обретают врожденную грациозность.
Знакомый художник, которого Заландер повстречал как раз в такое мгновение, молча постоял рядом, глядя вслед красавице, потом полюбопытствовал, что это за музу он подцепил.
– Прелестная женщина, правда? – отвечал Мартин с напускным безразличием.
– Еще бы! Не каждый день такую увидишь! Черт побери, вы посмотрите, какой простой ритм, без всякого напряжения, не понять, где он коренится, форма и движенье сливаются в одно.И сколь благородно струится движение, от затылка по плечам и рукам к спине и от бедер вниз. Откуда она, эта дама?
– Она здесь с некой семьей из Венгрии, но маменька ее откуда-то с древней греческой земли, кажется из Фессалии.
– Охотно верю! Но и в этом случае – редкость! Желаю хорошо провести время, господин Заландер!
Слова художника и ценителя странным образом взволновали Мартина и внешне, и внутренне: сердце у него забилось чаще, глаза заблестели, однако шаги замедлились, ноги ослабели, пришлось сесть на лавочку в зарослях.
Какое подтверждение его эстетического чувства! Как оживилось смутное побуждение побыть еще немного в лучах подлинной красоты, и ведь он даже не предполагал, до какой степени по-учительски поступает, подкрепляя собственные ощущения высказываниями другого, ценителя.
Однако Мартин взял себя в руки, голоса приближающихся людей отвлекли его от размышлений; это было семейство Вольвенда, искавшее его. Чувствуя себя другим человеком, словно ему вот только что довелось увидеть призрака, в душе исполненный удивления перед изобильностыо жизни и одновременно охваченный серьезной сдержанностью, он воротился вместе с ними в сад, где был заказан незатейливый ужин. Там он, не говоря почти ни слова, остался подле Мирры (так вышло само собою) и предоставил говорить ее зятю, который всячески просвещал женщин и мальчуганов, временами вдруг обращаясь к Заландеру с коротким «не так ли?» и внимательно за ним наблюдая.
Между тем собрались и другие посетители, приехавшие кто верхом, кто в экипаже и желавшие еще немного насладиться дивным вечером, кое-кто из них г-ну Вольвенду не понравился, вероятно, то были его давние кредиторы. Впрочем, они его не узнали, а если б и узнали, это не имело бы значения, ведь кругом хватало дельцов, которые один раз, а то и несколько попадали в сходную ситуацию, и никто им тем не менее не докучал. Но сейчас ему это было неприятно, тем паче что он заметил, как господа принялись исправно поглядывать на барышню Мирру Главиц, и по этой причине Мартин Заландер тоже почел за благо отправиться восвояси. Они приказали запрягать, и в опускающихся сумерках лошади помчали их в обратный путь.
До города добрались уже ночью. Мартин отвез семейство Вольвенд по их адресу, а затем пешком пошел домой, не торопясь, то глядя под ноги, то поднимая взор к звездам, что поодиночке и парами плыли в вышине над улицами, столь же неспешные, как и человек внизу. Старая верная Магдалена, поджидавшая его, отворила дверь, радуясь, что хозяин наконец-то воротился, ведь она целый день провела в одиночестве.
– Хорошо ли прошел день? – спросил он. – Бьюсь об заклад, вам пришлось слишком тяжко!
– Мне? Плохо же вы меня знаете, господин советник! Я занималась чем хотела! В обед испекла себе толстую оладью и приготовила салат, что твой воз сена, с горячими шкварками, господин советник! А вечером сварила молочный суп, какой в незапамятные времена варила моя покойная матушка. С хлебцем да с перцем! Вдобавок начистила всю латунь на кухне да еще принесла себе из погреба кружечку винца!
– Ба, этого еще недоставало!
– Прошлогоднего, конечно, летом оно хорошо утоляет жажду, хоть вы и зовете его кислятиной! А сами-то вы ужинали, господин советник? Может, чайку подать с холодными закусками?
– Нет-нет, мне ничего не надобно.
– Просто из симпатии! Хозяйка-то в Лayтеншпиле наверняка еще сидит с дочками, беседуют они в свое удовольствие! Бедные детки! Не больно хорошо им живется! Однако ж с молодежи – какой спрос, а я, ослица худая, еще им и помогала! Счастлив, кто преодолевает своенравие и в чьем сердце нет больше тревоги!
Мартин Заландер более не слушал, отослал служанку спать. Только когда она вышла из комнаты, он как бы задним числом услыхал ее слова: «Счастлив, в чьем сердце нет больше тревоги», так нередко в рассеянности вдруг вновь внемлешь речи, уже отзвучавшей, как зов в полях.
Но он не обратил внимания, взял свечу и прошел в спальню, где было тихо как в склепе. Женино зеркало отразило ему навстречу трепетный огонек свечи, которая то ли от его энергичных шагов, то ли от легкого сквозняка горела неровно. Заландер стал перед зеркалом и, подняв свечу, принялся испытующе себя рассматривать; однако ж его одолела робость, ему почудилось, будто серьезные глаза Марии Заландер выглянули из-за его плеча, потом лицо ее поблекло и исчезло. Проклиная свое возбуждение, он прошел в приемную, где висело большое, прекрасно отшлифованное зеркало, и стал перед ним.
Мартин Заландер никогда не любил свое лицо и разглядывал его в зеркале столь же мало, сколь и на фотографических снимках, каких требовал от него обычай эпохи. Ему шел пятьдесят пятый год; выглядел он не старше большинства своих сверстников, которые худо-бедно сохранились, но все же отнюдь не так молодо, как один из тех счастливцев, которые всегда остаются сорокадвухлетними; еще густые и даже пышные волосы, изначально белокурые, припорошило сединой, словно пшеничное поле поздним инеем, как и курчавую бороду, скрывавшую к тому же не одну жилистую борозду на шее и нижней челюсти, судя по менее глубоким складкам на верхней части лица. Молодость духа и кроткую бодрость, каковые тем не менее оживляли и лицо, и глаза, он сам уразуметь и принять в расчет не мог, а потому ночное отражение не обрадовало его и не взбодрило.
– Пусть так! – сказал он, быстро отставив подсвечник и бросаясь в кресло. – Мог бы и знать, что уже стар, ведь как раз этот вопрос меня и занимает! Покамест мне еще должно жить и работать, покамест надобен еще глоток вешнего воздуха, который обновляет сердце!.. Ах, добрая Мария, о неверности в банальном смысле и речи нет! Превосходные люди, не чета мне, скрашивали и продлевали свои годы дружеством с женщинами, благорасположением к ним, можно сказать любовью; и разве же она заранее не посмеялась, да как прелестно, когда я впервые поведал о красавице Мирре? О эта Мирра!.. Способна ли она терпеть меня? Способна ли и захочет ли почувствовать, чем может стать для меня? Здесь замешана судьба, которая так или иначе минует! Разумно направить ее – мое дело, и скоро все вправду минует, коли это не то, чего я желаю… а коли то самое, пусть стезя останется ровной и солнечной, и никто на ней не оступится!
Он погрузился в сладостные грезы об упоении юной симпатией редкостного существа и об общении, которое явит людям отрадный спектакль, никоим образом не возбуждающий злоречия; а в неопределенном будущем он видел жизнь Мирры, избавленную от зловещих уз, которые сейчас держали ее в плену, спокойно текущей подле достойного мужа.
Ни на миг ему не вспомнились собственные несчастные дочери, о чьих любовных фантазиях он умел судить так ясно, хотя и по – человечески, как не вспомнилась и разница в возрасте между ним и ими, а тем паче разница в их и его тогдашнем положении. Еще меньше он догадывался, сколь отчетливо сейчас проявилось, что падкость до подобных «навязчивых идей» дочери унаследовали именно от него, от отца, и сколь же трагикомически выглядел он, бедняга, задним числом подтверждая сей факт!
Кроме того, он совершенно не брал в соображение, что идеальная любовь мудрого пожилого мужчины предполагает прежде всего женское существо, наделенное необычайными духовными качествами, тогда как он покуда понятия не имел о внутреннем мире Мирры и создал оный в своей фантазии. А это тем более вызывало сомнения, поскольку в итоге и здесь преобладал самообман и прекрасное благорасположение основывалось лишь на чувственном стимуле.
Всего этого добрый Мартин Заландер в нынешнем своем душевном состоянии не сознавал, но тем не менее все это существовало в нем и вне его и теснило душу, словно он думал об этом; ведь душа-то всегда была при нем, как хорошая домашняя хозяйка. Вот почему, в полночь наконец-то улегшись в постель, он забылся неутешительным сном, в котором душа, ровно полтергейст, неловко металась туда-сюда.
Утром он проснулся с тяжелым сердцем и, ощутив эту тяжесть, с глубоким вздохом произнес:
– Ага, вот тебе и на! Страсть! Страсть! Господи Боже мой! Эк меня угораздило!
И он посчитал ропот старой совести началом поздней любовной весны и терзался любовной болью как юноша, но с огорчением не молодого отца, который ложится спать в заботах о семействе и со вздохом встречает новый день.
Вдобавок вскоре он с удивлением заметил, как молодо чувствовал себя до этого злополучного приключения и как теперь ежедневно волей-неволей думает о своих годах, хотя именно теперь ему, как никогда, необходимо забыть о них, причем не только по причине неудобной страсти, но и по причине общего хода вещей.
Лето час от часу становилось все более шумным, так сказать все более буйным, благодаря огромному числу больших и малых празднеств, вечеринок, групповых поездок, общественных экскурсий и всевозможных прочих событий, происходивших до самой осени буквально повсюду; казалось, весь народ снялся с места, отправился в путь, под разными предлогами, деревни и компании городских соседей, кучки стариков – пятидесяти-, шестидесяти-, семидесятилетних, – и дети из сотен школ, с развевающимися флажками, порой этакая школа устраивала на солнышке привал, дожидаясь, пока наставники выйдут из знаменитой пивной, куда заскочили на минутку. Несведущий чужак мог бы спросить, кто, собственно, в этих краях летом работает, кроме разве что трактирщиков, – понятно, он же не принимал в соображение, что и дома оставалось вполне достаточно людей, которые чем-то занимались, и что иные из путников тоже до и после делали достаточно, чтобы позволить себе этакую радость, ведь на дорогах встречались и вскоре опять исчезали все новые шествия.
Однако если вспомнить сетования на скверные времена и постоянно растущую в народе нужду, то и соотечественник толком не понимал, откуда все они брали деньги на мотовство. Толпы католических паломников, шагавшие средь светских любителей увеселений, могли, впрочем, просветить его, что прежде народ еще больше гулял-пировал, причем аккурат в бедственные времена.
Обычно Мартин Заландер исправно вносил свою лепту в означенную празднично – походную радость повсюду, где можно было привнести некую патриотическую, народно – воспитательную и прогрессивную идею; затем растущий поток начал его озадачивать, и он призвал к умеренности. Теперь, когда в стране шумело излишество, настрой его вновь переменился. Он не желал держать сторону ворчливой старости и, подзадоренный влюбленной потребностью в юности, сам отправился в гущу толп и мелькал тут и там за реющими флагами, с праздничным значком в петлице, с шелковой повязкой на рукаве или хоть с альпийской розою на шляпе. Таким манером он полагал в новой своей юности насладиться цветением отчизны и за праздничными столами мысленно отводил дарительнице юности почетное место подле себя, не в ущерб ежедневному вздоху, с каким отходил ко сну.
«Сколь же верна крылатая фраза, – сказал он однажды самому себе, – по крайней мере верна для идеальной любви: l'amour est le vrai recommenceur! [17]17
Здесь: любовь снова делает молодым! (фр.).
[Закрыть]Даже старушка-республика у меня снова скачет козленком!»
Вечернее солнце, аккурат заглянувшее в праздничную залу, отразилось в золоченой внутренности большого почетного кубка, который стоял перед ним, только что наполненный красным вином, и блеск золота неописуемым волшебством осиял прозрачную пурпурную влагу.
Мартин вперил свой взор в искристое красочное зрелище, которое, внезапно явившись с ясного неба, словно запечатало его помыслы пламенным сургучом. Красноватый отблеск из кубка пробежал даже по его восхищенному лицу, что заметила сидевшая напротив милая дама и сказала ему об этом, попросив не шевелиться, потому что это очень его красит. Польщенный, он на секунду-другую замер, покуда отблеск не заиграл на лице, как и вино в бокале. Ведь по длинному узкому столу пробежало легкое сотрясение, и содержимое бокала тоже встрепенулось.
Сотрясение возникло оттого, что двое полицейских в цивильном платье неожиданно предложили одному из участников застолья встать и пройти с ними, а тот отказался, и шаткий стол получил толчок, когда полицейские, взявши мужчину под руки, принудили его встать. Он побледнел и покорно последовал за ними, потупив взор и украдкою снимая с черного костюма всяческие отличия – розетки, банты и серебряные либо позолоченные эмблемы, одну за другой. Ведь он украсил себя не только общим значком нынешнего праздника, но, поскольку завел сегодня не одно доброе знакомство, еще и полученными взамен особыми эмблемами разных союзов.
Лишь немногие обратили внимание на сей инцидент, в том числе Заландер, так как человеку с полицейским сопровождением пришлось пройти мимо него, и он ужаснулся, увидев, как несчастный снимает знаки радости и пытается незаметно спрятать их в карман. Мартину это показалось не менее ужасным, чем когда у старшего офицера перед полковым строем отбирают шпагу и знаки отличия.
Только когда задержанного увели, за столами распространился слух о причине ареста. Хорошо известный и популярный участник празднеств, человек этот пользовался большим доверием как управляющий одного из успешных предприятий; куда бы ни пришел, он всегда был весел и радостен, лишь иногда, в последнее время, маскировал нечаянный вздох, напевая песню или барабаня пальцами по столу, а не то с громким стуком отставляя стакан, скрывал рассеянные мысли. Вот такими наблюдениями обменивался теперь народ, услышав, что в его отсутствие на предприятии обнаружили множество растрат, в коих он был замешан, и одновременно установили, что через эмиграционных агентов он наводил справки насчет пароходного сообщения. По легкомыслию он не удержался и перед бегством зашел на праздник, чтобы напоследок было что вспомнить, ведь порядочный бюргер даже и неприятное всегда старается воплотить в достойном стишке для памятного альбома.
В расстроенных чувствах Заландер покинул праздник и воротился прямиком в Мюнстербург. Разделив с женою ужин, он взял в руки газету, и первым, что он прочитал, оказалось сообщение о выявленных растратах некоего чиновника на востоке Швейцарии; та же газета в конце, среди последних новостей, коротко написала о бегстве некоего кассира на западе страны.
– Что за несчастный день! – качая головой, воскликнул Мартин и рассказал, чему был свидетелем на празднике. – Пусть это противоречит духу Конфедерации, но я рад, что столь печальные события случились не в нашем кантоне!
– Ты читай дальше, – заметила Мария, – на вкладном листе найдется еще кое-что примечательное!
И, правда, Мартин прочитал, что протоколист по фамилии Шиммель арестован сегодня в Мюнстербурге по подозрению в злоупотреблениях и мздоимстве.
– Ей-Богу, положение становится угрожающим! – сказал Заландер, отшвыривая газету. – Ведь за этого-то я замолвил словечко, помог ему получить должность. Правда, пожалел, потому что он сразу же повел себя хвастливо и нагло и всюду бахвалился своим патриотизмом; однако бесчестным я его все-таки не считал. Сейчас вот мне вспоминается, что я слыхал, как бросается в глаза, что он всегда обедает по ресторациям, за табльдотом, а не дома с женой и детьми, там ему-де слишком плохо! Вот и получил, прохвост!
После этого резкого шквала до конца недели обошлось без столь досадных событий; молодой парень, сбежавший с семьюстами франками и мелькнувший в субботу на страницах вечерних газет, не привлек внимания. Тем сильнее грянула буря в следующий же понедельник, когда из-за нечестности и злоупотреблений руководства пошатнулись сразу несколько денежных учреждений, увлекая за собой множество других фирм. Если здесь причина была в слепой алчности богачей, которые сделали свое изобилие игрушкою в мнимо удачливых руках таких вот нравственных остолопов, то во вторник лопнул консорциум «мертвых душ», организаторы коего, неимущие конторские ученики, регулярно вели биржевую игру на деньги из кассы своих начальников. В среду гром грянул над старым управляющим публичной кассою, который ежегодно подсовывал инспекторам для подсчета одно и то же – множество распиленных на кругляшки черенков от метел, запакованных как столбики монет. В четверг полетел некий господин, которому группа держателей акций доверила управлять своими ценными бумагами и который раз в неделю клал на свой канцелярский стол небольшую папку и прижимал ее кулаком, со словами: «Господа, здесь моя честь и любое желаемое подтверждение!» Акционеры, точно утки-подранки, полетели за ним следом, потому что ни один ни разу не рискнул вытащить папочку из-под кулака или хотя бы сказать «позвольте-ка!», ведь они были суеверны, а он высовывал из кулака два широко растопыренных пальца, едва лишь кто-нибудь пытался открыть рот, – думали, он умеет колдовать. Когда же он бесследно исчез, папочка осталась на столе, а лежал в ней всего-навсего листок с длинной колонкою цифр, которые поочередно были зачеркнуты – черными, синими, красными чернилами, карандашом и серебряным штифтом, в зависимости от часа дня и места пропажи. В пятницу настал черед общинного фактотума, который выручку за превосходный лиственичный лес потратил на лотереи всех кантонов, за исключением небольшой суммы, каковую пропил. В субботу утопился опекун семи богатых сирот, теперь совершенно нищих. В воскресенье все снова затихло.








