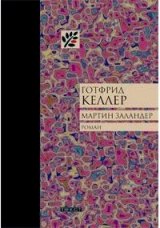
Текст книги "Мартин Заландер"
Автор книги: Готфрид Келлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Готфрид Келлер
Мартин Заландер
I
He старый еще мужчина, хорошо одетый, с дорожной сумкой английской работы через плечо, шагал от вокзала швейцарского города Мюнстербурга, по новым улицам, однако не в сторону центра, а решительно направляясь куда-то в окрестности, как человек, знакомый со здешними местами и уверенный в себе. Но скоро он волей-неволей остановился, чтобы осмотреться получше, ведь эти улицы уже не были давними новыми улицами, какими он хаживал когда-то; а оглянувшись, он заметил, что и вышел не из того вокзала, с которого уехал много лет назад, – на прежнем месте высилось куда большее здание.
Замысловатая, прямо-таки необозримая каменная громада блистала в лучах послеполуденного солнца до того безмятежным великолепием, что мужчина как завороженный смотрел на нее, пока суматоха уличного движения беспощадно не вторглась в его задумчивость и не принудила продолжить путь. Но высоко поднятая голова и мягко покачивающаяся у бедра дорожная сумка свидетельствовали, с каким душевным подъемом и удовлетворением он возвращается к жене и детям, туда, где оставил их много лет назад. Впрочем, он тщетно искал среди муравьиной мешанины построек следы давних тропинок, что некогда, тенистые и приветливые, бежали среди лугов и садов вверх по склону. Ведь эти тропинки скрывались теперь под пыльными или засыпанными твердым щебнем проезжими дорогами. Хотя все это непрерывно увеличивало его восхищение, в конце концов его таки ждал приятный сюрприз: свернув за угол, он ненароком очутился в окружении домов, которые тотчас узнал по их стародавнему сельскому облику. Нависающие крыши, красные балки фахверка, палисаднички – все те же, как в незапамятные времена.
– Ба, да ведь это Цайзиг! – воскликнул путник, остановившись и с любовью оглядывая окрестности. – Вправду Цайзиг! Я в Цайзиге, так здесь говорят! Кто скажет, отчего этакая штука и этакое слово за семь лет ни разу не вспомнились, а ведь школьниками, коли заводилась монетка-другая, мы пили здесь замечательный яблочный сидр! И старый источник целехонек, которым, бывало, дразнили цайзигского хозяина: он, мол, сидром и молоком оттуда кормится!
В самом деле, прозрачная горная вода, как прежде, струилась из ветхого деревянного столба в давнишний желоб, и вытекала она из того же спиленного ружейного ствола, торчащего из столба вместо железной фонтанной трубки. Это открытие вызвало у путника новый прилив восторга.
– Привет тебе, почтенный знак мирной силы оружия! – вслух подумал он. – Трубка, некогда изрыгавшая огонь, дарует людям и животным чистую родниковую воду! Однако в каждом доме, как я слыхал, уже висит винтовка, ждет серьезного испытания, но пусть родимый край будет подольше от него избавлен!
В этот миг к источнику, играя, приблизилась ватага ребятишек, мелюзга от двух до шести лет. Шестилетнего возраста достигли, пожалуй, два мальчугана, вдобавок близнецы, потому что были они совершенно одного роста, с совершенно одинаковыми круглыми толстощекими головами, оба в передниках, выкроенных из одной и той же клеенки в мелкий цветочек, вероятно, чтобы и отличить их от других, и защитить одежду. Чуть в стороне сиротливо стоял бледный мальчонка лет восьми от роду, он-то и дал повод к небольшому происшествию, которое отвлекло внимание путника от старого ружейного ствола.
Один из парочки в передниках заносчиво крикнул бледному мальчонке:
– Ты что здесь делаешь? Чего тебе надо?
Когда тот не ответил и лишь печально посмотрел на него, второй близнец, заложив руки за спину и выпятив обтянутый передником живот, шагнул поближе и нагло осведомился:
– Да, чего ты тут ждешь?
– Я жду свою матушку! – на сей раз ответил мальчонка, уже не уверенный, вправе ли он стоять здесь. Противник же, сухо и презрительно, как взрослый, обронил:
– Та-ак, у тебя есть матушка?
А брат его с громким смехом выкрикнул:
– Ха-ха! У него есть матушка!
И тотчас ребячий хор, потешно копируя смех старших, закричал нараспев:
– У него есть матушка!
Более радостного смеха от этакой мелюзги, кажется, и услышать невозможно. Словно презабавнейшее происшествие веселило их прямо-таки по-царски, они извлекали из глубины своих доверчивых детских сердечек все новые «ха-ха-ха», обступив кольцом двухлетнего карапуза, а тот, уперев в бока пухлые ладошки, повторял:
– О! У него есть матуска!
Когда эта забава, как и все на свете, мало – помалу подошла к концу, человек с дорожной сумкой, который наблюдал за происходящим и ничего не понял, дружелюбно полюбопытствовал:
– Отчего это вам, дети, так смешно, что у этого мальчика есть матушка? Разве у вас матушки нет?
– Нет! Мы говорим «мама»! – объявил один из предводителей мелюзги, подбирая с земли глиняный черепок; им он зачерпнул воды из желоба и выплеснул на обладателя матушки. Однако на сей раз тот не стерпел. Бросился к зловредному близнецу, чтобы задать ему трепку, а оба братца немедля заревели во все горло и закричали:
– Мама! Мама!
– Исидор! Юлиан! В чем дело? Что сызнова стряслось? – послышалось в ответ, и на пороге одного из домов появилась дюжая женщина, которую определенно оторвали от стирки. Намокший фартук подоткнут, на выставленном вперед кулаке надета соломенная шляпа, по моде украшенная цветами и шелком; локтем другой руки, загорелым и красным от горячего пара, она попыталась утереть потный лоб и, обращаясь к шедшей следом модистке, бранчливо вскричала, что шляпа не удалась, цветы никудышные, она хочет такие же красивые и большие, как у других женщин, и ленты белые, а не коричневые. Непонятно ей, почему она не может носить белые ленты, как такая-то и такая-то, и пускай она не советница, но в свое время вполне может заполучить одну, а не то и двух в невестки!
Модистка, успевшая меж тем забрать у нее шляпу, с робким вызовом заметила: вот, мол, и хорошо, что ленты не белые, иначе она бы вконец их испортила мокрыми руками, и вообще покамест неясно, удастся ли отчистить пятна с этих, с коричневых. Посмотрим, что скажет хозяйка. Засим она положила шляпу в картонку, в которой принесла ее сюда, и раздосадованная пошла прочь, а прачка крикнула ей вдогонку, что шляпа должна быть готова к следующему воскресенью, потому что она хочет надеть ее в церковь. После этого она наконец взглянула на своих отпрысков, Юлиана и Исидора, которые не переставали реветь, хотя чужой мальчонка вернулся на прежнее место.
– Что с вами стряслось? Кто вас обижает? – громко спросила она, и близнецы хором завопили:
– Вон тот мальчишка хотел нас побить!
Однако тут бдительный путник почел своим долгом вмешаться и сообщил женщине, что ее сыновья первые облили того мальчонку водой и насмехались над ним, оттого что у него матушка, а не мама.
– Ой как нехорошо с вашей стороны, – с мягкой укоризной попеняла женщина своим отпрыскам, – он не виноват, что родители у него люди бедные и неученые, а вам, благодарение Богу, живется получше!
Человек с дорожной сумкой не удержался и спросил, уж не считается ли здесь признаком бедности или упадка, коли в народе еще называют родителей «отец» и «мать», и задал он этот вопрос из благоприличной любознательности, без насмешки, ожидая опять услышать что-нибудь новое, быть может полезное и похвальное. Женщина, однако ж, посмотрела на него с удивлением, немного подумала и, решив, что речь идет о необоснованном и непозволительном выпаде, отвечала с подчеркнутым нажимом:
– Мы тут не народ, мы – люди, имеющие одинаковое право добиться высокого положения! И все одинаково благородные! И для своих детей я – мама, чтобы не пришлось им стыдиться перед господами, чтобы шли они по жизни с высоко поднятой головой! Каждой хорошей матери пора об этом позаботиться!
– Что это ты расшумелась, жена? – спросил ее подошедший муж; он поставил возле источника большую корзину моркови и добавил: – Надо помыть овощи! Я сей же час перекопаю грядку и снова засею, а ребятишки могут покамест все это помыть! А чтоб не загрязнили воду в желобе, дай им ведерко, жена, и вообще приглядывай, чтоб не мутили воду, скотине надобно чистое питье!
Этакие речи, да при незнакомце, казалось, привели славную женщину в еще большее раздражение. Мальчуганы-то одеты чин чином, незачем им сызнова гваздаться! Морковь она сама после перемоет, спешить некуда, ведь заберут ее только завтра утром.
Близнецы в свою очередь закричали:
– Отец, мама говорит, нельзя нам гваздаться! Что же мы должны делать? Можем идти куда хошь?
Не дожидаясь ответа, они вместе с остальными ребятишками побежали прочь; незнакомец же, вместо того чтобы последовать их примеру, по-прежнему не двигался с места, размышлял о новом факте, что для детей муж мамы все-таки просто отец, а вдобавок и авторитета у него куда меньше, чем у нее.
Тут крестьянин, или огородник, прервал ход его размышлений вопросом:
– А с вами, сударь, что приключилось? Что вам надобно?
– Да ничего ему, поди, не надобно! – перебила его жена. – Он назвал нас народом и дивился, что мальчики меня мамой кличут!
– Я совсем другое хотел сказать! – с улыбкой возразил незнакомец. – Напротив, порадовался совершенствованию здешних нравов и растущему равенству граждан, вижу, однако, что главу семейства по-прежнему называют отцом, а не папой! Как прикажете это понимать?
Женщина сердито посмотрела на мужа, который, вероятно, в этом пункте доставлял ей достаточно огорчений, но в остальном держалась тихо. Муж теперь в свою очередь окинул незнакомца испытующим взглядом, как перед тем жена и, убедившись, что лицо у него открытое и добродушное, соблаговолил ответить доверительно:
– Видите ли, добрый друг, об этом деле есть что порассказать! Равенство, конечно, существует, и все мы стремимся подняться повыше. В особенности охочи до этого женщины; одна за другой присваивают себе упомянутое звание, тогда как нам, мужчинам, при наших занятиях этакие финтифлюшки без надобности. Мы бы сами над собою смеялись, во всяком случае до поры до времени, к тому же – а это главное – нам наверняка взвинтят налоги, коли мы папами заделаемся. Так намекнул господин пастор в школьном комитете, когда про это зашел разговор, потому как классный наставник, говоря о родителях иных учеников, именовал их папами и мамами. Понятно, что эти ученики как раз приносили хорошие подарки. У женщин, сказал пастор, это не столь уж важно, ведь они известны своим тщеславием; а вот мужчины, коли велят называть себя папами, свидетельствуют тем самым, что причисляют себя к состоятельным и солидным, а коль скоро они еще и налогов платят чересчур мало, то вскорости их и тут оценят повыше. И всем шести учителям сей же час строго-настрого приказали избегать в школе слова «папа», во имя равенства, и что бедных, что богатых именовать только «отец»!
Жена еще в начале этой речи сердито ушла к себе на кухню; крестьянин тоже поспешил прочь, вспомнив, что у него еще множество дел и что он изрядно заболтался; незнакомец остался один на тихой площади. Лишь теперь он заметил на старом доме вывеску «Овощеводство и молочное хозяйство Петера Вайделиха». Стало быть, эти люди зовутся Вайделих, пробормотал он тихонько, не отдавая себе в этом отчета. Слегка потер лоб, как человек, который не вполне сознает, где сейчас находится, потом сообразил, что идти ему осталось еще минут десять, не больше, и он увидит своих близких. Но едва он повернулся, собираясь сделать шаг, кто-то положил руку ему на плечо и спросил:
– Уж не Мартин ли это Заландер?
Действительно, таково было его имя, ведь он молниеносно обернулся, так как впервые услышал его на родной земле и увидел первое знакомое лицо.
– А ты – Мёни Вигхарт, в самом деле! – воскликнул он. Мужчины обменялись рукопожатием, внимательно и не без удовольствия глядя друг на друга, как добрые старые друзья, которые ничем один другому не обязаны и ничего друг от друга никогда не хотели. Такая встреча у родимого порога всегда приятна.
Означенный Мёни, сиречь Саломон, казался лет на десять постарше г-на Мартина Заландера, однако ж при своих усах и бакенбардах выглядел по-прежнему вполне свежо и опрятно и в руках сжимал все ту же трость с набалдашником в виде золоченой собачьей головы, как и двадцать лет назад. Со всеми порядочными людьми он был на «ты», хотя ни один в точности не знал, с каких пор. Тем не менее врагов он никогда не имел, ведь для всякого своего знакомца был оазисом покоя, передышкой средь неотступных забот и мыслей или же, коли тот просто бродил в рассеянности, – удобной опорою для возвращения к сосредоточенности.
– Мартин Заландер! Кто бы мог подумать! Давно ли ты в родной стране? Или только – только приехал? – опять спросил Вигхарт.
– Я прямо с вокзала!
– Да что ты! И я тоже оттуда, каждый день пью там кофе и смотрю, кто приезжает – уезжает, а тебя не приметил! Черт побери! Ну и ну, Мартин Заландер воротился! Прямиком из Америки, верно?
– Из Бразилии, то бишь еще на полтора месяца задержался в Ливерпуле, по делам. А теперь пора и к жене, целых полгода я не имел вестей от нее и моих троих детей, что и говорить, они, поди, заждались. Надеюсь, с ними все хорошо.
– Кстати, где они? Здесь, наверху? – Этот вопрос старый друг задал не вполне уверенным тоном, и в ответе собеседника тоже сквозило легкое замешательство:
– Конечно, она ведь уже который год арендует на Кройцхальде, полагаю, недалеко отсюда, маленькую летнюю кофейню и пансион для проезжающих.
Про себя же Заландер подумал: стало быть, он ничего об этом не знает или, по крайней мере, делает такой вид; по всей видимости, этот вечный фланёр и любитель вина ни разу там не бывал. Значит, дела идут не блестяще, и, уж во всяком случае, отменным вином у бедняжки Марии не угостишься!
Перескочив это маленькое затруднение, Вигхарт схватил руку, на прощание протянутую Заландером, и задержал ее в своей.
– Я бы пошел с тобой прямо сейчас, но при первой вашей встрече этак не годится, тут посторонние зеваки без надобности! Однако всего в десятке шагов, за углом, у старого мирового судьи Хаузера в «Рыжем парне» подают прошлогоднее, пьется как небесный нектар. В хорошую погоду я каждый день непременно пропускаю там бокальчик. И сейчас намерен поступить так же, и ты, сударь мой Мартин, должен по случаю нашей встречи осушить со мною бутылочку! За полчасика, за двадцать минут управимся, так что времени у тебя останется сколько угодно! Идем! Не разводи церемонии! Я обязательно хочу выпить с тобой первый бокальчик и долго тебя не задержу, обещаю!
Мартин Заландер, чью руку добрый старый друг не выпускал из своей, всерьез упирался, горя желанием поскорее увидеть жену и детей, которые уже так близко; однако ж человек, проделавший долгий путь и нередко впустую совершавший большие объезды и остановки, легко мог добавить к семи годам отсутствия еще полчаса, чтобы отметить нежданную встречу, поэтому в конце концов он уступил. Знал, конечно, что обходительному господину особенно не терпелось скоренько узнать хоть какие-нибудь подробности его судеб, чтобы вечером первым в городе сообщить о его прибытии и кое-что порассказать; но теперь он и сам вдруг ощутил потребность немного расспросить этого всегда хорошо осведомленного человека об обстоятельствах в родном краю. И вместо того чтобы продолжить путь на Кройцхальде, он направился с Мёни Вигхартом в другую сторону, к «Рыжему парню», крестьянской усадьбе, где богатый хозяин-старожил попутно угощал посетителей добрым вином с собственных виноградников.
Площадь возле источника совершенно затихла и опустела; лишь в уголке по-прежнему стоял мальчонка, который ждал матушку и был младшим сыном только что ушедшего Мартина Заландера.
II
Оба господина и впрямь очень скоро подошли к укрытому за плодовыми деревьями дому. Хозяйская горница, она же гостевая, была пуста, когда они вошли; Вигхарт постучал – на стук явилась женщина, занимавшаяся чем-то по соседству.
– Где же господин мировой судья? – осведомился Вигхарт, заказывая бутылку вина.
– На винограднике все, – ответила служанка, доставая из шкафа белую бутылку; она окунула ее в блестящий медный котел с водою, на котором виднелась чеканка: рыба в форме полумесяца, без чешуи, по бокам – имя какого-то предка, а внизу – год восемнадцатого века. Служанка ушла в погреб за вином, а гости меж тем уселись за широкий ореховый стол.
Мартин Заландер огляделся, глубоко вздохнул и сказал:
– Как здесь тихо и покойно! Семь лет я не сиживал за таким вот столом!
За окнами – сплошная зелень, яблони, луга, и вместо небесной лазури взгляд, коль скоро умудрялся проникнуть меж стволами и сучьями, различал на заднем плане лишь поднимающийся по склону виноградник, совсем недавно тщательно взрыхленный. Только кое-где среди листвы мелькала голова какого – нибудь нагнувшегося работника, и ты чуть ли не воочию видел солнечную даль, куда устремлялся его взор.
– Семь лет, Боже мой! Неужто ты отсутствовал так долго? – сказал Вигхарт.
– И еще три месяца!
Служанка принесла вино и несколько ломтей доброго ржаного хлеба, а поскольку посетители ничего более не пожелали, вернулась к своей работе. Вигхарт до краев наполнил бокалы.
– Ну что ж, с возвращением! – Он приветственно чокнулся с Заландером, который покамест не вполне освоился и прежде времени наслаждался покоем. – Твое здоровье! А выглядишь ты хорошо, право слово, само здоровье! Стало быть, можно предположить, тебе сопутствовала удача и все благополучно, а?
– Всяко бывало, но могу тебе сказать, я защищался, и отбивался, и мало спал, и в конце концов оправился от ужасного удара, который постиг меня тогда. Правда, времени понадобилось больше, чем я рассчитывал!
– Если не ошибаюсь, ты попал в беду из-за поручительства? Я в ту пору находился в отлучке, а когда вернулся, узнал, что ты уехал.
– Да, из-за истории с Луи Вольвендом.
– Точно! Каждый сочувствовал твоему несчастью, однако ж все задавались и вопросом, как ты мог столь опрометчивым поступком поставить на карту все свое состояние?
– Я ничего на карту не ставил, никаких барышей не желал, просто хотел исполнить дружеский долг, то бишь… я ведь не думал, что дойдет до платежа, скорее, помнится, полагал, что, поди, не так страшен черт, как его малюют, и всякая истинно дружеская услуга сопряжена с риском, иначе какая же это услуга. Мы ведь стали добрыми друзьями еще в учительской семинарии. Учение давалось ему трудно, потому он и держался подле меня, я-то учился куда легче; со стороны же, Бог весть почему, казалось, будто я учусь у него! Тем не менее меня это забавляло, ведь он был такой смешной, доверчивый и смекалистый, и где стояли двое, он тоже был тут как тут, даже среди учителей и профессоров. В пору годовых экзаменов он умел вести себя с ними очень потешно. Не дознавался, скажем, о чем в особенности они будут его спрашивать, а умудрялся прямо – таки внушить им, о чем ему хочется быть спрошенным, а затем с моею помощью специально затверживал, или как уж это назвать, соответствующие темы. Он словно бы обладал способностью словечком-другим выстраивать по порядку мысли людей, направлять их в ту или иную сторону и отпускать на волю, однако же был не в состоянии удержать в устойчивом порядке собственные мысли. Но, как я уже говорил, все это было забавно, и каждый предоставлял ему свободу действий. В итоге он действительно получил руководство сельской начальной школой, где дела шли замечательно и весело; но когда он взял на себя реальные классы, сиречь обучение детей постарше, то вскоре начал скитаться с места на место, а спустя короткое время вообще отказался от учительской карьеры. Я меж тем, приложив немалые старания, выучился на учителя школы второй ступени и вдобавок был избран управлять школой, что и делал не только с воодушевлением, но и с известным чувством долга, и не жалел усилий, чтобы по мере возможности подтянуть учащихся. Я уже предвкушал грядущие дни, когда надеялся встретить иного крестьянина, который благодаря мне сумеет правильно произвести учет, обмерить поле, лучше разобраться в своей газете и, скажем, прочитать французскую книжку – и все это, как говорится, с плугом в руках! Впрочем, этого я не изведал, потому что мальчуганы мигом исчезали из глаз, расползались по всевозможным канцеляриям. Ни одного из них я более не видел в поле, на солнце под открытым небом!
Заландер умолк, очнувшись от воспоминаний, потом легонько вздохнул и продолжил:
– Но сам-то я чем лучше? Тоже ведь сбежал от плуга!
– Ты имеешь в виду, когда оставил учительское поприще? – сказал Вигхарт, как только собеседник опять ненадолго умолк. – А как это получилось?
– Отец с матерью скончались в одну неделю от злокачественной лихорадки. В хлеву у них околел больной теленок, и они зарыли его на лугу по-над домом, неподалеку от нашего питьевого источника, и, сами того не ведая, отравили воду. Батрак с батрачкою чудом избежали смерти. Причину только позднее обнаружили. А у меня ужас и скорбь обернулись большим беспокойством, когда после продажи усадьбы я оказался владельцем родительского состояния, для школьного учителя довольно значительного. Я женился на девушке, которую уже давно заприметил, у нее тоже были наличные средства. И тут вдруг мне стало тесно в мирном школьном классе, в сельском уединении; я переехал сюда, в этот город, что виден за деревьями, хотел быть в гуще жизни, среди взрослых людей, искать свободы и прогресса, стать коммерсантом, образцовым хозяином, даже военную службу наверстать и сделаться офицером, чтобы исполнить свой долг. Ведь мне казалось, я в ответе за все, раз у меня есть некоторое состояние, каковое, по сути, и богатством-то нельзя было назвать.
Для начала я приобрел долю в скромной ткацкой фабрике, которой управлял сведущий человек, а помимо того, взял выморочную торговлю соломенными изделиями; и, как тебе известно, все шло отнюдь не плохо. Коммерцию я вел тщательно и прилежно, не поворачиваясь спиною к миру. В том числе и к Луи Вольвенду; он владел комиссионной фирмой, как тебе опять-таки известно, наряду с несколькими агентствами, по-прежнему оставался добрым и хорошим парнем и умудрялся всюду поспевать, так что у каждого невольно создавалось впечатление, будто у него все в порядке и он отлично знает, чего хочет. И возле меня он крутился по-прежнему, как только находил время, вскоре я прослыл его лучшим другом и не возражал, хотя в глубине души примечал в нем кое-что необычное. В певческом обществе, куда он меня привел, я обратил внимание, что поет он все время фальшиво, но подумал, что его вины тут нет, а после, за стаканом вина, он держался тем забавнее и любезнее и, невзирая на явно плачевные данные, утвердился вторым тенором. В конце концов меня это всерьез раздосадовало, он же делал вид, будто ни о чем не подозревает, и в итоге я сказал себе, что бедняга, начисто лишенный слуха, но непременно желающий петь, в сущности, проявляет своего рода идеализм.
И вот однажды вечером на рождественской неделе, когда я сидел над заключением счетов, намереваясь поработать за полночь, Вольвенд пришел позвать меня с собою в означенное общество, где устроена елка и большая пирушка. Я идти не хотел; он не отступал, а когда и моя жена стала уговаривать меня пойти: мол, не грех и отдохнуть, – я согласился. На свою беду.
По дороге я еще и подарок купил на елку, славную познавательную книгу с золотым обрезом, и по жребию получил взамен вестфальский окорок. После ужина, когда открыли состязание комических певцов, декламаторов и ряженых, Луи Вольвенд тоже взошел на подмостки, объявил, что прочтет Шиллерову балладу «Порука», и тотчас начал. К моему удивлению, он знал стихи на память и читал с некоторым волнением и убедительностью, заметно дрожащим голосом, но с чертовски фальшивой интонацией, отчего создавалось не смешное, а скорее досадное впечатление. Сам того не сознавая, он декламировал стихи тем уныло-ворчливым тоном, каким люди необразованные читают вслух какой-нибудь документ, а при этом стучат по столу и от непомерного старания коверкают речь, растягивают слова и, будто со злости, напирают на безударные слоги, поскольку ударных им недостаточно. В конце первой же строфы он, повышая голос, произнес:
А вторую строфу закончил так:
Останется друг мой порукой,
Солгу – насладись его мукой.
И совсем ужасно звучало продолжение:
И, злобный метнув на просящего взгляд,
Тиран отвечает с усмешкой…
Тут он впрямь попытался изобразить на лице усмешку и злокозненность. Финал стихотворения, напротив, прозвучал безмятежно:
И с просьбою к вам обращается он:
На диво грядущим столетьям
В союз ваш принять его третьим.
Семь лет минуло, а я по сей день помню эти глупости так отчетливо, словно слышал их только вчера.
Настроение у меня несколько испортилось, Вольвенд меж тем спустился с возвышения и вновь сел рядом со мною, а поскольку время уже близилось к полуночи, я встал и, отыскав пальто и шляпу, оставил компанию. Но едва лишь вышел на улицу, как он догнал меня, зашагал рядом, откашлялся, будто собрался снова читать стихи. Не давая ему открыть рот, я спросил, что ему за радость так скверно читать стихотворение, вообще держать речь, так возбужденно и одновременно так фальшиво.
И он все еще с дрожью в голосе отвечал, что вправду возбужден и конечно же декламировал скверно, потому что сам ищет поручителя и находится в критическом положении.
Совершенно другим, вполне рассудительным тоном он немедля изложил свое дело. Он – де отважился на весьма чреватое последствиями предприятие, которое требовало значительных капиталовложений, тогда как банковский его кредит уже целиком уходит и будет уходить на текущий гешефт. Ни тут, ни там нельзя отступить без ущерба для имущества и чести; но продолжение предприятий может умножить и то и другое; словом, речь шла об открытии нового кредита под поручительство, для которого потребны три подписи. Через пятнадцать минут я как солидарный поручитель и самостоятельный плательщик поставил первую подпись на уже приготовленном у Вольвенда дома документе, а затем пошел спать. Двух других поручителей я никогда не видел; это были какие-то тихие приличные люди и неплательщики, они спокойно скрылись от катастрофы, не без того, чтобы самим навредить различным поручителям или кредиторам, коль скоро те в самом деле платили.
Так вот, года не прошло, а Луи Вольвенд объявил себя неплатежеспособным, и едва лишь начались конкурсные слушания, надо было полностью и беспрекословно выплатить сумму моего поручительства. Она поглотила все, что имели мы с женой, и собственное мое дело тоже ликвидировалось быстро и аккуратно, благодаря порядку, какой в нем царил, и я был отпущен на все четыре стороны! Удивительно! Казалось бы, самое время воротиться в школьный класс, но, увы, это мне даже в голову не пришло! Вольвенд же еще не один год жил в банкротстве и за счет банкротства, которое, как говорят, в итоге кончилось ничем, не знаю уж, каким образом.
– Но как же ты мог так рисковать состоянием жены? – перебил Вигхарт. – Ведь она по закону могла перевести его на себя!
– Она не захотела, – отвечал Заландер, – ради будущего детей, ведь иначе бы я стал банкротом. Мы были молоды и верили в будущее, которое не желали испортить.
– Но почему ты не взял семью с собой или не вызвал ее к себе, когда дела пошли в гору?
– Потому что хочу жить и умереть на родине, я ведь не эмигрант! А в таком случае не смог бы поворачиваться так быстро, как было необходимо; к тому же я дважды перенес лихорадку, да и вообще дорого платил за науку, не раз приходилось начинать сначала. Уезжая за океан, я прихватил с собой несколько ящиков соломенных шляп, которые мне доверили, как и кой-какие легкие шелковые и хлопчатобумажные вещицы; с этим я худо-бедно начал дело на тамошних берегах, пока молодой человек, нанятый в помощь, не обокрал меня, когда я беспомощный лежал в лихорадке. Поневоле я поступил на службу в довольно крупную компанию и, занимаясь куплей-продажей, стал разъезжать по бразильским провинциям. Благодаря этому я изучил тамошнюю внутреннюю торговлю и впоследствии вел оную на собственный страх и риск, разумеется исходя из состояния своих средств. Что ж, я справился и возместил убытки, большего я не желал, и теперь могу вновь начать дело подле семьи и в родной стране. Здесь у меня Моисей и пророки. [2]2
Перефраз библейской цитаты (Лк 16:29).
[Закрыть]
Он хлопнул по своей превосходной дорожной сумке, однако воскликнул, наконец-то опомнившись:
– Н-да, хорошенькое же возвращение! Шесть недель в Ливерпуле, а вдобавок еще и здесь застрял, в пяти минутах от жены. Допивай бутылку один, дружище, ты ведь, наверно, покамест задержишься здесь! Тенистый зеленый уголок и впрямь слишком уютен!
Но старый друг, указав на сумку, остановил его.
– У тебя там, поди, солидные бумаги? – осведомился Вигхарт. – Коли надумаешь продать какой-нибудь хороший документец на предъявителя, милости прошу ко мне, ты же знаешь, в нынешние бумажные времена никак не мешает что-нибудь прикупить и улучшить свое благосостояние!
– Там ничего такого нет! – отвечал Заландер. – В последнее время я сосредоточил все нажитое в Рио-де-Жанейро, в Банке атлантического побережья, учреждении молодом, бурно развивающемся, и теперь везу с собой стоимость своих приблизительно тридцати шести миллионов рейсов в виде чека, который можно обналичить в десятидневный срок.
Он еще раз удовлетворенно хлопнул по сумке.
– Черт побери, лакомый чек! – воскликнул Вигхарт.
– Думаю, он авизован еще месяца два с лишним назад! – добавил Заландер.
– И где же? Разумеется, в большом сундуке? Или в старом комоде? А может, в новом? С недавних пор так в шутку называют наши банки.
– Банк называется «Ксавериус Шаденмюллер и компания», погоди, у меня записано. – Заландер достал из бокового кармана сюртука записную книжку. – Да, «Шаденмюллер, Ксавериус и компания».
Вигхарт во все глаза смотрел на него, не находя слов.
– Шаденмюллер, говоришь? А ты знаешь ли, кто это?
– По крайней мере, энергичная фирма, хотя семь лет назад еще неизвестная.
– Несчастный! Это же Луи Вольвенд, и никто другой!
Мартин Заландер, посерев лицом, медленно поднялся из-за стола, но тотчас опять сел и сказал:
– Видно, у каждого человека есть этакий истукан, от которого нигде спасу нет, повсюду отыщет. Только о нем забудешь, а он опять тут как тут. Н-да, хорошенькое положение! Впрочем, кто сказал, что Вольвенд не заплатит? Судя по всему, он оправился и стал на ноги, как – меня не интересует! Банк атлантического побережья тоже ведь не лыком шит и знает, что делает. В конце концов судьбе наверняка угодно, чтобы я вернул себе прежнее состояние, коли этот малый так окреп!
– Дважды несчастный! Тот, чье имя Шаденмюллер, уже два года как скрылся, преемник его, Вольвендов компаньон, тоже укатил, полгода назад, а что до нынешнего единственного представителя фирмы, Вольвенда, то со вчерашнего дня он опять прекратил платежи, протесты сыплются градом, а контора якобы на замке.








