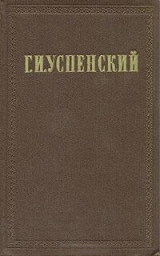
Текст книги "Скучающая публика"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
– Дурак! Так дурака и надо!
– А с дураками нешто не так надобно?
– Дураков надо учить!
– Раз-другой поучат так-то дурака, ан он и умней будет!
– Ишь ты! Сорок пять целковых хотел слизать, а как не вышло, так и взвыл как белуга!
– Ох! ох! ох! ох!.. пя-а-а-а-а-атнадцать ца-ал-ко… о-ох – ох…
– Ха! ха! ха! ха! – помирала со смеху публика. И поистине было смешно.
Но верзила не исчерпал еще всех своих душевных свойств. Верзило выл и катался по полу довольно долго, едва ли не до тех пор, покуда вся пароходная публика вместе и поодиночке не засвидетельствовала ему лично своего мнения о том, что он "дурак".
– Как обыгрывать – так ничего, а как проигрывать, так закудахтал!
– Охо-хо-хо… Батюшки… матушки мои!
– Ха! ха! ха!
Положительно всякий пассажир подходил к нему, слушал его вытье и говорил, что "так дураков и надо".
Наконец все назвали его дураком и разошлись по своим местам. Игроки, партнеры верзилы, тоже давным-давно разбрелись. Артельщик, выигравший деньги, спал самым крепчайшим сном, уткнувшись лицом в подушку; он не слыхал, как обыгранный мужик выл. Благообразный человек в "котелке" сидел вверху на рубке и меланхолически любовался видом Камы, а лакей почему-то перебрался со своей подушкой и узлом на другой конец палубы, сказав прежним соседям: "Уйтить от вас, а то, пожалуй, взвоешь вот как этот мужик!.." Наконец затих и верзило.
– Очухался, видно?
– В другой раз не будет!
– Видно вытьем-то не поможешь!
Но верзило думал не так. Он, правда, затих, не выл, не охал и не катался по полу, а долго сидел за ящиками, утирая нес рукавом красной рубахи. Сидел он так довольно долго, потом встал, оправил рубаху и пошел…
И пошел он прямо к капитану парохода жаловаться.
Отворив дверь капитанской каюты, он тотчас же упал ка колени и, расставив беспомощно руки, взмолился:
– Явите божескую милость! Что ж это будет? Пятнадцать рублев… Это не игра, вашскородие!.. Отец родной… Это одно мошенство!!. Помилуйте! Я жаловаться буду… Эти деньги у меня чужие! Что ж такое? Господи помилуй!.. Публика видела это.
– Ишь подлец какой! Небось кабы сам счистил сорок-то пять рублей, не пошел бы жаловаться… Сказал бы: "мае"…
А какой по первому впечатлению хороший тип: сильный, работящий, простой, скромный, с наивными глазами… Пудовые тюки мелькают в его руках как соломинки, "ворочает" он этими пудами и песню поет, "не жалится", что трудно, а взяло за живое – вышел жадный зверь; не пришлось звериной алчности удовлетворить – взвыл как грудной ребенок, свалился как подрезанный колос, а когда взялся за ум, "очухался", сейчас "к начальству" – выручай меня из моей глупости и подлости.
Капитан выручил его. С шумом, с бранью деньги (оказавшиеся уже поделенными между "котелком", лакеем, оборванцем и артельщиком) были возвращены верзиле. Верзило был рад. Он опять взялся за швабру и принялся работать ею, елико хватало сил, не переставая всем и каждому говорить в то же время:
– Потому что у них игра не настоящая!.. Этак-то я кого хошь обыграю…
– Дурак! – говорили ему,
А иные называли даже и "подлецом". Но верзило не обижался, потому что был рад, сияя от счастия, и работал за семерых.
На следующий день я видел верзилу уже в обыкновенном, нормальном состоянии: он таскал кули и тюки, отчаливал, причаливал, мерил шестом глубину воды, а в антрактах, помолившись, благопристойно ел артельную кашу или, укладываясь спать, слушал какую-нибудь "занятную" сказку, небывальщину, которую ему рассказывал другой такой же верзило, геркулес с ребяческим выражением лица, но впечатление вчерашнего эпизода, которое этот верзило напоминал мне каждый раз, как только мне приходилось встречать его, не изгладилось во мне, а, напротив, постоянно развивалось и, на несчастье, все в том же неприятном, несимпатичном направлении. Эти шулера, благообразные "котелки", сюртуки, напоминающие трактирных лакеев, напомнили множество разговоров и личных наблюдений относительно обилия на Руси в настоящее время всякого "шлющего", бродячего народа. Не так давно было в газетах опубликовано, что бродячего рабочего народа, голытьбы, на нижегородской ярмарке было меньше прошлогоднего, что та голытьба, которая была в Нижнем, вела себя как нельзя лучше и т. д. Но тут же был опубликован целый ряд "мер", благодаря которым голытьба была приведена в благообразное состояние: ночлежные приюты, дешевые столовые и, вероятно, было что-нибудь по части дисциплины. Говорю это потому, что в июне месяце, до начала ярмарки, Нижний был переполнен голытьбою; никогда, сколько раз на своем веку я ни бывал в Нижнем, мне не приходилось видеть такого обилия "шлющего" народа. Я видел эту толпу тотчас после еврейских беспорядков и утвердительно могу сказать, что страшна она мне показалась. И затем, относительно вообще обилия голытьбы я слышал от всякого, имеющего дела с народом, неизбежный вопрос: "И откуда только берется этот рваный народ? Просто нет проходу!" Пароходные шулера ознакомили меня с новым типом этого растущего на Руси класса людей: это уже не нижегородские ломовики с разбитыми "вчерась" в драке глазами, а люди, которых с первого взгляда не признаешь за плутов; они приличны, благообразны, хорошо одеты. Это уж не рвань и голь ломовая, деревенская, бродяжная; это уж люди потершиеся, отведавшие легкой наживы, люди, несомненно толкавшиеся вокруг денег. Такого рода голытьба – голытьба злая, развратная и наглая – вообще-то была уж знакома мне: по старой московской дороге из Петербурга и в Петербург проходит мимо нашей деревни не одна тысяча в течение года. Иногда голытьба эта просит милостыню на французском языке и обижается, если милостыню подают ей хлебом.
– Куда я потащусь с этой дрянью? Мне денег надо.
Впрочем, обилие этой голытьбы и разнообразные ее типы будут предметом особого очерка, теперь же скажу, что вчерашний "картежный" эпизод только натолкнул меня на мысль о ней. "Верзило", – в том виде, какой обнаружил он вчера, – представился мне в виде какой-то центральной фигуры, вокруг которой кишит все это безобразие. "Ведь вот, – думалось мне, – в этом самом верзиле есть видимые для всех превосходные черты, есть также для всех видимый образ такой жизни, который подходит к самым лучшим сторонам верзилиного миросозерцания, среди которого он и хорош, и умен, и добр, и привлекателен, и справедлив. Но при старании из него можно сделать и зверя, и труса, и ничтожество, и предательство, и подхалимство, словом, можносделать много гнусного. Зачем?"
2
Ответить себе на этот вопрос я, конечно, не посмел, но картина, вызванная им и изображающая в общих чертах положение интеллигенции (в руках которой и находится участь вопроса: зачем?) – картина эта была приблизительно такого рода: представилась мне прежде всего огромная, сплошная, в виде какой-то длинной, широкой полосы, пролегающей вдоль всей России, точно шоссейная дорога, масса интеллигентного народа. Я называю «всю» представившуюся мне массу «интеллигентною» исключительно только, так сказать, по обличью, по внешнему образу жизни, хотя самой большей и главной части этой массы не придают никакого значения в интеллигентном отношении. Эта масса есть обжорный ряд, толпа «своего удовольствия», солидной действительности. Она огромна и первая лезет в глаза.
За нею следует не менее огромное скопище интеллигенции, получающей жалованье, томящейся завистью, скучающей, закусывающей у клубных и железнодорожных буфетов, томящейся в танцевальных, театральных и игорных залах, на пикниках, за карточными столами, в ученых и неученых обществах и заседаниях и жаждущей прибавки. За нею следует еще более огромная масса людей, также закусывающих, также томящихся и также никакого практического результата не оставляющих после своего исчезновения с лица земли; – людей, мысль которых хотя и не замерла, но освещает только (и то чуть-чуть) пустоту и бессовестность собственного существования: человек пьет, играет, участвует во всякой подделке "общественных дел" и в то же время постоянно над собой подтрунивает, издевается, называет себя дрянью и продолжает закусывать, играть и т. д., не находя в своей мысли очертаний других условий и обстановки жизни, не находя в себе даже силы представить что-нибудь лучшее, что-нибудь более опрятное. Каждый день увязая все глубже и глубже в грязь, человек такой не перестает понимать это, не перестает издеваться над собой, знает даже глубину своего падения, но продолжает сновать, не выпуская из рук карт и не отходя от буфета. За этими самообличителями следует огромнейший разряд теоретиков всевозможных сортов, видов и цвета. Одни, благодаря средствам, расчистив вокруг себя аршина на два в диаметре кучи того неопрятного хлама, которым изобилует жизнь, ищут настоящегов совершенстве личном, проповедуют «неземную справедливость», неземные дела,доходят в последовательном развитии своих идей до вопроса о том, из какого материала шьются «тамошние пиджаки». Другие, окруженные горами «сегодняшнего» хлама, уносятся мыслью в отдаленнейшее будущее России, тщательно изучают тот момент, когда Англия и Россия вступят в единоборство, и превосходно знают, какие блестящие перспективы могут из этого столкновения возникнуть. Третьи, не только не расчищая вокруг себя хлама, но, напротив, ежеминутно созидая его, изощряют свои мысли в риторике восхваления нашего будущего; наконец даже люди вполне здравомыслящие, исходящие мыслью из действительного положения дел на белом свете, и те весьма скоро суживают свою мысль на теоретическом знании жгучего дела «настоящего», тощают без живого опыта жизни, скудеют знанием этого большого дела во всем его теперешнем живомобъеме… Когда в прошедшем году, во время рабочего кризиса в Париже, печатались отчеты парламентской комиссии, созванной для изыскания средств к помощи, читая их; можно было только удивляться той мелочности, до внимания к которой могут опускаться такие тузы, как депутаты. Депутат Лезен должен высчитывать, сколько нужно выкупить тюфяков, одеял (холодно ведь!), детских кроватей, часов, ламп, кухонных принадлежностей… Читая эти отчеты, я жил в деревне и, признаться, думал так: «Да его ли депутатское дело заниматься этакими пустяками? Да они, неумытые рыла, не заслуживают того, чтобы этот господин копался да рылся, какому пьянице что нужно, тюфяк ли, одеяло или кастрюля! Уж видно, что добер барин-от, господин-от Лезен, мы этаких еще и видом не видали!» Да помилуйте: когда мы дождемся, чтобы у нас в волостном правлении разговаривали о том, есть ли кому что есть и есть ли у всех сапоги? У нас в самом центре нищеты и нужды только и идет разговор о высших делах и целях.
Да и то, что на наших глазах было живого и деятельного, и то как будто затихает и замирает. На наших глазах возник так называемый женский вопрос, хотя тогда же или вскоре после его возникновения какой-то поэт хотел было его похоронить и изобразил было его в виде ребенка, которого литература подняла на улице, отдала на воспитание в типографию, стала кормить бумагой и поить чернилами, то есть постепенно приводила его к гробу, но на деле, однако, вышло не так: женское образование пошло развиваться на деле, и мы имеем не один выпуск женщин-докторов, которые уже давно "работают" в народе. Но до сих пор в литературе, в прессе, из которой вся русская публика только и почерпает сведения о том, что делается на свете, ничего, то есть почти ровно ничего не было рассказано об этом опыте "работать в народе". На моей памяти я читал только один рассказ женщины-доктора о ветлянской чуме и еще рассказик в "Вестнике Европы". Теперь также на наших глазах курсы эти падают, закрываются, – и опять ниоткуда ни звука, так что попрежнему самое любопытное для "нас" остается все только бесконечное чтение рецензий об "Эрмитаже", Лентовском и "Ливадии". А опыт людей, сознательно отправившихся из прекрасных здешних мест в народную среду, нужен, необычайно нужен для общества и в особенности для подрастающего молодого поколения, которое теперь, в свободное от уроков время, стоит за спинками стульев, на которых сидят родители, играющие в карты, и наблюдает со всем напряжением детской впечатлительности за ходом игры. Одна такая книга, как "Что читать народу?" (в двадцать пять лет одна!) – манна небесная в нашей иссушающей душу жизненной пустоте. Опыт "работать в народе" – трудный, неприветливый, изнурительный, мучающий человека, – манна небесная потому, что в нем именно и есть правда, с нею только и может начаться наше самостоятельное развитие, воспитание. Ни в каком другом смысле нет ходу нашей самостоятельности, нет приложения нашим силам, стало быть, нет им развития; твсе можно купить готовым; все, что обещает нам развитие у нас европейских порядков, все давно уж в совершенстве обдумано и выдумано не нами.Все вот эти колеса, винты, гайки, молотки, бочки, изображенные на фотографии какой-то «группы» инженеров или механиков и заставляющие Марью Васильевну думать: «какой умный Иван Федорович!» (он изображен с какой-то кочергой) – все это куплено, только куплено,а на выдумку всего этого Иван Федорович не тратил собственного ума ни капли. Даже кашинским виноделам нечего выдумывать, а остается только подделывать. Словом, во всем строе европействующего русского человека от науки, от книги до сапога и чулка, не на что тратить свою мысль, все уж готово: «поди и купи». Эта полная возможность «все купить», от знания до чулка, совершенно обессиливает наш ум, наши силы – так нам в этих условиях все хорошо и умно сделано другими, – и наш ум, наша совесть, наши силы даже волей-неволейдолжны работать в ином направлении, чтобы иметь хоть какую-нибудь гимнастику и не исчахнуть в пустыне тоски или в пустыне «своего удовольствия».
Спрашивается, что, например, может сделать оригинального, самостоятельного наша литература, если она примет это готовое, чужими руками устроенное течение жизни за нечто новое? Ровно ничего! Все мотивы, которые могут на этом пути встретиться наблюдателю, уже разработаны и, как оригинальные, разработаны превосходно. Да, наконец, в настоящее время в мелкой журналистике уже практикуется кое-что по части "перелицовки" тамошнегона наше, российское.Мне пришлось встретиться с одной госпожой, которая по нужде делает для одной маленькой газеты такие вещи: возьмет французский или немецкий рассказ из буржуазной среды и переделает его на русские нравы: вместо Биарриц напишет Ялта, вместо Ганс – Кузьма Иваныч, а вместо гоф-кригсрат – надворный советник Анафемцев, вот и все. Читают и похваливают, потому что действительно трудно выдумать что-нибудь оригинальное, когда всеодинаково у известной среды, будь она французская, русская, немецкая… Наши буржуа не могут выдумать какой-нибудь обстановки жизни или дать ей какое-нибудь иное содержание, кроме той обстановки и того содержания, которые вообще свойственны типу буржуа. Русский заяц точно такой же заяц, как и заяц-англичанин, и вовсе нет того, чтоб наш заяц летал, а английский пел, – оба они зайцы, и все у них заячье, как две капли воды. На этом готовом пути грозит нам полнейшее утомление от готовых удобств, средств жизни и самого ее содержания, и единственное наше спасение, единственная возможность пробудить наши силы не на готовом,то есть не на ослабляющем даже самую охоту думать, делать и жить, а на новом, что может поднять все наши силы, что потребует даже удесятеренной энергии, состоит в опыте жить, принимая за главнейшую цель жизни благосостояние народных масс. Это трудно, но в этом непрерывном опыте, в этих непрерывных неудачах, разочарованиях, радостях, высказанных и не сказанных слезах, в этом, повидимому, мучительном сознании недостижимости цели – во всем этом только и может быть наша самостоятельная жизнь,отсюда только и придет материал, который ляжет в основание воспитания будущих поколений.
3
С каким поистине детским восхищением рассказывал мне один мой приятель следующий маленький эпизод. Задумал этот мой приятель походить пешком и посмотреть, как живут на белом свете добрые люди. С месяц ходил он по Московскому уезду, и в одну настоящую, заправскую «черную ночь», в дождь и ветер, забрел неведомо куда, в какой-то огромный лес или парк с заросшими, но правильными, величественными аллеями, и скоро очутился перед громадной развалиной старинного барского дворца. И в парке темно, и пусто во дворце – только ветер ревет и воет, раскачивая огромные деревья… Куда идти? И вдруг, обойдя руину с другой стороны, он заметил огонек. Огонек светился в единственном окошке, не лишенном рамы и задернутом занавеской. Обрадовавшись огоньку и жилью, приятель стал искать входа в него и скоро нащупал дверь, которая, как после оказалось, не имела даже и петель и была только приставлена снаружи; с громом и стуком повалилась она, эта дверь, от одного легкого прикосновения, и этот гром заставил выскочить обитателей жилья: в сенях, наполненных мусором от обваливающегося кирпича, появились древнейший старик и молодая девушка. Девушка оказалась учительницей сельской школы, которая помещалась тут же, в другой, не совсем разрушенной каморке. На селе негде «приткнуться», все занято трактирами и кабаками, а земское здание школы еще не готово, так вот земство и нашло возможным «приткнуть» ее с несколькими картами и книжным шкафом в этом микроскопическом углу огромного дворца, кое-как приведя угол в возможный порядок. Приятель мой, так нежданно появившийся и наделавший такого шума, оторвал девушку от работы: она исправляла детские сочинения. Завязался простой разговор о школе, о ребятишках, о ежедневных школьных мелочах, и разговор этот был точно луч света во всей этой виденной, слышанной и пережитой тьме… Во время разговора торопливо вбежала в комнату деревенская девочка, закутанная в платок и с высокой палкой в руке. «Я у тебя, Алексевна, – сказала она учительнице, – ноне ночевать не буду!» – «Отчего?» – «Да мне надыть пьяных и прохожих по дворам разводить… Отец-то хмелен, а очередь наша… так вот я вместо отца-то!» – и ушла. И опять хорошо и светло показалось моему приятелю. Какой бы микроскопический, с высшей точки зрения, «паллиатив» ни представляла эта учительница, читающая детские сочинения на тему: «как я раз испужался» или «как я раз расшибся», – хорош человек, который решился на этот паллиатив, который где-то в углу, в трещине старого дома, нашел возможным, а главное, нужным,разговаривать с какими-то чумазыми ребятишками, и дело его хорошо. Как ни мизерны средства этого человека, но он не скажет: «Почитай Кузьму Иваныча потому, что у него восемнадцать кабаков!» Не скажет: «Хлопочи только о своем кармане!» и т. д. Этого нельзясказать ей, иначе она бы и не была здесь, не ежилась бы в углу этой развалины с своими тетрадками, сказками… Все это чуть-чуть заметный огонек в черной, окутывающей ее кругом тьме, но огонек несомненный, хотя и трудно, мучительно трудно отвоевать его право не гаснуть среди целой орды кабатчиков, кулаков, на которых держится неурядица народная.
И, право, только вот такие едва мерцающие огоньки и радуют, хотя огоньки, точно, еле мерцают… Молчаливое совершенствование теоретических воззрений гораздо более распространено, чем желание живого дела; теоретическое изящество, отделка всевозможных теоретических деталей развиваются в ущерб вниманию к сегодняшней человеческой нужде, – и это во всех интеллигентных сферах; приводить в связь с сегодняшней мелочной действительностью свои отшлифованные до высшей степени изящества теоретические построения русский человек отвыкает с каждым днем все более и более. Недавно в газетах был опубликован такой случай: в Кронштадте существует какая-то ремесленная касса, дела которой ведутся по способу Артем Артемычей: молебен, расхищение, пожертвование корпии в "Красный Крест", молебен и опять расхищение. На общее собрание этой кассы, где члены хотели восстать на такие распорядки, появились приехавшие из Петербурга "новые люди". Эти новые люди теоретически были до того справедливы, говорили так превосходно, что собрание, заслушавшись их речей, сразу забаллотировало прежнее правление и выбрало в члены правления новых, приезжих людей. Но когда дело дошло до необходимости показать справедливость своих отшлифованных мыслей на деле, то есть войти в мелочи жизни небогатых трудящихся хозяев кассы и, основываясь именно на этих мелочах (ради них-то ведь и касса возникла), начать новые порядки, то новые люди оказались совершенно ничего в этих мелочах не понимающими, не имеющими никакого понятия о нужде, о том, как живет бедный человек, каков его труд. И что же? В то же самое заседание разочарованные бедняки должны были свергнуть новых людей с только что дарованных им мест и с горем и унынием должны были выбрать опять старых: эти хоть и воруют, но все-таки знают, почем свечи, как дорога крупа и т. д.
Иллюстраций, которые бы наглядно показали, до какой степени отвыкшая от реального дела мысль русского человека привыкла молча и неподвижно присутствовать при созерцании того самого зла, об уничтожении которого эта мысль смертельно печалится, можно было бы привести несметное количество.
4
Едва я дописал последнюю строчку, как в мою комнату вошел один мой приятель. Я прочитал ему написанное, и между нами произошел такой разговор.
– Это все так, все верно, – сказал приятель, – верно и то, что русский человек подавлен и ослаблен обилием "готового", и то верно, что это готовое не всегда ему по душе; уж очень видны нам и фальшь и ложь всего этого готового-то… Верно тоже и то, что даже "дело" во имя благосостояния народа не дремлет у нас, а двигается неустанно по мере возможности… Народное дело – слово не пустое, и не только слово! Но все-таки как будто что-то не то, чего-то недостает во всем этом всякому россиянину…
– Отчего же так?
– Да оттого, мне кажется, что человеку непременно надобно знать, что должно выйти из этого? Ну хоть бы, с позволения сказать, утопию бы какую-нибудь нам представили … "Это нехорошо, это не так, это несправедливо, а вот так, мол, и справедливо и хорошо!" У европейцев, не чувствующих аппетита к старым порядкам, всегда на смену их есть фантазия о новых; всякий европеец-реформатор ответит вам на вопрос: что надо? – "Вот что!" А у вас, то есть у нас, нет! "Народ, масса, капитализм, община", а все что-то не то! Образчика, фантазии не создано по поводу того, что и как должно быть, что и как справедливо. Давайте-ка эту фантазию, образчик – проснемся! Право, проснемся!
Я бы, разумеется, ни в каком случае не решил давать этих образчиков и даже в дружеской болтовне не нашел бы удовольствия фантазировать на этот счет. Но одно совершенно случайное обстоятельство заставило меня невольно сосредоточить внимание на этом деле.
Совершенно случайно в мои руки попало одно народное современное произведение, где говорится "обо всем", и мне показалось, что в этом произведении воистину "брезжит" какой-то свет, давая возможность хотя чуть-чуть уловить очертания чего-то гармонического, справедливого и необычайно светлого.








