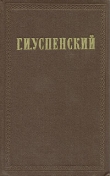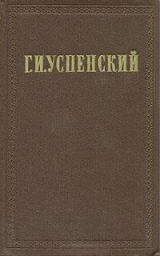
Текст книги "Новые времена, новые заботы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Надо было узнать, чей это дом.
– Дом-то? Хозяина, что ль?
– Да, хозяина…
– Это – госпожи Морозовой дом.
К удивлению, это и была прежняя фамилия владельца. Человек в чуйке, с седой подстриженной бородой, не замедлил объявить, что фамилия эта ему известна, и прибавил:
– Эта Морозова будет, стало быть, его сына Владимира – стало быть, Кузьмича – жена… Ей и дом-то достался…
– Девятьсот рублей получает, – прибавил другой из числа ожидавших чего-то у крыльца.
Все это были местные коренные жители; знали всю подноготную, а главное, знали, кто сколько получает – до тонкости. Не успел один заявить, что Морозова получает девятьсот рублей, как другой прибавил:
– Велики ли это деньги?.. У них ведь сколько охотников на эти деньги-то… Их нешто мало…
– Рожали не в свою голову – известное дело!
– Ну то-то и есть! – как бы обидевшись чем-то, заявил человек, начавший говорить о деньгах.
– Фамилия была большая… Много их было, фамилиев-то таких… Нонче все больше пошло так, что дом под железную отдадут, а сами на железную – служить…
Посмеялись этой остроте.
– Она, матушка (то есть железная дорога), много ихнего брата кормит. Иной так бы и сгинул с голоду – ан, глядишь, побалует что-нибудь в конторе, сто рубликов и есть…
– Нашему брату от этого баловства-то только достается… Я вон почесть год дожидаюсь арбузов… Неизвестно где…
– Да вот извольте почитать эту штучку, – вдруг оживившись и весь вспыхнув, заговорил один из разговаривавших. Очевидно, его задело за живое. Он выхватил бумагу и подал мне. В ней было сказано:
"На предписание ваше от 15 сего июля, чтобы получить мне по накладной мороженого судака, погруженного в Астрахани ноября прошлого, 187* года, то позвольте вам заметить, которая рыба имеет полную свою протухлость, и тое рыбы я принять несогласен. А что взыскиваете вы за провоз онные рыбы по всем дорогам, и даже загнали вагон в Прусскую землю, и там онную рыбу таскали неведомо по каким местам, покуда в полную ее скверность не превратили, то двух тысяч шести сот рублей семи гривен за этакое безобразие платить я несогласен, в том смысле, что и онная рыба сама того не стоит и тогда штуку придется продавать по восьми рублей судак, окроме потехи в эфтом не будет ничего, а за порчу взыщет начальство. Посему имею я донести об онной рыбы господину министру, об неудовлетворении меня в мерзлом судаке".
– Ей-богу, вот перед создателем, – дойду до министра, – повторял, задыхаясь, товароотправитель, покуда я читал эту бумагу. И едва я кончил одну, как тотчас являлась другая, в которой тоже вопияли против какой-то ни с чем несообразной ошибки господ служащих… Мне грозило неожиданно превратиться в судью таких дел, которые были мне совершенно неизвестны; несмотря на то, что люди эти видели, что я – человек совершенно посторонний и имею свое, не касающееся их дело, несмотря на то, что я почти не отвечал им, потому что не знал, в чем дело, они один перед другим старались излить передо мной все обиды, причиненные им железной дорогой. Я даже думаю, что именно совершенно постороннее железной дороге лицо и было то лицо, которое могло понять их и сочувствовать им по человечеству, тогда как всякий специалист железнодорожного дела, именно вследствие своей специальности, непременно будет понимать не по человечеству, то есть взыскивать за рыбу, которую надо выкинуть в помойную яму, налагать штраф за собственную свою ошибку и т. д. Ничего не понимая, я продолжал молча слушать эти излияния, когда на подъезде вдруг появилась какая-то фигура. Излияния замолкли… Просители сняли шапки. Фигура оглянула их, оглянулась на извозчика, который тотчас зашевелил вожжами, и произнесла:
– Опять вы… я говорил, что нельзя…
Сразу все просители возопили о судаках, об арбузах и т. п. Фигура надевала перчатку и говорила:
– Нельзя, господа, нельзя… я говорил вам – нельзя…
Вопли усилились, и голоса воющих поднялись на два тона выше.
– Нельзя, нельзя и нельзя! – спускаясь с трех ступенек, три раза произнесла фигура. Занося ногу в пролетку, она еще раз сказала:
– Нельзя-с!
Затем, уложив портфель на коленях, прибавила:
– Невозможно-с.
И уехала.
– Ну вот и поди!..
Я чувствовал вместе с этими людьми какую-то физическую усталость от этого "нельзя". Точно все мускулы размякли у меня и нервы упали – так это "нельзя" было неминуемо и непреклонно… Вялость какая-то вместо кажущегося негодования напала на всех, и уезжавшая на извозчике фигура казалась окруженною какою-то невидимою, но ничем непреоборимою атмосферою. Просители, еще недавно горячившиеся, как осенние мухи разбрелись в разные стороны.
Покуда у нас шли эти разговоры, покуда я был судиею совершенно чуждых мне дел и интересов, цель моего прихода в область старого пепелища не покидала меня, и я продолжал припоминать лица, на которые мне указали случайные мои знакомые. Вспомнил я Владимира Кузьмича, одного из сыновей главы угасшего рода, и вспомнил его жену… Признаюсь, мало было надежды мне узнать что-нибудь путное от этой особы… Это было что-то (так помнилось мне), что-то жирное и молчаливое; было ли это существо молчаливо от забитости или от бездарности – я не помнил. Помнил я только ее портрет, написанный масляными красками и висевший рядом с портретом ее мужа в их гостиной собственного дома, и этот портрет теперь припомнился мне во всем величии царившей в нем неуклюжести и тупости… Теперь, думал я, эта женщина с тупым взглядом, молча и непрерывно рожавшая детей, которые росли кой-как, без всякого разумного присмотра, без всякого смысла, теперь эта женщина – старуха, и старуха, должно быть, не особенно понятливая… Что она может сказать мне о Верочке, о ее беде? Всю жизнь она ела, спала, рожала детей и молчала – и теперь она, вероятно, продолжает делать то же самое, благо достался дом, кусок хлеба, благо без хлопот нарожденное племя уселось на легкой службе, большом жалованье… Так казалось мне, и я уж думал поискать кого-нибудь другого из уцелевших на старом пепелище, но выскочивший от нечего делать за ворота сторож неожиданно уничтожил мое колебание, спросив:
– Вам кого угодно?
Сказать "никого" и толкаться у ворот без всякой причины было неловко, и я должен был ответить:
– Госпожу Морозову.
– Хозяйку? Она вот тут в саду. Пожалуйте, я вас проведу.
Нечего делать – я поплелся за сторожем.
V
Мы вошли в давно знакомый сад. Помню, что здесь была беседка, где иной раз собиралась вся многочисленная семья попить чаю или пообедать, когда была хорошая погода. Помню, что была здесь баня… Теперь беседки не было, но, к удивлению моему, сад не производил впечатления заброшенного места, что я думал встретить. Вместо беседки стояли новые, только что поставленные качели; средняя дорожка, по которой мы шли, была тщательно расчищена, подметена и посыпана песком; вместо бани стоял опрятный, очевидно недавно выстроенный флигелек в четыре окна с подъездом, который был открыт… В открытые окна флигелька неслось какое-то жужжанье, оказавшееся хором учащихся детских голосов.
– Тут школа? – с изумлением спросил я.
– Школа-с, – покойно ответил сторож.
– Чья ж, кто ж ее держит?
– Сами хозяйка занимаются.
Представить себе жену Владимира Кузьмича учительницей, представить себе портрет, который только что со всею яркостью нарисовался в моем воспоминании, изменившимся мало-мальски осмысленно – воображение мое решительно не могло, и я спросил сторожа:
– Может, не сама учит-то? молодая, может, какая барышня из Морозовых?
– Какая молодая! молодых тут нету; сказываю – сама старуха, хозяйка, Анна Федоровна…
Волей-неволей приходилось поверить чуду – и действительно скоро я увидел действительное чудо.
В комнате, уставленной школьными партами, за которыми сидело десятка три детей разного возраста и пола, я застал пожилую женщину в черном платье и черном чепце, покойно, толково рассказывавшую детям какую-то, должно быть, очень интересную вещь, потому что ее слушали с напряженным вниманием. Оказалось из наших объяснений, что эта женщина-учительница и была та самая Анна Федоровна, портрет которой когда-то запечатлелся во мне своим тупоумием; перемена, какую нашел я в ней, была поразительна: ни одной черты не оставалось в ней, которая бы хоть мало-мальски напоминала памятный мне портрет. Худое, но не изношенное, а запечатленное думой лицо вовсе не напоминало того сплошного жира, который я помнил; глаза, когда-то не выражавшие ничего, кроме тупоумия, были теперь проницательны, полны жизни, и вместе с тем сохранили возможность быть детски-наивными (такою детской наивной радостию они сверкнули, когда я сказал, кто я такой); и вот эта-то простота, чистота души, выражающаяся в, таком наивном взгляде, когда-то, в старые времена, под толстым слоем сала и влиянием окружающего бессмыслия, должно быть, и казалась мне тупоумием. Теперь я ясно видел, что в этом человеке была чистая, благородная, хотя и исстрадавшаяся душа и что только этрт огонь совести и держал ее разбитое и, очевидно, изболевшее тело… Движения ее худого, как бы съежившегося тела были болезненны, делались как бы с усилием, словно и руки и ноги при каждом движении давали ей чувствовать боль…
В соседней комнате я с полчаса ожидал ее прихода (она оканчивала урок, после которого распустила детей) и не мог надивиться удивительной перемене, происшедшей с этою женщиной. Очевидно, она перегорела в каком-то сильном, но благотворном огне, который растопил этот жир, это бессмысленное существование и на старости лет пробудил в ней и чистую детскую душу и светлую мысль, так глубоко и, казалось, навсегда зарытые под толстым слоем бессмыслия. "Но что именно сделало ее такою, какой огонь пересоздал это существо?" – думал я, дожидаясь ее прихода, и, когда она, наконец, вошла в комнату, проворно ступая плохо повиновавшимися ногами, я не вытерпел и сказал:
– Да вы ли это, Анна Федоровна! Гляжу на вас и глазам не верю.
– И сама я не верю, друг мой… Уж извини, не буду величать тебя по отчеству, ребятишки приучили меня к простоте-то…
Говоря это, она суетилась, устраивая чай. Она отпирала шкафы, доставала варенье, сходила в соседнюю комнату и тотчас возвратилась, говоря:
– Да как же ты меня знаешь-то? Ведь, чай, не помнишь совсем?..
– Я портрет ваш помню.
– Какой это портрет?
– А масляными красками-то нарисован… Помните, у вас в гостиной…
– Будет, будет! Не говори… Помню все!.. Вместе с домом купили… Не поминай мне этого ничего… Говори о себе… Ведь и тебя-то я почти не знаю… Я знаю, что родня, а в первый раз вижу и ребенком не помню. Говори о себе – а про это оставь: слава богу, что миновало…
– А я именно про это и хотел говорить-то… Я прочел сегодня, что какая-то Калашникова…
– Верочка?.. да! да, умерла, отравилась.
– Так это действительно – та самая, маленькая Верочка?..
– Та самая, та… Ну вот, как же не перемениться-то? Хоть эта история с Верочкой – на десять лет состарит…
– Да, вы очень переменились…
– Ох!.. что я вынесла!
Слезы ручьем полились по ее худому лицу, и она так же быстро, как лились ее слезы (а лились они градом), заговорила:
– Ведь у меня муж зарезался; ведь у меня сын в Сибири, за мошенничество, ведь у меня дочери… (тут она просто захлебнулась). Ведь я вдруг, ничего не зная, ничего не понимая, попала точно под каменный дождь… Вся избита…
Анна Федоровна рыдала; я молчал, видя, что этих слез мне не остановить. Рыдания, почти истерические, продолжались несколько секунд; наконец она немного успокоилась, хотя не переставала плакать…
– Ведь пойми ты, я до этого погрома ничего не знала… Меня шестнадцати лет из купеческой семьи отдали за чиновника замуж, произвели в благородные, и я всю жизнь была точно каменная… Мне, помню, все казалось, с самого первого дня свадьбы, что это только так, что это когда-нибудь кончится… Вот точно так, как, бывало, стоишь у обедни и думаешь только о том – скоро ли кончится. И так я думала лет двадцать, покуда совсем не одурела; дети у меня рождались – и тоже я думала, что это – какие-то не настоящие дети… Я не понимала, что именно кончится, – глупа была, у отца в доме тоже многому не научишься… Что мы знали? Сидели за семью замками и ждали чего-то… Тут, как я в благородную-то семью попала, где ж мне было что разобрать? Двадцать лет жила как сонная… Все считали дурой, да и была-то я дура сущая… Ничего как есть не понимала; только вот, говорю, чуяла, что это кончится, "отойдет", – и отошло… Вдруг ведь это поднялось тогда; ревизии разные… Гляжу, Владимир Кузьмич руки наложил на себя… И поверишь? Только испугалась, а жалости во мне не было… Ужас какой-то на меня напал – больше ничего… Когда его похоронили, вместо слез-то весело мне, да и только: вдруг меня молодость обуяла – а уж мне было тридцать семь лет… хоть танцуй… Ночью боялась и огня не гасила, а днем – то-то веселье… Чувствую, что – грех, знаю, что во всей семье печаль, – а нет… Отстояла я какую-то тяжелую службу – и рада… Заиграла во мне молодость – и право, дай мне волю, у родных бы дочерей женихов стала отбивать… (Уж невесты были!) Уверяю тебя, я теперь чувствовала себя совершенно равной им и чужой… За ними ухаживают, а мне досадно… И непременно бы что-нибудь было такое (мало ли старух за гимназистов выходят да за молоденьких юнкеров) – непременно бы было что-нибудь такое, если бы господь не покарал во мне родительских грехов… В детях эта кара-то господня отозвалась… Как засудили моего родного сына за подделку, тут я узнала, что я – мать, и мать виноватая… (Анна Федоровна опять залилась слезами.) Приду к нему в острог-то, а он меня ругать… "дура, да подлая"… да-а-а!.. "Чему вы меня учили…" (Анна Федоровна плакала горько.) "Сами за сестриными женихами волочаетесь, пример подаете…" Каково это? Правда ведь, все правда… Он тоже из-за какой-то; бесстыдницы впутался в беду-то… Решили его в Сибирь-то – пошла я жить точно простреленная… Осталось на мне проклятие ведь… гнев, его укор… А вслед за сыном две дочери, одна за одной, подобрали что оставалось денег да в актрисы, да обе с любовниками… Да обеих любовники-то бросили… (каждая фраза Анны Федоровны перерывалась всхлипываниями, и говорила она едва слышно), да обе мне ругательные письма, да позор, да срам… да жаль-то, жаль-то как!.. Вот в каком огне-то, милый друг, горела я десять лет без умолку, вот как узналось, что лучше быть прачкой, лучше быть сапожником, лучше нищим быть… Вот, друг ты мой, как пришло нам на ум повиниться и прощения попросить… Вот как и я-то за ум взялась… Учиться ведь пришлось сначала, с азбуки… И теперь вот распущу детей-то да сама урок-то по Ушинскому твержу, покуда сил хватает… Кругом виновата, друг мой, кругом… Вот когда опомнилась старая дура (Анна Федоровна улыбнулась сквозь, слезы,)… Да хоть чужим-то детям скажу правду, хоть чужих-то ребятишек не загублю, как своих родных, как меня самое загубили…
Анна Федоровна была сильно взволнована этим рассказом. Расспрашивать о грустной истории Верочки мне было трудно, надо было дать успокоиться ей, утихнуть… Я спросил поэтому о доме, о других родственниках, узнал, что большинство из них кончило нехорошо, что, кроме Верочки, были и другие такие же горькие случаи в нашей родне, что от всего состояния всех семей уцелел только дом, на доходы с которого и выстроен флигель. Узнал я также из этих расспросов, что не все худо и скверно в новейшей истории остатков этой громадной когда-то семьи, – что есть и живое и хорошее. Об этом живом и хорошем я узнал, впрочем, только тогда, когда, наконец-таки, решился заговорить о Верочке…
– Как же это с Верочкой-то случилось? – произнес я в минуту раздумья, наставшего в разговоре.
– Да вот и с Верочкой – тоже, тоже – наша родительская вина…
– Что вы уж так на родителей нападаете? – произнес я: – ведь и они не весело кончили.
– Ну, друг любезный, мне, старухе, некогда разыскивать виноватого. Я знаю, что он есть, знаю, что и сама виновата… Вот ты о Верочке заговорил: подумай хорошенько: авось, виноватый-то и очень близко найдется… Ты ведь знаешь, что у старика (так она называла вышеупомянутого главу), кроме своей воли, не было закона другого никакого… Особливо женить или замуж выдавать… Как сам считал хорошим, так и делал. Таким-то вот манером отдал замуж он своих дочерей; первых трех отдавал все за дельцов, за служак, за людей скучных, тяжелых, ничего, кроме бумаг, не знавших и умевших только наживать деньгу… Так он находил нужным, так и делал… Четвертую, самую младшую дочь ожидала та же участь, то есть лет шестнадцати выйти за какой-нибудь гроб повапленный. Случилось, однако, не так: старику полюбился простой молодой малый, ничего не умевший делать, кроме как петь цыганские песни и участвовать в попойках… Это – из той кучи бесчисленной помещичьей родни, которую потом только война севастопольская облагообразила сколько-нибудь, нарядив в ополченский мундир… Ну, невозможно, невозможно сказать, зачем родились такие люди, зачем жили, какое право их было жить… не знаю!.. Да это и не люди были, право не люди… Мне все представляется, что это – какие-то человеческие животные… Вот это-то – то есть что малый был животное, просто животное, и больше ничего – и понравилось старику… (Он иной раз шутил.) Ему было весело свести этих молодых животных, молодого малого и свою молодую дочь… для собственного удовольствия… Что? тебе кажется это странным? Не веришь, как это такие постные люди обнаруживали такие непостные желания?.. Да у них и не было никаких желаний, кроме непостных, – это было то, из-за чего они лгали, разбойничали и притворялись… Старик, всю жизнь заковывавший себя в служебные обязанности, устроив (кажется, дня в три либо в неделю свадьбу сыграли) этот брак, в самом-то деле давал волю себе, сам распутничал, и, как видишь, очень неопрятно… Разумеется, насладившись этим скоромным зрелищем, старик думал взять малого в ежовые рукавицы, пристроить к месту и "сделать человека", каких он уж сделал много. Он в эту пору уж верил в свое всемогущество, в свою силу и уменье делать людей и вообще в свою неограниченную власть – безгранично… Вышло-то не так. Молодые животные, раз отведав полной свободы, не поддались потом ежовым рукавицам. Малый, которого стали преследовать, загонять в семейное стойло, отбился от рук, в короткое время спился и умер… Верочка родилась после его смерти, спустя два месяца; вдову, ее мать, хотели опять воротить в родное гнездо, чтобы теперь уж вновь "устроить" в каком-нибудь прочном гробе, так как думали: "будет, отведала, теперь надо и притихнуть"; но это не удалось, и, почти бросив дочь, как бремя, она в очень скором времени вышла по собственному желанию за молодого купчика. Это был несчастнейший брак, и она недолго прожила. Верочка таким манером осталась сиротой и жила и росла почти без призора, среди нашей громадной семьи… У ней не было отца, не было матери, она рано узнала сиротство, рано поняла, что она – чужая в этой семье, но что без семьи ей жить нельзя… Вот теперь и считай, что дали мы этому бедному ребенку… Уж к непостному-то в ней было посеяно желание безграничное: вспомни свадьбу… Это желание непостного-то в ней уж без всякой воли ее было, и если бы она росла с первого дня рождения в монастыре или в лесу дремучем, и то сказалось бы (потом оно и сказалось)… Так было это ужасно сделано, что Верочка не могла уже считать, что в жизни есть что-нибудь выше этого… Это – раз, что мы ей дали. Потом припомни, что такое было в наших семьях?.. Я уже говорила, что мне казалось, будто этокончится, а Верочке и казаться уж не могло: она прямо должна была думать, что это – настоящее, то есть что всякая неправда и есть правда. Ведь у нас во всем была ложь… Отца мы не любили, а притворялись, что любим, и уважаем, и благоговеем; мужей мы не любили, а жили и повиновались потому, что они нам покупают салопы и платья, кормят и дарят, а то – потому что и бьют. Мужья наши притворялись, что служат, приносят пользу, а в сущности хлопотали только о том, как бы побольше схватить… Зачем? Чтобы пожирней, поскоромней прожить сегодня, и завтра, и до конца жизни. Бога боялись, как камня, который может свалиться с крыши и убить; боялись тьмы кромешной и иногда трепетали (трусости, самой безграничной, в нашей среде было много места), но видя, что камень этот долго нас не разит, успокаивались, а иной раз прямо думали обмануть и бога, отслужив молебен, пожертвовав ризы… Так вот, друг ты мой, в каком омуте росло это дитя… Жить, она думала, это… как бы тебе сказать?.. Это именно значит… глотать, что ли (Анна Федоровна очень затруднялась определением, искала слов – и не могла найти) … то есть чтобы телом, даже желудком чувствовать веселье. Вот этакое… это вот и считалось самым настоящим, из-за чего надо жить… Это вот был самый корень Верочкиной души… Это – мы ведь? Или кто другой?
Я промолчал.
– А потом ложь… Любовь – это неправда, а подделка под любовь – это правда… Труд – это так только, чтоб не заметили какой-нибудь гадости, больше ничего; вся задача – увильнуть от труда, да и жизнь-то человеческая – всех перехитрить, надуть, провести и дорваться… Не умею я говорить-то, а то бы я тебе не так все объяснила… Ну вот тебе пример скажу: сесть, например, к подоконнику и барабанить по нем часа четыре, будто играешь на фортепьяно, – это очень приятно; посмотри на нее – артистка; а за настоящее фортепьяно сесть – слезы, мученье; все этому, настоящему, сопротивляется в ней… Надо работать – это выше сил ее… Это – если хочешь – лень, но самая глубочайшая, то есть природная, непобедимая… Полюбить человека и жить с ним, разделяя его труды и заботы, это – бремя, скука, тоска, мучение; легче лечь в гроб, это просто, это – правда; а вот выскочить за старика, притворяться любящей, наивной, в то же время – обманывать его на каждом шагу, вести три интриги зараз: это и интересно, и весело, и хлопотно, словом, это не просто, не правда, это-то вот по натуре ей, это-то ей и нужно, она тут пополнеет, повеселеет. Словом, из этой несчастной девочки мы выработали существо на явную гибель. Детей своих учили мы кое-как (за деньги можно было, не учась ничему, получать дипломы и что угодно), а Верочка, как сирота, которая жила то тут, то там, еще меньше знала что-нибудь. Стало быть, только действительность, только бесплодная путаница нашей жизни, пропитанное ложью влачение дней и годов, только это и учило ее. А, как сирота, она пристально присматривалась ко всему, и вот вышел человек, который может жить только из жажды дорваться, и притом только в такой обстановке, где все – ложь, где все – неправда, выдумка… Ну, и нельзя ей было жить, потому что на эту бедную, неповинную голову гроза-то грянула уж совсем нежданно-негаданно. У нее, бедняжки, и жиру-то не было еще, как у нашего брата, про запас. Ее, друг ты мой, ведь прямо сожгло огнем…
Анна Федоровна вздохнула и с грустью прибавила:
– Да – народили мы уродов!..
– Как вы думаете, Анна Федоровна, надолго хватит этих уродов-то?..
– Не знаю, голубчик… Кажется, что надолго, а впрочем, не знаю… В России ведь до сих пор чудеса творятся воочию… Ведь и в нашей семье-то – ведь и в этом омуте – какие сокровища вдруг оказались! Не всё – несчастные Верочки… Не знаю, как это случилось, а есть… Кажется, и семья такая же гнусная, еще гнусней наших, кругом гнилушки, сор, пыль – смотришь: выходит такое диво, точно совсем новый человек, совсем новый, прямой, умный, здоровый, честный – ну, одним словом, новый как есть, то есть для нас-то, для гнилушек-то новый… Вот я про Верочку-то говорила, что гроза-то на нее нагрянула… Надо тебе сказать, что не в одной нашей только семье Верочки вырастали – нет: во всех семьях, сколько я их ни знала на своем веку, – как грянула гроза-то, везде нашлись и Верочки, совсем хорошие, совсем новые… И много таких-то… Опять скажу тебе: как они выходили из этого содома невредимыми – понять не могу, только выходили, и много их есть на Руси… Прямо из семей, в которых целыми поколениями не было ни о чем думушки, кроме как о кармане, прямо из этаких-то семей стали выходить люди вполне самоотверженные и ничуть, ни капельки о себе не думающие… Из этих омутов и болот появлялись молодые ребятки, девушки и юноши и – точно кто научил их – вдруг всё отлично понимали, принимались за работу… Да вот у нас, рядом с нами, жила одна такая семья… Сколько они на своем веку замяли, перегубили народу, что это были за тираны – пересказать неврзмржнр… А из их семьи (очень богатые люди были) вот две дочери вышли – не надивлюсь, что за красота… Пробудешь у нас, увидишь: одна, например, приезжает иной раз зимой в полушубке, в мужицких сапогах, силища, здоровье – живет акушеркой в деревне… Поговори-ка с ней, поузнаешь, как она занята делом, как она много знает правды, которой никто не знает, и не пишут о ней… Ни одного словечка у нее нет о себе – всё о чужом горе, чужой беде… Есть чудеса, есть, друг мой любезный…
Анна Федоровна помолчала.
– Так вот, о Верочке-то… Как грянул это гром-то, стало это все валиться, падать, резаться… А с другой стороны (что чудом-то уцелело) – стало учиться, работать, позабыло и спесь дворянскую и всякие претензии… в эту-то пору Верочке пришлось очень туго. Еще в то время не успел родиться тот веселый народ, какого теперь развелось видимо-невидимо… Посмотри-ка, теперь у нас три театра, поют французские пьесы… А пьянство-то! Слава богу, теперь есть на что попить-погулять… Жалованья какие-то явились необыкновенные, прежде и во сне таких не снилось… Деньги появились, бог их знает откуда, у людей, которым бы, кажется, и получать-то их не за что… Теперь, говорю, уже есть этот веселый и жирный омут, уж завелся он, – а тогда его не было; тогда думали, что пришлось погибать… Тогда Верочки не знали еще, что будут красные дни. Прямо приходилось идти в прачки, прямо приходилось зарабатывать тяжким трудом хлеб насущный… И иные – я уже говорила тебе – прямо и взялись за дело, точно готовились к этому, вот и Верочка пробовала было делом-то заняться, пробовала пристать к подругам, взялась за ум… Ходила к ним, вместе читали, готовились, кто в учительницы, кто в акушерки, кто в телеграфистки… Ходила и она, но ничего не вышло… Нельзя и выйти-то было ничему!.. Глупо кажется ей, скучно!.. Не верит ничему. Какая-нибудь из ее приятельниц скажет: "выучусь акушерству, буду жить в деревне, всем помогать, работать…" – Не верит… думает, что просто доктор, который лекции читает, красив – вот и бегает она, а вовсе не для ученья! Что прикажешь делать!.. Пробовала в школе заниматься – и это кажется ей притворством… Не понимает, не может понять, что оборванным, нищим ребятишкам нужна наука, что и они – люди… Просто не понимает этого!.. Учит она их, но знает, что это она делает только из приличия (все тогда бросились учить) и что не в этом главное… Да и из мужчин много и сию минуту есть таких, которые тоже думают, что главное не в этом, а притворяются… Теперь есть такие и тогда были… Вот Верочка и сошлась с таким; он уж был женат на ее подруге (хорошая, прямая женщина), и обоим им было по вкусу это… То есть оба они знали, что все это там, "делать добро" и прочее и прочее, что все это – только так… а главное-то вовсе не то, и что без этого главного-то, то есть без обмана-то, – скука, тоска, что без этого "настоящего-то" – то есть без их отношений, основанных, как видишь, на обмане, – и жизнь не в жизнь, и давно бы пора разогнать всех этих оборванных мальчишек и прекратить всякие акушерства… Ну можешь представить, что была за связь… Припомни о том, что я тебе сказала, о том, что именно наши старые семьи приучали считать правдой, из-за которой стоит жить, из-за которой живут люди?.. Из этих-то людей потом и образовался тот веселый омут, который теперь вот купается в деньгах и поет французские песни… И Верочка вкусила этого веселья в самом начале… Пошло для нее, друг мой милый, не год и не два, веселье, спрятанное и темное, прикрытое плутнями, хитростями, обманами… Идет к "знакомым", а пробудет на свидании… в гостиницах, оказалось, бывала… Едет в Москву к родственнице – оказывается, была не в Москве, а в Киеве, и родила… То дрожит, как осиновый лист, то весела, как ребенок… Оказывается, хотела провести кого-нибудь – и боялась; а провела, все устроила как следует – и весела, довольна… и ведь не из корысти, не от избытка сил, которым некуда деться, – нет, сил уже не было, цены средствам она не знала… А просто потому проделывала она все это, что тут, в веселых омутах, ей попадалось все, в чем ее воспитали, чем могла она жить, а там, где работали, где страдали, где хотели жертвовать собой, ей было не по себе, скучно. Просто даже невозможно было дышать – так было скучно там… Все эти плутни, все это распутство я только потом узнала… До того ли мне было… Но и тогда я подозревала, что с Верочкой что-то творится нехорошее… И по лицу видно было, что она не чиста… Так она путалась в этом омуте не год и не два, а пожалуй, что и целых пять лет подряд… И вдруг – опомнилась!.. То есть вдруг ее что-то как будто осенило… Ослабло ли ее здоровье, надоела ли ей вся гадость эта – только вдруг она заскучала, задумалась и иной раз ревет ревмя… А иной зла, как бес, и рвет и мечет на всех. В эту пору она часто приходила ко мне, плакала, жаловалась на судьбу. Сделалась скромна, аккуратна – я тогда жила в большой бедности, нанимала комнату на чердаке – ухаживает, хлопочет, помогает… И вот раз объявила: "Я, говорит, выхожу замуж…" – "За кого?" – "За такого-то…"
– За столяра? – перебил я, вспомнив газетное известие.
– Да, за столяра… С давних пор у нас славилась столярная мастерская Обручева. "В прежнее время" Обручев умел нажить деньги, сделаться тузом… Но ведь ты уж знаешь, как "в прежнее время" деньги наживали… Отстать от всех и быть богатым было невозможно; надо было идти вместе со всеми; поэтому как наживал деньги чиновник, так и купец и мастеровой… То есть всё те же делались стачки и обманы на поставках, всё так же "по знакомству" с квартальным драли мастеровых в части и т. д. Был в то время один хоровод, отстать от него значило сгинуть, а чтобы не сгинуть, надо было плясать вместе с ним… Вот в числе этих счастливцев того времени был и столяр Обручев; он, простой мужик, умел понять, в чем дело, и добился своего, с настоящей мужицкой неустрашимостью… то есть если бы надо было убить человека, который мешал, он убил бы, а дело бы замазал – говорю примерно. Семья его, стало быть, была такая же, как и все, то есть так же, как и везде, царили в ней деспотизм и ложь… Когда грянула гроза, то захватила она, разумеется, и Обручева… Открылись все эти увечья, фальшивые поставки, получения денег за то, чего не делалось, не поставлялось, и т. д. Пошли дела в палатах, истории у мировых судей, ну словом – все то же самое, что и со всем хороводом… Пошло вместе с этим и в семье, то есть в совести-то семейной, крушение и разорение… "Что я с тобой, с чортом, добра видела?" – говорила старуха-жена… "Ты меня зарезала!" – вопил муж… Осторожные старшие сыновья, выученные в гимназии состоятельным отцом, уж настолько понимали новые времена, что поторопились разбежаться… Отправились учиться и занялись заботою об устройстве своей карьеры по-новому, а отец, разоренный и в кармане и в душе, остался один отсиживать сроки в острогах по приговорам судей, пьянствовать, драться с мастеровыми и опять попадать в суд… Верочкин жених, самый младший из сыновей Обручева, один только и оставался в семье, на него-то, молоденького мальчика, и обрушилась в самом нецеремонном виде вся грязная правда его семьи. С ранней юности видел он отвратительные семейные ссоры, проявления дикого деспотизма, от которого его отца не могли отучить ни штрафы, ни мировые судьи, видел и слышал, как все это было осмеяно работниками, которых теперь уже безнаказанно нельзя было колотить чем ни попало, и вышел из него удивительный человек… У него не могло быть симпатии ни к отцу, ни к матери – он видел их в таком отвратительном виде; хохот простого рабочего человека над этими мучающимися стариками открыл ему глаза на то, что было в них дурно, и заставил понять и положение рабочего человека, над которым так долго орудовал отец… Вышло поэтому из малого что-то… да я, право, и не видывала никогда ничего такого… Отец был силач и зверь, этот мальчик – одни нервы и одна доброта, одна жалость, одно сознание виновности… У отца была жадность захватить, притянуть к себе, у этого – полное равнодушие к себе… Словом, он просто ничего не понимал и не могпонимать ничего такого, что не было бы самоотвержение… Отец брал – этот мог только отдавать. Отец думал, где бы взять подряд; сын только и ждал, чтобы их не было; отец не доплачивал рабочим; сын отдавал все, что у него было… Ослабевший старик Обручев, постоянно полупьяный, осмеянный и опозоренный, разубежденный так горько в своей правоте и своей задаче жизни, потерял сметку, и волю, и все… Остатками мастерской заведывал сын, жених Верочки… Если бы не старинные, отцовские знакомства, мастерской этой давно бы не было; сын вовсе не заботился о барышах, потому что это было не в его натуре… Вот с этим-то парнем, который ровно ничего этого не понимал, и познакомилась Верочка… Он был моложе ее годом или двумя. Образования у него не было никакого… (Надо сказать, – как бы в скобках прибавила Анна Федоровна, – вот что: одевался он в сюртук; это надо знать, чтобы не думать, что Верочка могла пойти за лапотника; кроме того, у него был дом и лошадь, остаток прежнего величия…) Образования у него не было; но было больше того, что дает самая обширная начитанность, – натура, не желавшая ничего, кроме жертвы собой… Прошлого у него не было никакого: он точно родился без родителей; ничего в прошлом, какое он пережил, глядя на разгром семьи, у него путного не было; было одно такое, от чего хотелось убежать; он весь смотрел вперед, весь желал отдаться другому, чем тому, что было у него за плечами… Но где это другое, где его разыскать, как его представить, что делать с собой – он не знал этого… Читал он стихи, сам писал стихотворения, слушал, что скажет книжный лавочник на толкучке, – вот какие были у него средства понять свое положение и употребить на дело свою удивительную натуру… Вот с таким-то добрым уродом (у нас теперь и злые и добрые – всё уроды)… в клубе, кажется в клубной библиотеке, встретились… Это было именно в то время, когда Верочка впала в тоску; тут она стала читать… Разговорились о чем-то… о какой-то книге и, разумеется, о том, что делать… Верочка, сравнительно с Обручевым, была знаток дела… Она наслышалась об том, что нужно делать, и от своих подруг и в школе, да и вообще, как наблюдательный человек, она знала, что надо делать теперь, чтоб быть не хуже других, только не верила, только не могла делать-то – вот ее беда! А поговорить, растолковать – сколько угодно. Вот тут она ему – «я бы на вашем месте и то – и то…» И книги ему указала, какие читать, словом, осветила малому тьму, в которую он глядел, все его мысли привела в порядок, распутала все, чего тот не понимал… Малый влюбился в нее, отдался ей всем сердцем… Откуда что взялось, проснулась отцовская энергия, прямота…