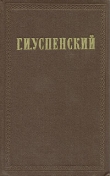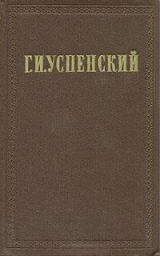
Текст книги "Новые времена, новые заботы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
И отец Миши и мать одинаково сознавали, в те минуты, разумеется, когда Федюшка изумлял их появлением во лбу звезды, что он тут – лишний, что он мешает… Но так как они были люди совестливые и гуманные, то и не прогнали его, а продолжали пускать в хоромы, только деликатно давая заметить, что он, Федюшка, не бог знает что такое… "Не сбивай, пожалуйста… Ты, Федя, постоянно мешаешь… Ты видишь, Миша учится, а ты стучишь… Иди на улицу стучать…" – и т. д. Понемножку, по капельке, Федюшке стали доказывать совсем другое: то есть что он – вовсе не пример, и что он – мужик и неуч, и что настоящее место его вовсе не тут… Все это, разумеется, в высшей степени деликатно…
Но что поделаешь с раз начавшей разгораться во лбу звездой! Правда, и лоб-то этот был маленький, низенький, весь заросший по краям и сверху белыми шершавыми, как солома, волосами, и звезда-то в нем разгоралась редко, светила робко, робко… А все-таки, раз начав светить, стала светить, несмотря ни на что: ни на то, что горела она в лачуге, разрушавшейся все более и более, что перед ней была непроглядная тьма будущего и что ее застилали, кроме того, холодные тучи в виде холодного господского равнодушия…
И случилось с заморенным, обреченным на явную гибель существом нечто весьма странное, хотя случающееся на Руси именно в настоящее время с великим множеством простого народа… то есть он прямо от складов принялся за чтение книг, отвечающих самым настоятельным и насущным требованиям мысли… У господ не было ничего, кроме книг, которыми интересовалась тогда вся грамотная Россия. На просьбы Федюшки дать ему "книжечки почитать" барин и барыня обыкновенно говорили: "какие же тебе книжки? право, ничего нет такого!.." И давали ему первую попавшуюся под руку книгу, будь это – иностранный роман, политическая экономия или последняя книжка журнала. "На вот, – прибавляли они: – ведь не поймешь ничего…" – "Мне так!" – говорил Федя, которому действительно книжка была нужна просто так… так, как звезда не меркла во лбу… Но какую бы книгу тогдашнего времени (а господа были "следящие") они ему ни сунули, достаточно вспомнить самый тон времени, чтобы понять, что всякая тогдашняя книжка, независимо от формы, в сущности своей отвечала именно Фединому положению, говорила, хотя и робко и нежно, о его бедовом житье-бытье…
И вот к таким-то книгам Федюшка перешел прямо от складов, минуя Ерусланов Лазаревичей, псалтырь, жития святых, минуя сонники и письмовники и т. д. и т. д. В настоящее время, когда псалтырь и часослов уж не составляют главнейших оснований грамоты, грамотному простому человеку приходится прямо переходить к газете, к "Ведомости", так как существующая литература, ни лубочная, ни так называемая изящная, одинаково не могут служить пособием для дальнейшего, после новой школы, развития, а главное, не могут попадать новому грамотному в руки: лубочная литература – по своей глупости, изящная – по дороговизне и, пожалуй, некоторой ненужности: все в этой литературе посвящено чуждым интересам, иному миру, чем мир грамотного пахаря. Единственными пособниками являются газета и трактир, дающий право даром читать эту газету всякому, кто пришел выпить пару чаю. Пересмотрите дешевые газеты, попадающие в дешевые сельские трактиры, да и не одни дешевые, а дорогие и длинные современные газеты, припомните их ревностное стремление "угодить" нешироким вкусам почтеннейшей публики; припомните их вилянье, их вообще неправдивое, неискреннее, не дельное направление – и вы не без сожаления подумаете, что это – очень и очень плохая школа для начинающего быть грамотным народа.
Но вернемся к Федюшке. Что мог понимать он в тех книгах, которые в то время писались и которые он брал от господ? Вопрос этот весьма любопытен ввиду того, что книги того времени действительно имели влияние на тугой, неразвитой, малоспособный и забитый ум Федюшки, тем еще более любопытен, что, развиваясь на этих книгах, Федюшка ровно-таки ничего в них не понимал. Он "разбирал слова", как Петрушка, разбирал их целыми десятками, сотнями страниц, не находя между ними ни смысла, ни связи, а развивался, и именно в том самом направлении, каким книги были проникнуты. Тайна такого непостижимого умения развиваться книгой, ничего в ней не понимая, заключается в том, что развитие тут идет не помощью ума или понимания, а исключительно помощью сердца. Сердце автора подает весть сердцу не понимающего "слова" чтеца. Кто и когда из самых завзятых знатоков писания понимал не только доподлинно, а так, хоть из пятого в десятое, что такое читается в церкви, какая начетчица понимает, что такое написано в псалтыри, который она зудит по годам? Что такое написано в "Апостоле"? Никто никогда, ни один самый завзятый начетчик и грамотей крестьянского звания не мог и не может рассказать (разве что вызудивши дело дотла), о чем таком ему читают, но всякий знает, в чем дело, потому что сердцем понимает сердце автора, будь то царь Давид, апостол, сам Христос… Скрытое в глубине и массе слов чувство, руководившее автором книги, только оно и улавливается слушателями или чтецом, и, уловя его, чтец или слушатель продолжают только чувствовать в данном сердцу направлении, думая о себе. Попробуйте спросить вот этого старого старика, всхлипывающего на печке от чтения псалтыри, такого чтения, в котором никто ничего разобрать не может, потому что тут нет ни остановок, ни связи, тут разделяется пополам одно слово и произносится так, что один конец прилипает к предшествовавшему слову, а другой к последующему, – спросите этого плачущего старика: что такое растрогало его в этих, как разваленный плетень, натыканных его внуком словах? – То, что он вам ответит, будет непременно годиться в горбуновский рассказ; непременно выйдет что-нибудь вроде: "наслежу, говорит, следов (плачет), а ты… гов… (плачет) говорит, по ним и ходи… (рыдает)". Словом, выйдет непременно какой-нибудь смешной вздор, сразу обнаруживающий, что рыдающий старик глуп, как пробка… А между тем он рыдает теми слезами, какими рыдал и царь… Сердце его так же мучается своими прегрешениями, как мучилось также своими прегрешениями и сердце пророка… Оба одинаково страдают, каждый о своем… Старику передалось только направление книги; он только почуял, что мучился человек, который писал, и простое сердце отвечало слезами…
Таким порядком читают в трактирах и газеты, не понимая ни этой "фанатизмы", не зная, что Царьград, Стамбул и Константинополь – одно и то же, не понимая, что такое пишется в романе, переведенном с французского, что такое поется в театре Буфф и в Ливадии; словом, не понимая почти никаких слов газет, еле грамотный чтец отлично-хорошо чует общее шаромыжнически-практическое и плутовски-улыбающееся сердце газеты и отвечает ему смелостью, с которою шаромыжничество возрастает в народе в значительной степени. Точно так влияли непонятные книги и на Федюшку. Рассказать прочитанное и передать своими словами он не мог, выходил всякий вздор, но сердце книги он чуял, понимал, а сердце в то время было у книги чистое и доброе… Оно было открыто именно только Федюшкину горю.
В плохо кормленном, плохо развитом, малосильном, малоспособном этом человеке, выросшем в холодной и неприветливой обстановке, – человеке, отчаявшемся в своем праве на жизнь, – зашевелилось в сердце от этих непонятных страниц непонятных книг, что-то похожее на жалость… Жалко как-то ему стало делаться все сильней с каждым днем… И мать жалко, и себя жалко, и жаль, что господа его бросят непременно, и жаль, что на него с матерью никто и глазом не взглянет… О боге, о его воле в делах человеческих он не знал; матери было недосуг, а господа тоже мало бога помнили, как вообще все господа… Не имея поэтому возможности объяснить себе своего положения указаниями провидения, Федюшка – теперь уж Федор (ему уж было четырнадцать лет, когда началось его жалостное состояние) – только убивался. Не понимая, отчего и что, он жалел, скучал и сокрушался сердцем… Нежное что-то было пробуждено в этом засыпанном снегом горя сердце, нежное, как подснежный цветок… Эта нежность, ласковость обнаружилась по отъезде господ на матери. Уж как он старался ей помогать: и чемоданы таскал с пристани, ходил по дворам, собирал старые бутылки… Благодаря непонятным книгам, пробудившим жалость и сожаление к незаслуженным страданиям, только эта жалость и оживляла его, только она и росла в нем… Придет время – перестанут на нас рычать и сердиться соседи, перестанут бранить мать, станет он учиться и в благодарность за то, что никто не сердится на них, сам никогда не будет сердиться. "Все будут ласковы друг к другу, за копейку, за бутылку драться не будет никто… Стоит только всем быть добрым…" Так у него ныло в сердце, несмотря на то, что по отъезде господ у него даже и книг не было. Помогая матери, он и ее-то вывел из безнадежно-голодного состояния, и она стала скучать, и у нее стало мелькать: "за что это?", и она, как Федюшка, чувствовала, что это все неправильно и, должно быть, когда-нибудь переменится… "Вот придет отец!" Эта мысль после отъезда господ стала единственною мыслью их обоих; этот приход был бы, уверили себя они, началом освобождения; отец поможет им выйти из-под гнета всеобщего презрения, а они, и в особенности он, Федор, покажет тогда, как он добр, как он всякому рад. Тогда все узнают, что были к нему жестоки, несправедливы, и, раскаявшись, сделаются добры и мягки. Будет тогда всем и легко и весело. "Вот только пусть придет отец!"
С годами мысль об отце, мысль довольно фантастическая, ни на чем не основанная, стала делаться и для сына и для матери чем-то почти реальным. Потребность подняться из бездны, заставить людей оглянуться на них, заставить их раскаяться и понять, что "мы с мамкой" ни в чем не виноваты, делалась все настоятельнее и сильнее. Только приход отца, этого, по всей вероятности, сильного, справедливого человека, которого все будут уважать сразу, с первого дня, – только его приход и помощь могли помочь им выйти из беззащитного положения и добиться от людей того, чтобы они раскаялись, смягчились, сделались добрей… Бывали дни, когда и мать и сын, оба вместе, и именно сегодня, ждали прихода избавителя… "Что-то думается мне, как бы батька твой не пришел? Что-то уж мне стало очень скучно… Право, поди, не пришел бы… Пора б прийти-то". Федюшке самому было тоже так скучно, что он ни капельки не сомневался в справедливости предположений матери и твердо был уверен, что отец придет непременно, того в гляди.
Было Федюшке шестнадцать лет, и вдруг сбылись предчувствия и надежды. Отец в самом деле пришел-таки, и пришел в ту самую минуту, когда им стало скучно, так скучно…
Пришел – и не прошло двух дней, как при всем честном народе, перед целым сходом, на площади между волостным правлением и кабаком, несчастный, измученный мальчик был жестоко выпорот по желанию своего долгожданного родителя… Два ведра вина, которые родитель не поскупился поставить миру, сделали свое дело: Федюшку выпороли на славу; дюжие руки, укрепленные сивухой, не жалели худых Федюшкиных ребер и засыпали ему в худые бока без счету… "Хорошенько! – вопияла пьяная орда: – заслуживай, ребята, Силанью Ивановичу!.."
Пусть читатель сам представит себе, что должно было произойти в душе Феди от такого неожиданного оборота дела, покуда я скажу несколько слов в объяснение того, как могло случиться такое несказанно-жестокое дело.
Воротившийся отец оказался вымуштрованным, вышколенным, хорошо откормленным бульдогом, едва ли уж умевшим понимать какие-нибудь профессии, кроме профессии вцепляться своими крепкими зубами в чье-нибудь горло. Это была одна из тех жестоких, тупых тварей, которые невесть за что готовы съесть родного отца… Верный и жестокий как пес, он был золотым человеком там, где нужно было караулить, ловить, не пускать, вообще исполнятькакой угодно бесчеловечный приказ. Приказ, и именно трудный, жестокий, как нельзя лучше приходился по его жестокой, сухой, бульдожьей натуре. Эти собачьи качества, эта собачья выдержка, неумолимость и верность сделали ему хорошую карьеру на службе у богатых господ, которые не нахваливались им в то время, когда «свой брат», простой человек, загрызаемый им без всякой пощады, смотрел на него как на бешеную собаку. Несколько раз его собирались убить, стреляли в него из ружья, когда он караулил у одного богатого помещика лес: под его хищным взглядом нельзя было унести ни одного сучка, сорвать ягоды – все видел, всех хватал, связывал, представлял куда следует и разорял иной раз дотла целые семьи крестьянские из-за этого сучка, из-за этой ягоды. Сам он был безукоризненно честен, всякий рубль, нажитый им, нажит за верную, беспощадную службу – себя он на этой службе «не жалел», бесстрашно лез в огонь и в воду, если только было ему велено. Он и домой-то не шел так долго, потому что считал бесчестным оставить так,без призору, то или другое врученное ему дело. Всякую службу он дослуживал до конца, до последней точки той цели, с которой его брали на службу.
Вот такой-то железный и прямой, как железная палка, человек, устав служить чужим людям, пришел домой. Не было в нем нежности никогда, а поведение его жены, сделавшееся ему ясным с первого дня прихода, еще более окаменило его каменное сердце. Она, по его мнению, не должна была бесчестить его распутством, как он не бесчестил ее. Она была бедна – да ведь и он нищим вышел из полка; однако он прожил честно, а она опозорила его на весь свет. Он всю жизнь бился для того, чтобы добыть им же, – отчего же не билась она? Живут же люди без распутства.
Начались с первой минуты свидания жестокие, зверские сцены. Разозленный и обиженный зверь вгрызался в пропащую женщину без всякого милосердия… Он и мстил этим и одновременно хотел поднять свою репутацию, сразу поставить себя среди земляков на хорошую ногу. Как ни покажется это странным, а было действительно так: солдат доказывал, что он – не кто-нибудь, а человек, знающий порядок, знающий, что значит жить честно, благородно. В одну из таких семейных драк Федюшка, изумленный и ошеломленный неожиданным появлением такого зверя, не помня себя, вцепился ему в нафабренные бакенбарды – и вот бульдог отомстил ему. Два ведра вина, как уже сказано, сделали дело. Мир выпил их и выпорол, на славу выпорол несчастного Федюшку… Солдат требовал беспощадного дранья – и мир, исполняя это требование, понимал, что этой жестокостию, обрушившеюся на жену и на сына, солдат доказывает собственное свое превосходство над их грязной и позорной жизнью и поведением, доказывает, что он честен, порядочен и почтенен и что этим уж оченно высоким пониманием своей чести он даже и семью свою хочет оградить от всякой тени позора. Решительно не нахожу слов, которые бы могли с достаточною ясностью представить читателю то, что испытал Федор от этих вдруг постигнувших его жестоких, бесчеловечных неожиданностей. Он весь был раздавлен ими, сломан, скомкан в комок. Ничего не чувствуя, не понимая, он весь как бы задохнулся и окаменел…
Через час после ужасной сцены у волостного правления Федор, не зная как, очутился на одной из барок, стоявших на реке, и, трясясь всем телом, на все расспросы барочников слабым, до смерти испуганным шопотом мог произнести только: "бо-юсь!.. бо-юсь!.." К нему нельзя было в это время прикоснуться пальцем: немедленно шопот превращался в отчаянный крик. "Боюсь!" – взвизгивал он, бросаясь в сторону и расшибая голову о дрова, о что попало, точно до него дотрагивались не пальцем, а каленым железом. Как он ухитрился спрятаться на барке, я не знаю: только барочники, не зная о том, что он скрывается у них, увезли его с собою, направляясь к Нижнему. Испуганный и трепещущий, два дня без пищи просидел он в самом глухом, неприметном углу барки, покуда случайно не открыли его там. Поругав и покормив, барочники оставили мальчишку, решив: "пущай!", и не обращали уж больше на него никакого внимания. Истерический ужас, в котором мальчик очутился на барке, начал понемногу проходить, заменяясь совершенно определенным испугом перед всеми и перед всем. Все для него было страшно жестоко. Люди, весь белый свет испугали его – неизлечимо, на веки веков. Как мог он понять и объяснить себе все, что с ним случилось с первых дней детства?.. Он – комар, которого, не задумываясь и не беспокоясь, убивает всякий, кому он мешает! Но чем, кому он мешал? Он ничего не мог понять и знал одно – что неведомо почему его все хотят уничтожить, раздавить, стереть с лица земли… Нет спора, что жизнь может напугать всякого, что всякий может иной раз почувствовать ужас своего существования на белом свете, но так испугаться белого света, как испугался его Федор, едва ли приходится или приходилось кому-нибудь другому. В нем навеки запечатлелся страх, испуг и уверенность, что ни от кого ничего он не имеет ни права, ни возможности ждать, кроме жестокости непонятной и необъяснимой.
– Что ты? Куда ты? Ай ты угорел? – окликнул Федора один барочник в то время, когда подошли уже к нижегородской пристани и ночевали там.
– Утоплюсь! – отвечал Федор.
– Ребята! глянь-ко, что малый-то вздумал!..
Несколько человек проснулось и обступило Федюшку.
– Это – что ж ты, паршивец, делаешь? а? Это ты за нашу хлеб-соль-то нас хочешь подвести под сикурс? ах ты, дурья твоя порода! – загалдели вокруг него барочники.
– Захотел топиться, шут тебя возьми, – пошел топись!
– Да не пачкай компании, к ответу не подводи.
– Мало тебе места-то, корявой дубине?
– Прогнать его, шельму, прочь!
– Пшол, пшол!
– Обыскивать его, анафему!
Стали обыскивать; оказалось, что Федор для лучшего выполнения задуманной операции наклал за пазуху под рубашку множество камней, кирпичей и туго подвязал под ними пояс. Ему казалось, что так он скорей пойдет ко дну.
Всеобщий гнев заменился смехом, а Федюшкин испуг разрешился слезами. Он объявил, что не пойдет топиться, что виноват. Просил, чтоб его не гнали, спрашивал: куда ему теперь?
– Иди в половые… ноне ярмарка стоит… еще деньги наживешь.
Какой-то добрый человек свел его в одно из бесчисленных в ярмарочное время трактирных заведений, и Федор стал половым за харчи и за доходы, какие случатся, но без жалованья. Ежеминутно чувствуя себя совершенно чужим на белом свете, чужим между всеми этими орущими, пьющими и дерущимися людьми, он решительно не замечал, что такое кругом него творится, и работал, как неустанная машина.
Так прошла вся ярмарка.
У Федора вдруг оказалось рублей тридцать денег, сумма, накопившаяся незаметно, и Федор тотчас, как только сосчитал деньги, вспомнил о матери. А как только вспомнил о ней, так и о себе вспомнил, и в пришибленном мозгу опять замелькал какой-то светлый луч… Опять ему стало ужасно жаль… Жаль "всего этого", жаль до слез. И ревел он над своими деньгами долго-долго. Хозяин даже отобрал у него эти тридцать рублей себе под сохранение, прибавив:
– Так-то оно лучше будет, меньше будешь нюни-то разводить.
Федор, однако, и без денег нередко обливался горючими слезами; во сне он плакал каждую ночь и кричал, причиняя посетителям нумеров постоянные беспокойства; тем не менее хозяин держал его у себя и после ярмарки, дорожа его покорностью, выносливостью и бескорыстием.
Федор жил, не думая о будущем. Вновь пробудившаяся жизнь сердца сильней, чем в первый раз, овладела им… Его уже не просто брала жалость к себе и ко всему, что с ним случилось, мысль его пошла дальше: он стал понимать, что все эти насмерть испугавшие его люди – такие же испуганные, как и он, что кто-то или что-то исковеркало, изуродовало их, и ему еще жальче стало всех их, чем было жалко прежде. – Ведь надо же как-нибудь им узнать это? Как же это так? За что они бьют, губят друг друга? Ведь тут только два слова сказать – и ничего не будет. Как же можно все это оставлять так, зря? Вот примерно какие стали волновать вопросы этого некрасивого полового, подающего кипяток. Он крайне удивлялся, что как это ничего никто не окажет? отчего это не придет какой-нибудь умный человек и не растолкует?.. Что растолковать и как – этого Федор не знал… Речь, которую он предполагал в устах умного человека, имеющего прийти, в голове Федора никак в порядок не приходила. "Вы что же это, ребята? так ведь невозможно…" Эту фразу хорошего человека он слышал ясно, но дальше не знал, что будет хороший человек говорить. Дальше были только вопросы: как? зачем это? да разве это хорошо? и т. д.
От этих вопросов Федор решительно не мог отделаться и, как бы вы думали? – стал писать…
Заведение запиралось в два часа ночи; только к трем успевали убраться и вывести запоздавших гуляк, и с трех до бела света Федор, не смыкая глаз, при свете сального огарка, выводил карандашом по клочку бумаги, положенному на колено, каракули печатными буквами. Писал он стихами и плакал… Не берусь передать, что это были за стихи. По всей вероятности, кроме непонятной чепухи и безграмотности, они не представляли бы никому ничего интересного. Тем не менее Федор крепко берег их и тщательно прятал в тайные места.
И с каждым днем необходимость передать бумаге накопившиеся думы овладевала Федором сильней и сильнее. А вместе с этим сами собой выросли и думы.
Не менее года просидел он на чердаке и выработал довольно смелый, довольно нелепый, но довольно понятный план: ехать с этими сочинениями и думами в столицу; тот, кто пишет книги, тот человек (так выдумал Федор) и есть тот самый хороший человек, который один только и может сделать добро. Федор знал это по себе: он писал по ночам, потому что ему было жаль людей, потому что он хотел, чтобы люди не пугали друг друга, как пугают людей бешеные собаки. Так и все, кто пишет книги. Он знал, что сочинения его плохие, что пишет он не хорошо и что даже почерк у него бог знает какой (хотя в течение года он с невероятными усилиями выучился писать по-"писаному", а не по-печатному), – все это он знал; но жизнь так страшно обошлась с ним, он так ясно видел, что она запуталась, что в ней какая-то фальшь, от которой людям нет житья, что, несмотря на все, не покидал этого плана. Он полагал, что там разберут, испугаются, когда он расскажет, и закричат на весь белый свет: "Что вы, ребята? Разве так возможно? Это, братцы, не модель! Что вы, полоумные, очумели, что ли?"
Еще через год он осуществил этот фантастический план. Как он это сделал – не знаю. Знаю, что целый год он копил пятаки и гривенники, сколотил деньги на покупку сюртука, шапки, сапогов, и жилета, и проч., и проч. и почти уродом прибыл в столицу. Корявый, маленький, пугливый, дикий, в платье, которое было сшито на чужой рост, он был и жалок, и неуклюж, и вообще ужасно-странен.
В это время его и узнала рассказчица, девушка, готовившаяся тогда в сельские учительницы. Он ютился в углу меблированных комнат, работая по ночам, когда все уже спали, и приводя в порядок свои сочинения.
С полгода шуршал он своими бумагами, порядочно-таки надоедая жильцам; наконец выступил в поход: понес рукописи в газету. Воротился он, весь сияя, и сам первый вступил в разговор с рассказчицей, рассказал ей всю свою историю и в заключение всех пересказанных несчастий радостно произнес:
– Отнес!
Так он оказал это слово, как будто невесть какое счастие случилось с ним…
– Велено прийти через неделю.
Через неделю между Федором и редактором происходил такой разговор:
– Это все – один стих? – стоя полуоборотом к Федору и тыкая в корявую рукопись пальцем, небрежно спрашивал редактор.
– Все один…
– И это он же тянется?
– Это? Он-он.
– Какой же это – стих? Разве такие бывают стихи? Это – шест, а не стих!.. Этим шестом только голубей гонять.
– Там дальше и короче есть… вот извольте…
– Неудобно, не годится.
Редактор ушел.
Глубоко был опечален несчастный поэт. Как убитый, сидел он по крайней мере целую неделю на окне в коридоре, покуда его не ободрил какой-то добрый человек, узнавший, в чем состоит его горе. Человек этот подарил ему книгу о стихосложении, и с этих пор, еще не менее, как на полгода, Федор вновь отдался своему задушевному делу. К шуму бумаги, нарушавшему сон жильцов по ночам, на этот раз присоединился какой-то непрерывный стук то ногой, то рукой: это Федор учился стопосложению, вгонял свои длинные, как шесты, строки в надлежащие границы и вытягивал, как вытягивают подошву, короткие… Как он мучился, как он трудился, как он страдал – передать нет возможности. Часто на него нападало полное отчаяние, так как перерубленные пополам и вытянутые вдвое стихи его явно утрачивали цену правды, которую он в них только и видел.
Наконец, кое-как оболванив свои произведения, он вновь пошел в редакцию и на этот раз уже с замиранием сердца ожидал рокового дня.
Через неделю, по обыкновению редакций, день наступил. Дрожа как лист, Федор отправился за ответом.
Не скрывая презрения, редактор с первого же слова почти завопил на Федора.
– Да что вы хотите? Что такое вы тут выводите? Что вам хочется оказать?
– Я…
– Что богатые богаты, бедные бедны? Да?
– Я…
– Что бедные – такие же люди, как и богатые? Так, а? Да?
– Так…
– Что несправедливо обижать, заедать? Да? Это? Потом – кисельные берега, молочные реки… Всеобщий лимонад-газес? Так?
– Я этого не писал… Я там…
– Так я вам скажу, – вне себя завопил редактор, чуть не по носу хлопая Федора его рукописью: – что, во-первых, все это давно всем надоело и без вашей белиберды, а во-вторых, за эти идеи… вы знаете – что за это?
И он прибавил внушительным шопотом таких два словечка, от которых Федор вновь ощутил приступ необычайного испуга и едва не закричал как помешанный: "боюсь!"
Отчаяние овладело бедным малым в сильнейшей степени. Он шатался по коридору меблированных комнат, никого и ничего не замечая, ничего не видя и не слыша, и только по временам, останавливаясь, как вкопанный, перед первым встречным, бормотал:
– Всем известно! Кабы всем было известно, ничего бы не было.
Или что-нибудь в таком роде:
– В тюрьму!.. Да хоть в каторгу… Известно!.. Совести-то в тебе нет!..
Чтобы мало-мальски помочь ему, успокоить его, рассказчица, со слов которой написана Федорова повесть, пыталась вступить с ним в разговоры, пыталась успокоить его тем, что не с ним одним такие неудачи, указывала ему, как умела, на больших, крупных поэтов, великих людей… Федор, не произнося ни слова, напряженно-внимательно вслушивался в ее речи – ведь ничего он этого не знал. Не знал он, что и до него писалось, – и боже мой сколько! – стихов на те же темы, что и до него были люди, знавшие беду и желавшие помочь общему горю… Ничего он этого не знал и только ужасался, слушая эти рассказы. Когда рассказчица прочла ему два-три сильных стихотворения, касавшихся поглощавшего Федора предмета, он заревел и проговорил:
– И ничего?
– Что ничего?
– Так ничего и после этого?..
– Покуда ничего…
Федор ревел.
Чтобы успокоить его, она приводила ему еще более сильный пример неудачи, рассказала ему почти все главнейшие события истории и вместо успокоения только ужасала его и ужасала…
– И тут ничего не вышло?
– И тут… Да еще что!..
Корявый, безграмотный, измученный человек с каждым словом своей собеседницы все неотразимее убеждался, что он – ничто, мразь, ничтожество сравнительно с теми, кто и до него печалился о делах света белого. Рассказы девушки доказали ему все его бессилие, все его бесправие, всю безнадежность его существования…
Испуган он был прошлым и еще больше испугался теперь, узнав, что "покуда ничего не вышло".
Он окончательно ошалел, и все жильцы комнат думали, что он худо кончит… Как помочь ему – никто не знал. Как уверить его, что он не безграмотен, что у него есть будущее, что ужас прожитой действительности можно забыть и что есть какая-нибудь возможность сделать то, что на чердаке нижегородского трактира задумал делать Федор?
Многим было жаль его, но все молчали и ждали… Наконец дождались.
Однажды Федор неожиданно исчез с утра и воротился в два часа ночи, с шумом подкатив на извозчике. Он был жестоко пьян. Полагали, что косушка и будет прибежищем этому нескладному несчастливцу: однако вышло не так… Очнувшись, Федор стал что-то смутно припоминать, и, по мере того как память восставовляла ему прошлый день, им начинало овладевать что-то ужасное, какой-то необычайный испуг… Такого полного бессмыслия, в которое впал несчастный, с ним никогда не было. На расспросы рассказчицы он только отвечал: "Свинья! Продал!" – "Кто, что продал?" – "Я… Все! Всех!" Потом, после новых продолжительных попыток привести его в сознание, он пробормотал: "Он мне сам сунул… в руку…" – "Что сунул? кто?" – "Да этот… злодей… надоело всем… вот…" – "Редактор, что ли?" – "Он сам сунул…" – "Что сунул-то?" – "Деньги… Я так шел… он мне ткнул… Свинья, христопродавец я…"
– Я, – говорила рассказчица, – несмотря на все старания, ничего более от него не могла добиться. Подумаю, что дело было так: шел он, должно быть, по улице и наткнулся на редактора, который так его недавно озадачил. Быть может, вид его был очень жалок, или редактор был в хорошем расположении духа, только последний мог предложить, "сунуть" ему бумажку… Почему-нибудь, очень может быть что по рассеянности, Федор взял ее, – по рассеянности и не соображая, что делает, выпил, напился… И вот теперь, очнувшись и сообразив, что сделал, ужаснулся. С его точки зрения, поступок этот в самом деле должен был казаться ужасным. Взяв деньги от человека, который объявил ему, что ему надоели все эти страдания, о которых Федор болел душою, Федор продал свое право страдать за людей, сам оказался дрянью, которая может от рюмки водки забыть двадцать лет возмутительной неправды… До этой минуты он знал, что он – ничтожество, знал, что он беззащитен на белом свете и что нет защиты у этого света ни от кого; теперь он убедился, что об этом ничтожестве и хлопотать-то не стоит… Прежде он был испуган людьми, а теперь испугался сам себя. Теперь он всего испугался и в таком испуге не замечал, что не пьет, не ест и умирает с голоду. Я думаю, это было так. Впрочем, может, и ошибаюсь…
На этом рассказчица кончила.
Третий звонок торопил клубную публику выходить из зал. Собеседники стали прощаться, унося домой невеселое впечатление.