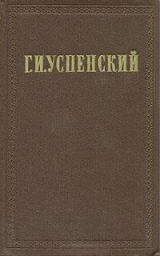
Текст книги "Новые времена, новые заботы"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Все это яркие продукты случая – явления крупные, видные, но и вся остальная бюджетная братия, если и не подвержена таким заботливым попечениям случая, изведала его власть на бесчисленных мелочах. Тысячи систем воспитания и образования, пережитые с детства и всякий раз обязательно связанные с куском (большим или меньшим – все равно), уже в ранней юности ослабили, если не совсем умертвили мысль, приучив человека только к страху перед таким будущим, в котором могут и не дать этого куска хлеба. Затем, если, несмотря на эти способы превратить человека в автомата, ему по врожденной силе мысли удалось сохранить в нее веру и в последующие годы, то заботливая рука случая не замедлит и здесь показать свою власть, вырвав из рук его любимую книгу, или понесет его по волнам таких случайностей, о которых уже говорено выше и которые все-таки приводят к страху потерять кусок хлеба (большой или маленький – опять-таки все равно).
Мы не говорим о тех из числа бюджетных неплательщиков, которые чуть не с детства знают уже, что "верно" в этой земной юдоли, и хотя прямо тоже не принадлежат действительно к интеллигентным неплательщикам, но сами несомненно причисляют себя к ним и уже во всяком случае могут действительно назваться неплательщиками. Мы не говорим о них потому, что слово "рот" вполне достаточно для того, чтобы определить и их личные взгляды и их отношения к тем новым или старым делам, благодаря которым этот рот постоянно и плотно набит… Но, увы, и подлинный интеллигентный неплательщик, мы должны это сказать скрепя сердце, тоже связан с своим делом тоже только одним ртом… К длинному, большему бюджету он несет только свой рот…
Теперь, подведя всему сказанному итог, потрудитесь представить себе состояние духа наилучшего интеллигентного неплательщика. Дела, которые он делает, не связываются (если, конечно, привычка не возьмет свое) с его мыслью надлежащим образом плотно и крепко; отдать на служение им силу души – нельзя: завтра может вломиться такое явление, которое сразу высадит целый угол только что с любовью начатого здания; возиться над разбросанными осколками и щепками невозможно: послезавтра может нагрянуть новое, даже и отрадное явление, которое опять-таки, втиснувшись внезапно и не туда, куда надо бы, расшвыряет и щепки… Дело, превращенное в прореху, требует медленного утомительного штопанья, толченья вокруг полупустяков, вокруг слов, хотя бы и громких, но пустых… И у таких-то пустых дел стоит человек, у которого точно такие же дырья и прорехи сделаны уж в самой душе; у которого мысль отвыкла совать свой нос на сторону, словом – у которого случай все помял, все испугал, на все прикрикнул, и прикрикнул основательно. Ослабленный и испуганный внутри себя, интеллигентный неплательщик стоит у расслабленного дела, знает это, видит, как это пусто и пошло, каждую минуту чувствует если не всю пошлость положения, то уж всю его холодную пустоту, и стоит потому, что "по крайней мере" – верный кусок хлеба!.. Жить в постоянной атмосфере «не настоящего», «не заправского»,дышать постоянно воздухом «неискренности» – и все потому, что только при таких условиях неплательщику дается возможность жить, – это чистое мучение!..
Предоставляю читателю самому соединить воедино сотни индивидуумов, хотя и разнохарактерных, но несомненно зараженных одинаковым недугом неискренности, и представить себе, что за жизнь, что за взаимные отношения могут сложиться из всего этого… Чтобы недалеко ходить за результатами такой жизни, спросите любого из интеллигентных неплательщиков, и он вам скажет, в откровенную минуту, что это – мученье, что это – ужас что такое, только не жизнь. "Но ведь так жить действительно нельзя!" – скажет читатель. Было бы действительно невозможно в таком положении просуществовать и дня, если бы в неплательщике и кругом него все было опустошаемо систематически. Но благодаря тому же случаю иное в делах и лицах каким-то чудом остается нетронутым, живым, обманывает глаз… Велико ли в самом деле обилие сил русской души, велика ли их живучесть, только присутствие и существование их несомненно почти в каждой, как бы грубо ни расшатанной душе неплательщика и изумительно по своей стойкости, по своему уменью съежиться до последней степени и все-таки жить, хоть урывками, но жадно вглядываясь в белый свет… Книга – вот прибежище всего съежившегося, притаившегося, но вполне живого в неплательщике… Боже милосердый, как жаден он до книг! Чего-чего не поглотил он на своем веку, и, несмотря на бездну проглоченного, мозг его до сей поры голоден, как будто бы ничего и не ел никогда, и все просит и все просит еще… Книга, чтение – единственное прибежище и отрада, но только отрада, и отрада, увы, весьма бесплодная!.. Чего-чего только не перенес, не испытал благодаря непрерывному чтению этот мозг! Но не имея возможности, даже утратив отчасти самую мысль о возможности куда-нибудь нести то, что перенес, в чем убедился этот мозг, он привык наслаждаться мыслью сам для себя, он привык и приучил себя к ощущению чтения и – что делать – превратился в какую-то бездонную прорву, в которую можно валить томы, вороха напечатанных мыслей и которая все-таки будет пуста… Пишите, валите туда написанное всеми перьями, существующими на белом свете, – все мало; давай еще нового, а дела он все-таки будет делать пустые и верить искренно в одно – хлеб насущный. Нет, незавидное, бедовое положение интеллигентного неплательщика! Удивительно, как он живет еще. Но что особенно грустно среди всего этого, так это – дети!
Распоясовец! Мужик! Дай ты этим ребятишкам, этим подрастающим неплательщикам, дай ты им своих сказочек, простых деревенских песенок! Повесели ты их цветочками, и зверьками, и зайками… Пошути, побалуйся с ними! Ведь они чахнут в этом воздухе неискренности, утайки, неправды, а главное – в этой дорогой пустоте!.. Спаси их твоей простою правдой, дай дохнуть свежего, здорового воздуха, услышать прямое слово, – ведь они будут глубоко несчастны и глубоко гадки без тебя, без твоего правдивого и горького опыта, без твоей искренней, забывающей худое, шутки.
V
Так изо дня в день и из года в год тянется унылая, пустая, скучная и нищенски пестрая неплательщичья жизнь. Довольно значительным количеством интеллигентных ртов съедается довольно значительное количество бюджетных цифр, а в результате – «словно корова лизнула языком». В этой атмосфере «не настоящего», «не заправского» нет минуты веселья, нет здоровья, нет дела, нет сознания простого покоя… Всякого что-то точит, вертит в душе, особливо когда этот всякий остался один сам с собой и улучил минутку, когда может если не лгать прямо, то хоть не вывихивать себя, что почти составляет всеобщую привычку… Лучшее, задушевнейшее желание большинства неплательщиков – уйти друг от друга, и, несмотря на это, завтра, напившись утром чаю, все желающее разбежаться вновь сцепляется в тесный хоровод вокруг пустого места и вновь продолжает почти бесплодную толчею, вырабатывая или, вернее, «вылыгая» себе хлеб. Какая-то непроглядная, жалкая бестолковщина, что-то тягучее и крайне больное непрерывно тянется в этой жизни изо дня в день (если не считать моментов, которые веселы даже и для птиц и мух, – любовные дела и проч.), пронизывая воздух, которым приходится дышать, и душным туманом застилая будущее… Бывают моменты, когда одновременно в разных концах неплательщичьего мира чувствуется полное удушье… вот, вот, кажется, дальше нет возможности выносить… И вдруг как молния блеснет: «Слышали? Варенька-то!.. Ведь застрелилась?.. Как? что такое? Неужели?..» И точно могучим ударом могучего кулака ударит та весть по расслабленной неплательщичьей душе… «Стало быть, и вправду душно и трудно!» – думает она… «Вправду, вправду!..» – говорит совесть, отвыкнувшая признавать за правдой какой-нибудь существенный смысл. И все, что уцелело в этой душе хорошего, все выйдет на божий свет. Боже, как ревет иной закоснелый неплательщик в такие минуты!.. Как он много начинает видеть и страшиться – хотя к пустому месту все-таки продолжает ходить аккуратно каждый день в половине двенадцатого утра и, скрепя свое действительно больное сердце, все-таки усердно трудится до пяти часов вечера ради своего рта, трудится над отвиливанием от «насущных вопросов»… А туман, духота мало-помалу опять сгущаются кругом… Опять тянутся скучные и серые дни… тянутся, тянутся, и вдруг опять как гром грянет, где-нибудь не вытерпит и прорвется «сущая правда»… От этих неожиданных появлений сущей правды не застраховано решительно ни одно из тех гнезд, где заседают вокруг пустого места обремененные жалованием неплательщики.
3. ХОЧЕШЬ-НЕ-ХОЧЕШЬ
I
Заговорив с читателем о некоторых как бы случайных проявлениях «сущей правды» среди насыщенной всевозможною тяготою современной действительности, я возымел намерение остановиться на этих проявлениях поподробнее и с этою целью, как и всегда, обратился за материалом к единственному моему источнику – моей памятной книжке. И что же? Несмотря на то, что книжка эта представляет собою самую беспорядочную кучу разных заметок, вырезок, выписок, набранных случайно и на лету, кое-где и кое-как, записанных тоже как пришлось и чем пришлось (один раз даже шпилькой, а раза два спичкой), – несмотря на все это, то есть на беспорядочность и отрывочность всего попавшего в мою книжку, вся эта безалаберная куча в конце концов убеждает меня, что в проявлениях того, что я позволил себе назвать «сущей правдой», не только нет ничего случайного, но, напротив, – и именно в настоящее время, – повсюду обнаруживается усиленная жажда ее, этой самой сущей правды, что именно теперь, когда романиста начинает заменять зоолог, когда патентованные сердцеведцы находят возможным определить самые трудные минуты в жизни современного человека выражением «просто свинство», когда – в подтверждение доведенных до такой простоты взглядов на человеческую породу ежедневная действительность то и дело выдвигает факты, как нельзя лучше подтверждающие, что человек действительно – зверь, животное, достойное только холодного изучения зоолога, именно в такую-то минуту это доказанное и выясненное животное никогда не болело так сердцем,как теперь. Безалаберная и растрепанная книжонка моя необыкновенно упорно старается доказать мне, что именно этои есть новое, настоящее, то есть заправское в настоящее время; что человек если и не изжил в себе зверя, то во всяком случае узнал, что, действуя только во имя себя,во имя своейберлоги, своейпороды, своейсилы, захватывая для себя – кулаком, мечом, хитросплетенным законом – все, что подходило ему под руку, и разгоняя направо и налево все, что ему мешало, он хотя и достиг полной независимости в своей берлоге, но оказался один-одинешенек, потерял смысл и интерес жизни и почуял, что для того, чтобы ощущать жизнь, ему надо волей-неволей выползти из этой берлоги, идти к тем «другим», которых он разогнал от себя и которых согнул перед собою в три погибели; дать место в своем сердце новому ощущению – любви к этим «всем», «другим»… Почуял, что это необходимо сделать волей-неволей, что без этого он – нищий с пустою, хотя и золотою сумой и что без этого жизнь – не жизнь, а только заживаниевека, начинающееся с самого дня рождения.
Такими чертами можно определить современную болезнь звериного сердца, впрочем только там, где возможны самые характерные и резкие проявления этой болезни, а именно – на западе Европы. В странах, где человек-зверь для собственного своего благополучия сумел проделать все, что зверю проделать возможно, где этот человек не церемонился, именно только во имя своих личных удобств, сотни лет губить целые поколения, не поморщив бровью, – здесь явления нищего с золотой сумой начинают обнаруживаться хотя и не столь повсеместно, но зато с поразительной ясностью. Потомок древнего рода, сотни лет воевавшего во имя одного только права личного благополучия своей породы, этот потомок в наши дни, получив в свои молодые руки плоды долгой и упорной борьбы своих предков, делаясь обладателем накопленных ими богатств, угодий, покоя, полной возможности собственного счастия, вдруг обнаруживает отсутствие аппетитов, завещанных предками, чувствует кругом себя пустоту и бессодержательность жизни в раззолоченной берлоге и не видит другого исхода для своего жаждущего жизни сердца, как уйти из этой берлоги, проникнуться сильными, долгими, ежедневными страданиями других. Факты такого рода во всей поучительной чистоте встречаются на Западе, среди наиотборнейших человеческих пород; правда, они еще довольно редки, но зато неизбежность их повторения делает эти редкие факты в высшей степени поучительными и весьма ясно рисующими будущее.
На Руси факты заболевания сердца "сущею правдою" встречаются не только не реже, чем там, у заправских зверей, но напротив, как утверждает все та же растрепанная книжонка, – составляют почти всеобщее явление; захватывают почти сплошь весь неплательщичий мир, да и к плательщикам иной раз перебираются. Но при таком сплошном заболевании движение во имя сущей правды в общем не имеет у нас той чистоты, ясности, естественности, какую имеют факты подобного заболевания на Западе, – а постоянно или по крайней мере очень и очень часто заключает в себе подмесь совершенно не идущих к сущности движения осложнений, подмесь иной раз просто скверную или просто смешную… Такие червоточины в движениях отечественной мысли происходят, разумеется, всё от того же "случая", о котором уже было обстоятельно говорено в предыдущем очерке и который не только властвует над отечественным карманом, но распоряжается и совестью. Сегодня вдруг, неожиданно, делается не только возможным, но прямо обязательным то, что еще вчера считалось не только необязательным, а прямо невозможным, противозаконным. Таким образом оказывается, что как бы ни было хорошо это ставшее возможным нынче и невозможное вчера – в самый день появления его на белый свет в нем уже есть червоточина – принудительность; запрещая вчера, оно сегодня начинает гнать к тому же, вчера запрещенному; появляясь внезапно, оно застигает постоянно врасплох даже друзей своих, и потому над всем этим внезапно поднятым народом постоянно висит "хочешь-не-хочешь". Стало быть, именно во "внезапности" разного рода возможностей лежит причина как того что всякая хорошая и дурная возможность сразу захватывает громадную уйму народа, так и того, что народ этот, вообще погоняемыйк новой возможности, в большинстве вовсе не приготовлен к ней, не нуждается в ней и плетется за нею хочешь-не-хочешь; широкое и большое, по количеству захваченного народа, движение осложняется присутствием множества ненужных элементов и вообще не имеет той естественности, неизбежности, чистоты, какими отличаются подобные же, хотя и редкие явления на Западе.
В настоящей "болезни русского сердца" – болезни, составляющей самую видную черту нашего времени, – главную существенную роль играет, разумеется, отмена крепостного права, то есть отмена целой крепостной философской системы. Для огромного большинства русских людей на другой день по освобождении крестьян оказалось необходимым ввести в собственное сознание такие понятия, которые вчера еще были совершенно ненужны, а сегодня сделались необходимы. Оказывалось необходимым дать место в своем сознании идее равноправности, идее, которая вчера была преступлением; оказывалось необходимым признать неизбежность труда, допустить вмешательство правды в человеческие отношения. Понятия равноправности, труда внезапно и неожиданно вторглись в сознание громадных масс народа, предстали перед помещиком, перед портным, который шил на помещика, перед ямщиком, возившим в город, перед хозяином постоялого двора, перед трактирным служителем, угождавшим барину, перед чиновником, хлопотавшим за него в судах, перед женой чиновника, его сыновьями, дочерями и т. д. и т. д. – до бесконечности. И весь этот народ, еще вчера не знавший о существовании этих новостей, сегодня должен был знать, что эти новости и суть "настоящие", а та философия, которою он жил, – не заправская, не настоящая… И вот является неисчислимая масса народа, обязанная "думать" об этом неожиданном новом и жить во имя этих новых понятий, обязанная непременно носить их с собою каждый день и каждый час… Ясно, что это народ – больной "сердцем", непременно больной, потому что в общем над всей этой кучей висит неизбывное "хочешь-не-хочешь".
Большого художника, с большим сердцем ожидает полчище народу, заболевшего новою, светлою мыслью, народа немощного, изувеченного и двигающегося волей-неволей по новой дороге и несомненно к свету. Сколько тут фигур, прямо легших пластом, отказавшихся идти вперед; сколько тут умирающих и жалобно воющих на каждом шагу, сколько бодрых, смелых, настоящих, сколько злых, оскаливших от злости зубы! И все это – рвущееся с пути, разбешенное, немощное, все это рвется с дороги только потому, что это – новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не может или не хочет помириться с новою мыслью. Словом – все это скопище терзается или радуется и смело идет вперед потому только, что над всем тяготеет одна и та же болезнь сердца, боль вторгнувшейся в это сердце правды, убивающая и мучащая одних и наполняющая душу других несокрушимою силою. Минута, ожидающая сильный и могучий талант, который, несомненно, должен родиться среди такой массы глубоких сердечных страданий.
Так именно осмеливается разглагольствовать моя растрепанная подруга, записная книжонка, и, не претендуя на самомалейшую возможность даже попробовать рисовать эту удивительную картину, тем не менее по силе возможности всегда готова представить сценку, заметку или случайно встреченный факт. Указывает она, например, на такое очень часто повторяющееся явление: общественный деятель. Человек, долгие годы работавший над тем, чтобы в душное время полнейшей засухи достать хоть капельку свежей воды, рывшийся до нее сквозь каменные слои, называющиеся "нельзя, не смей"; проникавший за нею сквозь сыпучие пески, называющиеся "Не надо, не нужно, на что нам"; человек, наконец добившийся этой капли воды с неимоверными трудами, накачивавший ее своим маленьким поршнем из своего маленького насоса, – что значит, что этот человек вдруг начинает роптать на тех, для кого он работал и кого поил, роптать и браниться именно тогда, когда с такими трудами добытая им живая вода делается всеобщим достоянием?.. А между тем такой факт встречается поминутно, и нельзя ничем другим объяснить его, кроме вышесказанной внезапности появления живой воды. Вчера человек в поте лица добывал каплю этой воды, да и этой капли было много, а сегодня, благодаря позволению, воды нахлынуло столько, что и насос вылетает с корнем, и поршень начинает упираться от ее напора, и сам общественный труженик унесен, как щепка, этим вдруг нахлынувшим всюду потоком. И вот, погибая, он вопиет против губящей его стихии, которую сам же всю жизнь вызывал на божий свет. Факт очень частый и ничем другим не объяснимый.
Указав на факты, подтверждающие именно внезапность пришествия новых идей, памятная книжка в подтверждение того, что эта внезапность захватывает всех,и притом врасплох, также представляет аргументы по силе возможности. В то время как нахлынувшие волны уносят, как щепку, действительного и много потрудившегося работника, заставляя его роптать на то, что от всей его деятельности не осталось и праху, тут же рядом с ним этот же поток несет по тому же самому направлению толпы не только не работников, не только не деятелей, но, очевидно, людей приневоленных: кто не знает этого визгу о собственном ничтожестве, этого воя о собственной немощи, ежеминутно оглашающих дни наши то там, то сям? Книжонка может привести множество примеров, из которых явствует, что человек, гонимый новым временем, ничего не издает, кроме визгу, ничего не делает, кроме именно «самого старого», и, ознаменовывая каждый приневоленный шаг разного рода скверностями, ни на минуту не перестает оплакивать эти скверности, сокрушаться о них, продолжая делать их ежеминутно и ежеминутно о них визжать… Как попал бы сюда, на эту новую дорогу, этот совершеннейший обломок старого, если бы его неожиданно, «хочешь-не-хочешь», не унесло сюда?
Если всякому знакомы эти визжащие фигуры, приводимые моей книжонкой в пример всеобщности движения, то точно так же должны быть знакомы и фигуры другого рода, подтверждающие то же положение: это – фигуры людей, знающих, что время уносит их по настоящей дороге, и с страшною силою воли заглушающих в себе все, что в натуре их, в их привычках, в воспитании есть враждебного этому новому пути. Книжонка указывает на множество типов людей немолодых, которые вяжут в себе старое по рукам и по ногам, чтобы служить новому, хотя обыкновенно служат недолго, потому что постоянная война с самим собой разрушает тело и мозг. Работники, взявшиеся за работу потому, что некому, потому, что надостоять на этой работе кому-нибудь, ставшие на работу потому, что нельзяне работать, нельзя не служить делу, для которого еще нет настоящих работников, такие работники – довольно-таки приметные фигуры в этом громадном движении к свету. И, к счастию, в такого рода людях на русской земле нет недостатка. Книжонка указывает на кротких, как агнцы, людей, людей, неспособных обидеть мухи, которые, однако, являлись перед публикой, например в печати, чуть не кровопийцами, и являлись потому только, что надобыло являться такими, потому что настоящих не являлось. Книжонка указывает на множество людей, заглушавших в себе кротость для необходимой в данную минуту вражды со злом; заглушавших в себе отвращение для необходимой теперь именно потому-то и потому-то любви… Все это, конечно, не первый сорт, не первый нумер, но все это говорит о появлении новой мысли врасплох, говорит и о силе и неотразимости этой мысли, заставляющей людей переламывать, уничтожать в себе врожденное несочувствие к ней…
Эту движущуюся по новому пути толпу людей, большею частью вовлеченных туда невольно, неожиданно, хочешь-не-хочешь, книжонка заканчивает указанием, с одной стороны – на типы, все понимающие и ничего не могущие, с другой – на типы, ровно ничего не понимающие, но подавленные всем вообще.На одном из составляющих книжонку лоскутов значится следующее: "В настоящее время очень дорог человек, с которым можно свободно молчать,то есть думать не разговаривая, и притом так, чтобы молчаливый гость не просто молчал, а тоже постоянно бы думал, но не говорил, так как разговор при таком положении дела всегда оказывается чистым вздором и только конфузит обоих". Не знаю, по какому именно случаю записаны эти слова и кем именно произнесены они, только фигуры людей, в полном смысле глубокомысленно молчащих,мне очень коротко знакомы. Не раз встречался мне человек пожилой, много думавший, видевший много, знающий все, что выдумано мыслью относительно будущего, знающий все, что выдумано тою же мыслью относительно невозможности этого будущего, сознающий, как все это верно и глубоко, и ежеминутно убеждающийся, что из всего этого, как ни кинь – все клин. Я встречал людей, молча обедающих друг с другом часа два-три, молча идущих по улице целые версты и знающих, что они обо многоммолчат в это время, даже как бы разговаривающих молча. Такой тип – всегда старик, у которого жизнь прожита, а остался один голый ум. Благодаря кой-какому достатку сидит он где-нибудь в своей квартире у окна, или тихо идет по улице, или чужим толчется на чужой стороне и все молчит, и целые томы можно бы написать о том, «о чем он молчит».
А вот другой, совершенно ничего уже не умеющий сообразить, но всемподавленный человек. В прошлом году зимой явился в Париж мещанин Б-в, приказчик чайного магазина. Как добрался он сюда – решительно непонятно; ни на каком языке он не говорил ни одного слова, кроме русского. Это был молодой человек самой ординарной наружности приказчика, довольно чисто выбритый, по-гостинодворски одетый, очень кроткий, непьющий и на вид вовсе не больной, хоть и задумчивый. Зачем он явился в Париж? Он хорошенько не мог объяснить, хотя, кажется, желал бы сказать многое, но, очевидно, не мог… Не объяснив ничего относительно появления своего в Париже, он обыкновенно замолкал, смотрел в землю, тер ладони и вдруг скороговоркой произносил: «Больше ничего… застрелюсь!» В гостинице, где он остановился, смерти его ждали со дня на день, и все ходили беспрестанно в его нумер. Пришел и я. Я начал разговаривать с ним о чайном деле: долго ли он служил, сколько получал жалованья, выгодное ли это дело? Б-в говорил, отвечая на мои вопросы вполне определенно и ясно. Он даже увлекся и с жаром принялся расписывать, какие штуки употребляются для подделки чаю, как лучше всего обанкрутиться и т. д. Он оживился, и ни единой капельки какой-нибудь болезни не было заметно ни в его глазах, ни в его лице. Невозможно было представить себе, чтобы у этого, так всецело поглощенного своею торговою специальностью, человека была хоть тень мысли о самоубийстве. Но на беду господин (тоже русский), бывший в то же время со мной, совершенно неожиданно прервал разговор, сказав: «Нет, вы спросите-ка, отчего он застрелиться-то хочет!» Вопрос этот был сделан, очевидно, в шутку, но Б-в вдруг изменился. «Ну уж и стреляться!» – сказал я. «Ничего не поделаешь!» – как бы в отчаянии произнес, изменившись в лице, бедный Б-в и стал объяснять, почему именно ничего не поделаешь… Найти в этих объяснениях какой-нибудь смысл или хоть чуть-чуть понять – не было никакой возможности. Если бы удалось стенографически записать все, что он говорил, и потом тщательно все перечитать и передумать, то и тогда едва ли бы получились какие-нибудь мало-мальски удовлетворительные результаты… Вот примерно, как он говорил и что именно: «Потому, такая линия… Что ж делать!.. (Молчание.) Одного платья сколько было – панталонов одних летних шесть пар, у Корпуса… да что! Тьфу… Неужели из-за этого?.. Господи помилуй! вот уж стоит!.. тьфу! (Молчание.) Нет! а есть над человеком перст – вот что!.. Теперь я приказчиком, все хорошо… Приглашали к Пеструхину на Невский на семьдесят пять рублей… и с удовольствием принимали, – сам не захотел!.. потому что… да что! Места! Вот уж наплевать-то!.. (Молчание.) Изволили бывать в Академии художеств? Ну, так там есть одна картина… представлено, как страждет невинная девица в молодом своем возрасте и как невинно… Ну, не стоит и говорить… Перст! Нет, тут особая штука… У меня это все нарисовано на плане… (Плана он не показал, а сказал: все особенное.) А то места, панталоны!.. Господи, очисти живота от всего от этого… Одно осталось – музыка, оркестр, серьезная игра!.. Послушать и помереть – вот! (Молчание.) А вот что правды нет ни капли – так уж это с тем возьмите! Перст!.. Ловки, очень ловки они!.. Боже сохрани, какая канитель!.. Вы только посудите одно: был я на цветочной выставке и вижу растение, фиалку… И думаю: столь удивительно хорошо, столь премудро, или, напротив того, возьмем человека, положим, хоть меня: прихожу к хозяину: „позвольте получить за два месяца…“ да нет, нет – тут болтать нечего! Что пустое разговаривать… Послушаю музыки и с богом – на тот свет!» Вот примерно как и в каких выражениях этот бедный человек объяснял причину необходимого для него самоубийства. Слушая его, я ничего не понимал, но не мог не видеть, что в его бедной голове толпилось многое множество нежданных, негаданных мыслей, целой тучей нахлынувших в его бедную, слабую голову, искалеченную узкой специальностью. Какой случай внес в его сознание эти совершенно для него непереварямые мысли – я не знаю; очень может быть, что это была какая-нибудь практическая неудача, рана, нанесенная мелкому самолюбию; но что мучения его были серьезны и ничего «просто свинского» не заключали – это можно видеть и из его бессвязного разговора и из факта его действительного самоубийства. Б-в застрелился осенью того же года в Павловске. О смерти его напечатано в дневнике происшествий всех русских газет за сентябрь месяц прошлого года.
Около этих четырех-пяти главных фигур – труженика мысли, погибающего в общем стремительном потоке движения и ропщущего на него; человека, уныло воющего, оплакивающего свои несовершенства и ежеминутно эти несовершенства предъявляющего; того, который ломает в себе все не идущее к задаче, считаемой им за подлинное дело; того, кто молчит и думает, не видя для себя никакого исхода; и, наконец, того, кто не умеет думать, а прямо поражен, задавлен и разбит всем полчищем нахлынувших на его бедную голову мыслей, – около этих главных фигур группируется бесчисленное множество разновидностей, в которых не трудно узнать при некоторой внимательности черты, сходствующие с вышеприведенными, особенно заметными типами. Один не воет вслух, воет внутри себя; другой хотя и чувствует, что его несет, сорвало, но не показывает виду, а притворяется, будто даже очень рад, хотя и тот и другой в сущности испытывают точно то же, что и те, которые воплями и ропотом, не церемонясь, оглашают каждый шаг, делаемый ими на новом пути. Все это – как разновидности, так и главные представители разновидностей – все это составляет ту массу идущего по новому пути народа, который загнан на этот путь неожиданно ставшими необходимостию идеями простоты и правды. Все это идет страдая и болтая, упираясь и падая на пути, негодуя и злясь. Все это попалось в лапы новым идеям и, хочешь-не-хочешь, своими глубокими страданиями, своим глубоким негодованием свидетельствует о том, что эти новые идеи, эти новые потребности сердца пришли, вот тут где-то, и идут всё ближе и ближе. Можно на нихлаять, можно от нихрваться, можно ихопровергать, можно на них просто плевать, притворяться, что не видишь, можно просто не видать их; но лаять, негодовать, бежать, опровергать, словом, проделывать все вышеизображенное «без них» – никак уж невозможно.
II
Все эти толпы больных, страдающих, стонущих и проклинающих, на которые указывает памятная книжка в подтверждение вывода, что настоящее время более всего страдает «сердцем», весь этот трудно занемогший народ не составляет, однако ж, еще главного в общей картине этого необыкновенного нравственного движения, которое к тому же большею частью насильно втянуло его в себя. Вся беда этого народа заключается почти только в борьбе с самим собою, с собственными ненужными, мешающими освеженному сознанию старыми привычками. Несомненная трудность этой борьбы, громадность массы народа, захваченного ею, могут свидетельствовать только о том, что в сознание русского человека вошло нечто большое, небывалое, что это небывалое – сильно и велико. Но ни громадность захваченной небывалым толпы, ни самые размеры страданий не могут убедительно доказать наблюдателю, что «новое и небывалое» – явление вовсе не случайное, а напротив – неизбежное. Поэтому все муки и хлопоты, свалившиеся на случайно захваченного в движение неплательщика, состоят как бы в отвиливании, в придумывании разных штук, чтобы как-нибудь обойти, дать другое направление уносящему его потоку. Мысль его постоянно работает над всевозможными средствами, которые бы облегчили ему эту борьбу, он постоянно норовит что-то где-то устроить, учредить, сделать сначала то, а лет через пятьсот это, тогда как все дело и вся беда заключается в нем самом, и не позже, как сию минуту, и время требует переделки не на стороне где-то, не в каком-то чужом углу, а тут, в сердце самого неплательщика, куда с такою настойчивостью пробирается идея хотя бы «полнейшей простоты и правды» в человеческих отношениях. А эта идея действительно идет, вырастает сама собою и уже имеет в своей власти число сердец, ничуть не меньшее числа случайно занемогших и захваченных движением невольно. Памятная книжка дает немало указаний и на таких людей, у которых уже нет никакой нравственной связи ни с чем прошлым, у которых ни капли нет себя для себя, у которых есть только одно: невозможность существовать, не глядя действительности в лицо прямо и смело и не повинуясь одной только сущей правде. Это – не специалисты новых идей и новых дел, знающие доподлинно, что и к чему; нет, это – простые, очень часто необразованные люди, стоящие на новом пути почти одиноко; но люди, которые могут чувствовать только совершенно правдиво и только повинуясь владеющей их сердцем правде, которые идут… куда? я не знаю. В появлении их на свет нет никакой случайности, нет никаких посторонних влияний; напротив, это – продукт самый чистый и самый последовательный недавнего прошлого, продукт, явившийся именно там, где прошлое особенно блистало своими наинепривлекательнейшими сторонами. Беру из моей книжки наудачу небольшой отрывок, записанный со слов одного русского человека, лет под тридцать, встреченного мною за границей года два тому назад.








