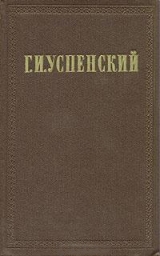
Текст книги "Без определенных занятий"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Итак, я ехал, молча смотрел, молча слушал; очень мало видел, а что и слышал, то меня весьма мало интересовало и, во всяком случае, вовсе не волновало. Но едва я раскрыл рот, чтобы сказать слово соседу, как немедленно же наткнулся на шпильку, пущенную в меня из какого-то неведомого мне, но несомненно враждебного источника или побуждения. Проезжали мы мимо какого-то монастыря, расположенного в весьма живописной местности. Место мне понравилось, и я захотел узнать, как оно называется и что это за монастырь? С этим вопросом я было обратился к соседу, по виду похожему на торговца, человеку лет пятидесяти, доброму, опрятному и с физиономией весьма благоприличной; ничего не было в ней ястребиного, а напротив, было очень много рассудительности. Вот к этому-то соседу я было и обратился с моим вопросом, но не успел я произнести и всей фразы, то есть не успел выговорить этого вопроса: "Что это за монастырь?" – а едва только выговорил: "Что это…", как благообразный торговец, не дав мне окончить вопроса, впился, так сказать, в мои слова "что это…" и, видимо не желая слушать вопроса до конца, с ядовитою ласковостью в выражении губ поспешно заговорил:
– Это-с? А это, милостивый государь, по-нашему, по-мужицкому, называется божий храм! Да-с, храм господний! Как это самое по-вашему, по-благородному, называется, нам – уж извините – неизвестно, потому что мы мужики, а мужики, милостивый государь, само собой, не более есть, как набитые дураки…
Я с недоумением поглядел на соседа, не зная, как объяснить себе это нежелание слышать вопросы и этот язвительный тон речи.
Нимало не смущаясь моим недоумевающим и пристальным взглядом, благообразный сосед глядел на меня в упор, прямо мне в глаза, глядел пристально и продолжал уже не без некоторой доли жесткости в голосе:
– Но хоть мы и мужики и дураки, а мы, по нашему глупому мнению, так считаем, что коль скоро увидим храм господний, то вот эдаким вот манером шапочку-то снимем (он снял шапку), да крестное знамение-то сотворим (он перекрестился) и раз, и два, и три… Вот эдаким вот манером, почитаем мы, что следует нам поступать, по нашему, по мужицкому, по дурацкому мнению… Ну, а как по вашему, по благородному, по ученому мнению, уж этого нам неизвестно, извините. Потому мы неучены, а только что помним мы бога, чтим его, боимся, со страхом благодарим… А уж как господа понимают – ну, это нам неизвестно…
– По нашему, по мужицкому мнению, – заговорил уже другой голос позади меня, и заговорил гордым, уверенным тоном, – мы так считаем, что это есть монастырь святителя, отче Антоние папы Рымского, который из города Рыма на камение проплыл вплоть через Санкт-Петербург… Так мы по глупости своей считаем… Позвольте ваш билетик!
Этот второй пособник первого моего соседа оказался служащим на пароходе и, отрывая кончик билета, также упорно смотрел мне "прямо в глаза" и говорил уж совершенно наставительно.
– Извольте получить билетик… Антоние, следовательно, папы Рымские-с, милостивый государь, так мы полагаем, по глупому нашему смыслу…
Тут я решился возразить.
.– Этот Антоний вовсе не был папой! – осмелился я проговорить.
– Ну вот-вот-с! – заговорил первый из моих враждебных собеседников. – Вот вы, милостивый государь, человек ученый, образованный, вот вы и знаете уж, что не так, то есть, по-дурацкому, по-мужицкому мы мужики-дураки думаем… По-вашему, мы есть дураки, а по-нашему, по-глупому, мы так полагаем, что надобно почитать святых угодников, и полагаем так, что святители отче Антоние, Рымские папы, на камение прибыл, то, следовательно, как угодника божия, мы его чтим и молимся ему, чтобы простил бы и помиловал наши согрешения… Н-ну, а вы, так как вы имеете, благородное образование, так для вас, я так думаю, что ничего это не составляет…
– Я не понимаю, что вы говорите! – сказал я.
– То-то и есть, я говорю: дураки мы! И где же нам, дуракам, понимать, как должно по наукам, чтобы, например, не чтить святых угодников? Для нас, для мужиков, так представляется, по нашей глупости, что который человек имеет веру в бога, тот и в мыслях своих имеет, например, совесть… А который…
– Что ему бог-то! – вдруг перебил какой-то рыжий верзила сильным, режущим ухо, басом: – иному бог, а иному приятнее чорт… С чортом-то иному много будет поприятнее иметь свои каламбуры… Чорт-то, ведь он, брат, тоже учен…
– Нау-учит хорошему! – послышалось откуда-то из-за спины у верзилы…
– А может быть, что и так бывает, как вот он сказывает, – продолжал первый из собеседников. – Конечно, что мы глупы, ничему не учены, но только мы знаем от наших прародителей, как бы искони – бе бог, то мы и чтим и благодарим, и за хорошее благодарим и за худое, потому всё от бога. Хотя мы и дураки, но мы в поте лица несем наши труды, семейства, заботимся и терпим, потому так установлено богом, и господь нас не оставляет: были мы вот крепостные, а теперь господь нас освободил, и, следовательно, мы должны его славить и благодарить; так по-нашему, по-глупому, по-дурацкому… А по вашему, по-благородному, по-ученому, вишь, вот не так… Антоний не Антоний, храм не храм, а "что, мол, такое?" (он передразнил мой вопрос), работать, вишь, не надо, повиноваться не надо, бояться тоже не резон, а живи в свое удовольствие… Ну, вот мы и думаем, что господь в таких делах – не указчик…
– Чорт имуказатель, больше ничего! – отрезал верзила. – Бог на этакие пакости не надоумит, а чорт с удовольствием!..
– Конечно, дьяволу приятны поганые ихниепоступки; что говорить! Это злодейство для него первое удовольствие. Господь нас, раб своих, из рабства, за наши мучения и слезы, освобождает, а дьявол-то – эво чего норовит! – чтобы, например, на оборотку! Ну, только нет, навряд!.. Хоша, конечно, ученому народу и приятнее, чтобы, значит, на прежних правах; но господь милостив и щедр, а бес сокрушится, яко воск… Так вот мы и думаем, по глупому нашему уму, и чтим, и молимся, а которые есть люди, покорные дьяволу, так тем зачем бога почитать? Мы вот, дураки-то мужичье, как видим храм, так и снимем шапочку, да низенько поклонимся… А вам зачем?
Последняя фраза была сказана с ужасным ехидством.
– Вот ученым, – загремел верзила, – написать бы себе чортову харю, да и почитать ее как своего заступника. Я так думаю, что это будет, по вашему уму, правильно… А мы, мужики, будем богу поклоняться, а чорта по шее долбить, доколе он не расточится, как последняя свинья. Вот как надо по-нашему.
– Закатил емухорошего леща, – произнес какой-то посторонний слушатель, очевидно плохо вслушивавшийся в разговор, но, несомненно, имевший «собственное мнение» относительно «главного» предмета разговора, – засветил емузвезду по уху – вот тебе и права!
– А кто ж на лежачих лесорах будет ездить? – вмешался новый собеседник, также имевший "собственное мнение".
– Да мы с тобой! Ты думаешь, не сумеем? Не беспокойся!.. А то права!.. Я б тебе показал, пузастому чорту, право!.. Погляди-ка, какие у них у всех пузы-то! все мало. "Подай назад…" Н-ну, нет, брат, погоди, повремени…
Разговор мало-помалу сделался общим, причем всякий хотя и говорил, повидимому, как бы что-то совершенно особенное, самостоятельное, не подходящее к тому, что сказал предшественник, но какая-то неразрывная, трудно уловимая нить соединяла все эти разрозненные мнения и фразы; что-то совершенно определенное, всем понятное лежало в глубине этих разглагольствований, казавшихся на первый взгляд почти бессмыслицей. Именно это что-то, скрытое от моего понимания, и ощущалось мною как нечто враждебное, неприязненное, ощущалось тем с большею неприятностью, что все разговаривающие, очевидно, имели меня предметом своего суждения, хотя большинство и не обращалось ко мне в своих рассуждениях. Разговаривая друг с другом, они смотрели на меня; при словах: "им", "ихние" и т. д. в мою сторону адресовался кивок или ядовитый взгляд. Очевидно, что в моей фигуре, в моей внешности они нашли какие-то общие, всем им хорошо известные признаки человека, над которым не только можно, а даже должно упражнять свои критические способности и практиковать критические взгляды. Я был точно на суде, точно подсудимый, и решительно не знал, как выпутаться из этих сетей, которыми опутала меня публичная критика. К счастию, в самую трудную для меня минуту пароход подъехал к какой-то деревне, где я решился выйти. Но в то время, когда я спускался по железной лестнице в лодку и отдал билет тому человеку, который уязвил меня во время пути, человек этот не преминул уязвить меня и еще раз.
– Слезаете? – спросил он. – Доброе дело-с… Так, так-то-с! По-нашему-то будет святители отче Антоние, папы Рымские, а по-вашему, пожалуй, и не требуется этого… Оченно жаль-с… А по-нашему так.
К счастию моему, я был уже в лодке, которая стала медленно отъезжать от парохода, и не слыхал, какие такие язвительные шпильки пускал мне вдогонку один из моих неожиданных преследователей. Но этим эпизодом злоключения мои не только не кончились, а, напротив, только начинались. С парохода я мог еще уйти; но что я мог и могу сделать в глухой деревушке, где я поселился, где меня никто не знает и где благодаря тому обстоятельству, что в моем паспорте значится фраза: "бывший студент", "учитель", – сразу определилась во мнении деревенского общества самая зловредная, самая не популярная, а главное, не подлежащая ни малейшим сомнениям в зловредности, сторона моих нравственных свойств. "А, студент! – сказал сельский писарь, прочитав вид. – Так!" Неграмотные мужики только поглядели на меня исподлобья и стали переглядываться друг с другом и писарем. Слово "так" писарь произнес таким тоном, что оно совершенно ясно для всех выразило такую мысль: "А-га! вон куда ихстало заносить!.." Я отличнейшим образом понимал смысл всех этих взглядов, всех этих «тонов», которыми говорились, повидимому, самые обыкновенные вещи, понимал, что в глубине этих взглядов и обыкновеннейших разговоров лежит подозрительность не собственно ко мне, которого никто не знает в этих местах, а к целой, огромной группе известного сорта людей, в которых сосредоточивается все, что народ почитает опасным. Я все это уже видел, чувствовал и хотел бы что-нибудь сказать в свое оправданье, да не мог, не знал, как начать, да, наконец, мне и сообразиться-то не давали порядком, потому что шпиговали на каждом шагу. Я молчал, сидел либо в своей избе с книгой, либо с книгой уходил на реку – и везде меня настигало шпигованье. И в этом шпигованье – а главное в тенденции-то шпигованья – все: и бедный, и богатый, и власть деревенская и деревенская безгласность – все как один, все согласны, все напирают на одно и видят зло в одном и том же.
Лежу я на этой самой зеленой травке, и вдруг развязной поступью подходит ко мне деревенский пролетарий; он в рваной рубахе, рваных штанах, он бос и наг; я же нанял его сделать мне кровать; я же дал ему на выпивку "для начатия" работы – и он же, выпив, первым долгом является критиковать меня, его заказчика.
– Извините, господин, – говорит он, точь-в-точь как все,смотря мне смело и прямов глаза и, как все,загадочно смело улыбаясь, – извините, что мы вас спросим… Позвольте узнать, как будет ваше, например, звание?
– Зачем вам?
– Да собственно, чтобы знать-с. Например, откуда, как?.. В нонишние времена, сами знаете, оченно много разных шарлатанов оказывается.
– Я приехал жить летом на даче, – категорически отвечаю я. – Мне надо пожить в деревне для здоровья.
– Так-с… Стало быть, из Петербурга к нам для здоровья собственно?
– Собственно для здоровья. Видишь, какой здесь воздух-то! Вот мне и хочется подышать.
– Воздухом-то-с?
– Да, воздухом.
– Ну, а в Петербурге-то нешто нету воздуху-то?
– Есть, да скверный.
– Ишь ты ведь! Стало быть, для воздуху?
– Да!
– Так-с. По машине приехали, насчет, например, воздуху?
Молчание.
– Очень приятно…
Молчит и смотрит на меня, как говорится, "в оба".
– Что ж ты, работаешь кровать-то?
– Мы работаем-с. Не сумлевайтесь… Будет исправно.
– Пожалуйста, поскорей… Шел бы ты работать!
– Слушаю-с.
И все-таки стоит и смотрит в оба. Наконец нехотя идет и говорит:
– Н-ну, очень приятно… Воздух у нас мягкий… Коли ежели вам приятно насчет воздуху… Да мы так только, любопытствуем: кто, мол, такие? Так насчет воздуху – это превосходно! А кровать будет готова, не сумлевайтесь.
Идет.
– Для воздуху?.. Ловко! Из Петербурга… Та-а-ак.
На полдороге остановился, поглядел на меня, посвистал весьма развязно и наконец-таки ушел.
Ушел пролетарий, является туз, старшина, богач.
– Бог помочь, – говорит он, входя в избу, и, едва я ответил на приветствие, хочу ему подать руку, как он с улыбкой (та самая улыбка,всеобщая) произносит:
– Перво-наперво позвольте уж нам наш мужицкий закон соблюсти, богу помолиться, а потом уж и вашу ручку примем. Уж извините! Такое у нас, у мужиков, у дураков, глупое обыкновение.
Он помолился на образа, повесил картуз и сказал:
– Ну, вот теперь позвольте познакомиться.
Следуют те же самые вопросы: откуда, зачем и т. д.
Но на этот раз некоторые из моих объяснений проходят без подозрения. Старшина, как человек бывалый, уже понимает, что "для воздуха" можно приезжать из Петербурга даже и по машине и т. д.; но вот заходит речь о паспорте, о том, что в паспорте стоит слово "студент" и другое слово "учитель", и дело принимает другой оборот.
– Я удивляюсь, – говорит старшина, – чему только в нонешние времена учат ученых людей! Я к тому, извините, что вот у вас в паспорте сказано "учитель"; ну, вот мне и пришло на мысль… И чему только, я удивляюсь, учат нонича? Двадцать лет его трут и мнут, а – скажите вы на милость – появляется по окончании этого самого курса столь бессовестный человек, что он даже, извините, лба не умеет перекрестить… Я вас, извините меня, не знаю; кто вы такие, мне неизвестно, может быть вы и бога почитаете, опять же я не знаю. Я должен прийти взять бумаги, потому, по нонешнему времени, сколь много шарлатанства… Я не про вас говорю, а только к слову, что сказано вот тут "учитель" – ну, и я к слову насчет, значит, разных подлецов прочих упомянул… Ведь иной бессовестный человек, иной раз встанет утром, рожу свою поганую не умоет – сейчас зажег папиросу или там цыгару, подбоченился, засвистал: фю-фю-фю, шапку в горнице надел, ходит перед образами как ни в чем не бывало… Ведь вот какие есть мазурики! Был у меня "тоже", вот как и вы,этакой бессовестный учитель… Среда, пятница, Петров пост – ему это и внимания не составляет! Земство прислало – дай бог ему здоровья – там тоже всё ученые люди, высчева кругу-смыслу. Пост не пост – пошел на погребицу, облапил горшок молока – лакает, как свинья. Извините, уж я с вами говорю прямо: я пришел к вам по делам; хотите, слушайте меня, хотите нет, а что я пришел – то потому, что я начальник здешний. Вы барин, а я мужик, но я все же ваш начальник, и пришел я по делам; а не угодно меня слушать – как угодно.
Я просил говорить; говорил, что я все это понимаю и признаю его власть и т. д.
– Так вот каких нониче шарлатанов натворили! А считается учитель, тоже деньги получает. Он – бессовестный, лба перекрестить не умеет, а учитель! Чему же он может учить? Я бы его самого растянул в волости – да, вишь, тоже нельзя, заступятся; я так считаю, что это все одна шайка, рука руку моет, чтобы дух шарлатанский распустить по свету, а тем временем… Мы тоже слышим и видим, сделайте одолжение. А впрочем, очень приятно познакомиться. Воздух… что ж? Ежели насчет воздуху – ничего… сколько угодно. А за глупые наши мужицкие речи уж не взыщите, потому мы не ученые, а мужики-дураки, следовательно, и умных речей у нас нет. Ну, а какие есть, не взыщите. У нас тут воздух; вполне можно сказать, может освежать, например… До свидания-с!
Ушел, но этим не кончилось: на дворе, где мужик-пролетарий делал мне какую-то нелепую кровать, завязался общий оживленный разговор обо мне и о моих, всем ясных, всем враждебных свойствах. Замечательно, что и богач-старшина, и мужик-хозяин, и баба – все были как один человек. Но пуще всего меня волновало то, что пролетарий-то и был особенно неумолим в подозрительности.
– Слушай ты его, – азартно говорил он старшине, не переставая работать, – ты его послушай, он тебе наплетет… Учитель! Коего ему дьявола воздуху понадобилось за полтораста верст от Петербурга? Ты за ним должен глядеть в оба!.. Они мастера разговаривать-то – воздуху!
– Ну, будет тебе, – урезонивал его старшина, – тебе говорят, дураку: на дачу приехал; разве мало ездит господ?
– То-то много – не мало! Я про то и говорю: много, мол, их, шарлатанов. Он вот приехал насчет воздуху. А что у него на уме?
– Ну, что?
– Да! Что? Ты начальник, ну-ка говори, что? Знаешь?
– А ты знаешь?
– Я-то? Я его насквозь вижу.
Каким образом, через несколько времени такого разговора, плотник-пролетарий нашел возможным провозгласить на весь двор фразу о том, что "они,в прежние времена, людей на собак меняли, нам это хорошо известно", я решительно не понимаю и совершенно не могу выяснить себе направления мыслей плотника. Но фраза была произнесена громогласно и поддержана подобными же примерами: поддержал и мужик-хозяин, и хозяйка-баба, и даже старшина. Пролетарий-плотник будоражил публику больше всех. Когда была готова кровать, я дал этому моему ненавистнику на водку, дал я ему хорошо и надеялся, что он снизойдет ко мне и перестанет относиться ко мне с озлоблением, которого я ровно ничем не заслужил. Но я жестоко ошибся; плотник выпил «на все» и поздно ночью появился около моей избы.
– Эй! – кричал он мне с улицы. – Учитель! Поди-ка сюда. Иди, что ли? Н-ну, будет тебе, перестань, ид-ди! Я бы тебя поучил малым делом. Поди, я тебе дам наставление… Чего молчишь-то?
– Будет тебе орать-то! Не нашел время днем! – остановил его голос хозяина. – Чего орешь? Спит он.
– Спит? Ну, пускай: пес с ним. Пускай. А то бы я его вопросил бы о предметах. Пущай бы отвечал. Ну, пес с ним… Я бы ему показал, как человека на собаку менять… Я бы его научил… Ну, пес его дери…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Таким образом, на первых же порах моего пребывания в деревне я не мог не убедиться, что в настоящее время в народной массе бродят какие-то не вполне ясные для меня идеи, которые сплачивают ее в полном единомыслии. Во имя этих идей народ может "как один человек" поступать. В этом я убедился, несмотря на то, что лично ко мне враждебность окружающих меня лиц поутихла, хотя и не прекращалась. Следовало бы здесь рассказать про одного прохожего старика, который раскрыл мне господствующие теперь в массе идеи в полной законченной последовательности; но этот старик так великолепен, что я посвящу ему особую главу. Теперь же я ограничусь сказанным.
"Боже мой! как мне доказать им, а в особенности вот этому плотнику-пролетарию, что я вовсе не то, что они обо мне думают?" – думал я не раз, чувствуя ежедневно, ежеминутно тяжесть какой-то враждебной подозрительности во всех деревенских обывателях.
Они, правда, ужне разглагольствовали со мной открыто, они могли проходить мимо меня; но это было еще хуже: упорный, подозрительный взгляд каждого из них всегда останавливался на мне, долго пронизывал меня и нимало никогда не смягчался.
"Отдыхать" на травке при таких условиях было в высшей степени неудобно. Наконец желанный случай доказать, что я не "шарлатан", представился мне совершенно неожиданно. Но результаты, получились совсем не те, каких я ожидал. Об этом неожиданном случае я расскажу дальше.
VI. СВОЕКОРЫСТНЫЙ ПОСТУПОК
1
«Итак, – думал я, – что же такое должен я сделать, чтобы снять с себя, в общем мнении людей деревни, подозрение в злонамеренности?»
Меня, без всякого сомнения, глубоко радовало то новое (для меня) явление сплоченности деревенских людей, которое обнаруживается в настоящее время в ревнивом оберегании "мужицких правов", но право же, думалось мне, они "не на того" напали, и не я тот человек, который таит в душе своей злостные относительно этих "правов" намерения… Чтобы доказать это подозрительным деревенским людям, очевидно, необходимо было совершить какой-нибудь такой поступок, который бы сразу, и притом для всего сплошьподозрительного деревенского общества, показал мои подлинные желания и взгляды по отношению к ним, деревенским людям, моим новым знакомцам и неожиданным врагам. Необходимо было притом совершить такой поступок, который бы обнаружил мои намерения без разговоров,так как именно только «за разговоры в деревне»на Руси, как известно, сгибло немало народу, а я просто хотел отдыхать на травке, а насчет погибели не думал спешить, потому что, казалось мне, и так я уже почти погиб… Поступок, не сопровождаясь разговорами, должен был в то же время иметь то свойство, чтобы при всеобщейподозрительности, при всеобщейсплоченности в недоверии и ревности к правам давал бы также всеобщее,то есть для всеходинаково доступное представление о том, что я не крамольник и не враг вообще крестьянского благополучия, необходим был, следовательно, поступок, как говорится, просто «благородный». Раз всеменя подозревают, надо, чтобы и подозревать перестали также все,а для этого и надобно было поступить «вообще» благородно. А так как и за благородные поступки также на Руси сгибло несметное множество благороднейших людей, то необходимо было придумать такой благородный поступок, чтобы он, во-первых, был меньше булавочной головки, а во-вторых, чтобы он обладал свойством полнейшей неуязвимости, чтобы под него никто не мог подкопаться, придраться или «прицепиться». Соединив все сказанное выше в одно целое, читатель, надеюсь, поймет, что задача, которую задало мне новое течение деревенской мысли, была весьма затруднительна: я должен был совершить такой поступок, который, во-первых, должен быть общепонятен, во-вторых, неуязвим, в-третьих, благороден, в-четвертых, меньше булавочной головки, и, наконец, в-пятых, поступок этот в общей сложности должен был так ли, сяк ли дать деревенскому люду представление о том, что я, неизвестный для них человек, не таю против них зла.
Что же такое должен был я сделать?
Долго ломал я голову и, вероятно, не пришел бы ни к какому результату, если бы меня не выручила совершеннейшая случайность. Именно: понадобилось мне быть как-то в Петербурге, и здесь, у одного из приятелей, я совершенно случайно встретил, в числе разных книг, разбросанных на письменном столе, небольшую брошюру об оспопрививании и, просматривая ее, узнал, что в Петербурге, в императорском вольном экономическом обществе, можно получать оспу бесплатно, так как давно уже образовался какой-то капитал, на проценты с которого оказалось возможным устроить даровую раздачу оспенной материи. Сведение это сразу вывело меня из затруднительного положения. Я вспомнил, что перед отъездом из деревни я как-то слышал от старшины, что он тоже собирается ехать в Петербург и, между другими делами, которые думал сделать в Петербурге, хотел также купить для волости и оспы. Сделаю, думал я, это дело для деревни. Я – посторонний человек, и хотя поступок этот будет весьма ничтожный в смысле общественной пользы, а все-таки будет, во-первых, полезный поступок, во-вторых, даст деревне возможность взглянуть на меня не с худой, а с доброй стороны, а в-третьих, такой поступок никого не может обидеть, и всякий должен сказать: "хорошо". Авось, думалось мне, крестьяне переменят обо мне мнение, когда узнают, что я, которого они считают в числе ненавистников ихнего благополучия, вспомнил о них в Питере, вспомнил о их недостатках и добыл бесплатно такую вещь, за которую они до сих пор, как мне известно, платили деньги. Хотя дело, которое я задумал сделать для них, было решительно микроскопическое, но его никто из крестьян не будет в состоянии объяснить каким-нибудь худым побуждением, а мне, в моих стеснительных обстоятельствах, ничего иного и не требовалось. Не утаю от читателя, что личный расчет, руководивший мною в этом "благородном", с "булавочную головку" поступке – расчет на то, что поступок этот, давая крестьянам некоторый намек на присутствие во мне добрых намерений, умягчит их сердца и мысли и даст мне возможность хоть неделю полежать на травке именно так, как я об этом мечтал, этот личный расчет побудил меня дать моему поступку некоторую огласку. Нужда, говорит русская пословица, научит кирпичи есть; та же нужда учит есть и калачи, она же и меня научила тому, что известно под выражением: рожь на обухе молотить и соринки не обронить. И точно: лишь бы только выбраться из-под гнета незаслуженного недоверия, ни единой соринки из такого ничтожнейшего "поступка", как трубка с телячьей оспой, я не проронил. Возвратившись в деревню с оспенными трубочками, я постарался сделать так, чтобы они достигли рук оспопрививателя, описав по деревне, по возможности, значительный круг и пройдя чрез многие руки. Для этого я вручил трубочки крестьянину совершенно мне незнакомому, даже из другой деревни, дал ему двугривенный, с тем чтобы он отнес эти трубочки знакомому мне пролетарию, чтобы пролетарий передал их старшине, а уж старшина передаст их оспопрививателю. При этом, давая двугривенный, я просил незнакомого крестьянина передать пролетарию на словах следующее:
– Скажи ему, чтоб он передал эти скляночки старшине и сказал бы ему, что не надобно ездить в Петербург и тратить крестьянские деньги. Я вспомнил, что вам надо, и достал бесплатно. Ни копейки не стоит. Зачем напрасно тратить деньги? Крестьянам деньги нужны. Пусть скажет старшине, чтобы не ездил, не тратил. Сколько угодно дают бесплатно…
Несколько раз повторял я ему одно и то же, всякий раз сокращая речь, так что в конце концов крестьянин ушел от меня, неся в памяти своей только представление о том, что вот "за это прежде платили деньги, а теперь бесплатно" и что я, именно я, Лиссабонский, «вспомнил»об этом, я, Лиссабонский, не захотел, чтобы деньги тратились даром.
Такого шарлатанства я бы никогда прежде не позволил себе, да никогда оно и не пришло бы мне в голову, вероятно потому, что мне никогда также не могло прийти в голову, чтобы меня-то, меня, Лиссабонского, человека, именно из-за сочувствия деревенской нужде обреченного остаться вне общества, человека, вынужденного скитаться, не имея определенных занятий, чтобы меня-то мог деревенский человек заподозрить в желании воротить крепостные порядки. А раз это случилось, надо было подниматься на хитрости.
Хитрость моя удалась как нельзя лучше в том отношении, что трубочки с оспой действительно достигли рук оспопрививателя не прежде, как побывавши в десяти других руках, причем передача из одних рук в другие сопровождалась комментированием моих слов "бесплатно", "вспомнил", "напрасно не тратить денег". Результаты этой уловки не замедлили обнаружиться, но, увы, они были вовсе не те, которых я ожидал! Моим бесцветным, микроскопически "благородным" поступком я хотел примирить с собою до некоторой степени веськрестьянский мир, так как он весь,всей массой, «все как один»,напирал на меня в своей подозрительности. Но, увы! поступок мой в сотый раз доказал мне, что единение полное и плотное в недоверии к крепостническим злоумышлениям, подозреваемым крестьянином во всяком человеке, который носит сюртук, есть то самое плотное единение, которое сковывает нацию перед чужеземным неприятелем, и что, раз дело коснется интересов обыкновенного жизненного обихода, нет того, что называется «масса», нет сплошной толпы, нет мысли, проникающей всех и вся однообразным сочувствием ей или несочувствием… В сотый-тысячный раз убедился я, что если народ носит одинаковые полушубки, одинаковые бороды, пашет одинаковыми сохами и косит одинаковыми косами и т. д., то это вовсе не означает, что он «масса», что он одинаково думает, исполнен одинаковыми желаниями, что вообще нельзя «любить» сплошь всю деревню, хотя бы у нее сплошь у всей были «ядреные щеки» (тоже свойство народное) и т. д. Вы видели, какой почти бесцветный поступок совершил я, полагая, что веськрестьянский мир скажет за него: «хорошо». Однако посмотрите, что вышло.
Входит ко мне в избу деревенский туз, старшина.
– Доброго здоровья!
– Здравствуйте.
– Зашел на минутку. Присесть позвольте.
– Пожалуйста… Там, я послал вам…
– Как же-с! Как же! Получили… Благодарим покорно! Очень благодарны… "Вспомнили-с!.."
Он отер платком лицо и не без тонкой иронии проговорил:
– Будучи вы в столице, изволили вспомнить наших мужичков…
– Совершенно случайно…
– Прекрасно-с. Это доказывает ваше внимание… Так как дело это нисколько вас не касающее, потому мы сами завсегда знаем, что требуется, а, между прочим, вы имели такое внимание, что вспомнили, то мы и считаем это… как ваш благосклонный поступок… Очень благодарны-с!
– Помилуйте, ничего не стоит…
– Нет-с, что же-с! Мы понимаем… Должны ценить… Бесплатно-с… Это мужичкам будет приятно… Да-с. Это для них первое удовольствие… Теперича они эти двадцать там или тридцать рублей, которые на оспу шли, пропьют у кабака. Как же? Экономия!.. Чистый барыш! Ну, само собой, и надо нажраться… Хе-хе-хе…
Гость мой как будто начинал слегка раздражаться.
– Вы уж меня извините-с, я – мужик, говорю по-мужицки, может, моя речь для вас оказывает как грубость, а уж извините – позвольте вам упомянуть – "нехорошо-с!" Оченно для меня неприятно… Конечно, вы от доброго сердца, а так как вы не знаете наших делов, то уж извините, хотите сердитесь, хотите нет, а уж скажу: "дурно!", очень дурно поступили!
– В чем же?
– Позвольте вам сказать – вы наших делов не знаете… Теперь спрошу вас: ежели вы имели такое внимание, зачем вы прямо мне в руки не отдали?.. Кто начальник?
– Вы!
– Почему ж вы отдали мужичью?
– Вас не было, кажется…
– А вам, коль скоро вы так благосклонны, а вам погодить бы-с! А вы еще изволили назудить им "бесплатно". Зачем-с?
– Действительно ведь бесплатно…
– Знаю-с, оченно знаю! Я про то говорю, зачем вы им внушаете вредные мнения?.. Они и так уж избаловались, негодяи, а вы им эдакое мнение внушаете… Кабы ежели бы вы знали наши порядки деревенские, так вы бы старались внушить им добро, а не зло, а вы их утверждаете в глупом мнении… Ведь они, канальи этакие, и так ничего знать не хотят, ведь за них, подлецов, сколько раз я в холодной-то сидел – за недоимки? А вы им – "бесплатно!" Я, по-ихнему, и так уж из воров вор… Послушать их, так я их каждый день обкрадываю, – и податей много беру, и земских много, беру да в свой карман кладу, потому что для них, канальев, нет лучше, приятнее удовольствия, как чтобы не платить ни копейки… А вы им воткнули в глупые ихние башки эдакой, например, предлог, что "бесплатно!" Ведь теперича они как загалдят-то! Теперича заикнись я им что-нибудь касательно денег, податей или чего прочего, ведь у них есть предлог: "даром, мол, брал, а деньги в карман клал". Нет-с, уж извините, а сказать, что вы хорошо поступили – этого по совести сказать не могу… Нет, нельзя этого сказать, нельзя-с!








