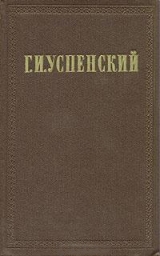
Текст книги "Без определенных занятий"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
IV. КАНЦЕЛЯРЩИНА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В НАРОДНОЙ СРЕДЕ
1
Рукопись, которую мне принес Лиссабонский, представляла собою такую путаную массу разношерстных фактов, такую массу беспорядочно исписанной бумаги, что передавать ее в подлиннике нет никакой возможности. Все сбито здесь в кучу; Карл Маркс сменяется каким-то волостным писарем, а за рассуждением о джутовом мешке следует тирада о самоубийстве; газетные известия, касающиеся самой последней минуты текущей действительности, перемешиваются с воспоминаниями детства, явления русской жизни, без всякой видимой связи, сменяются рассуждениями о европейской политике и т. д. Очевидно, что Лиссабонский хотел сказать все,что у него накопилось на душе, но не мог выполнить этого, сбиваемый, во-первых, явлениями и вопросами дня и, во-вторых, обилием накопленного горьким опытом жизни материала. На замечание мое о том, что рукопись, доставленная Лиссабонским, есть верх безобразия и беспорядочности, последний нашелся мне ответить только следующее: «Да! Переживи-ка ты на своей шкуре российский культур-мордобой… так я и погляжу, какая там у тебя выйдет беллетристика…» Кое-что, однако, в этой беспорядочной куче наблюдений, признаний и рассуждений, наскоро нахватанной Лиссабонским, пришлось мне по вкусу, и я решился сделать кой-какие выборки, чтобы познакомить с ними читателя, надеясь, что он примет во внимание упомянутый выше «культур-мордобой» и не будет взыскателен к не вполне удовлетворительной форме изложения этих отрывков.
2
"…Так вот о бесчеловечии-то, о бесчеловечности, лежащей в основании всех общественных и даже семейных отношений, о бесчеловечности, первенствующей и почитаемой «главным» почти всем обществом, и почти во все времена, и почти во все часы даже до сегодняшнего дня… Для более ясного представления плодов и последствий этой системы отношений я хотел взять материалы из собственной своей биографии, то есть на себе показать, как обесчеловечивающая политика отразилась на мне, как она выражается в моих взглядах на семью, общество и как из коллективного соучастия миллионов таких же, как и я, государственных атомов выходит в конце концов та адская скука, та жестокая безжизненность, та именно жесточайшая скуловоротная история, вся сочиненная из какого-то беспрерывного стремления к «устроению» (как лучше!), тысячелетним результатом которой является всеобщее в самые последние дни русской жизни сознание, что не только ничего не устроено, но что даже ничего еще и не начато как следует и что никакого здания нет и не было. Показать душегубительные результаты этой политики на какой-нибудь отдельной личности, и лучше всего на себе самом, мне казалось делом весьма удобным, а главное, легким в смысле литературной работы: рассказывай просто свою биографию, факты личнойжизни, а там уж всякому и будет видно, насколько личная жизнь эта потерпела от обесчеловечивающей политики. Но можете представить, что в то самое время, когда я пишу эти строки, я уж чувствую, что задача, представлявшаяся мне легкой, необычайно усложняется и делается необычайно трудной, и как вы думаете, почему? Да потому, чувствуется мне, что именно личной-то биографии у меня и нет никакой… Ведь чего бы, кажется, проще начать речь самым простым манером, примерно так: «Я родился на берегу реки Непрядвы, протекающей по прекрасной долине. Отец мой был человек крутого нрава, хотя и имел нежное сердце, и т. д.» Чего бы проще? Но вот подите же; мне почему-то кажется, что именно эти-то личные подробности, что все это мелочи… Посмотреть на них объективно, отнестись по человечеству и к своим детским годам, и к отцу, и к матери, и – к красотам Непрядвы и т. д. – все это представляется мне ничего не стоящим. Кому какое дело до твоего детства, до отца и матери, до красивого вида речки, впечатление которого, быть может, живо во мне и теперь?.. Все это вещи «чисто личные», а потому, разумеется, не стоящие и медного гроша… Да и в самом деле, обозревая весь этот «личный материал» биографии моей, я нахожу что-то скомканное, смятое, растоптанное и попранное, как ничтожество, и – чем? Чем-то беспрестанно моей личной жизни враждебным и, главное, – не нужным ей ни капли… Ведь вот и сию минуту: представляется мне, что если я вместо разговора о детстве, о впечатлении речки и вообще вместо разглагольствований о всех этих пустяках заведу речь, например, хоть бы о джутовом мешке и вредном влиянии, которое он должен иметь на развитие кустарно-мешочного промысла, и займусь изложением моих чувств и огорчений по поводу этого Тамерлана, идущего на наших несчастных деревенских баб, то я буду достоин внимания читателя, хотя джутовый мешок лично меня вовсе не касается… Мне даже кажется, что, говоря о джутовом мешке, а не о своем несчастном детстве, я именно говорю о гораздо более существенном, более достойном внимания, чем если бы говорил о каких-то нравственных личных муках. Представляется мне, что без помощи чего-нибудь «серьезного», вроде поведения моего в каком-либо «мероприятии», мне даже и нет возможности возбудить внимания читателя ко мне как к человеку, существу живому, живущему личною жизнию. Недавно, в этом роде, на меня произвел довольно сильное впечатление один факт. Один мой товарищ, очень молодой человек, написал повесть из народной жизни; когда мы ее прочитали вместе, то оказалось, что главнейшее внимание автора сосредоточивалось не на людях, которых в повести было выведено много, разного пола и возраста, а на том, как эти люди обнаружили себя в выполнении какого-то казуистического положения по имущественному праву (что-то о разделе одного теленка между тремя наследниками). Казалось, что автору все выводимые им лица интересны только в той мере, в какой они оказываются сведущими в вопросах канцелярско-общественных знаний, а не просто как люди и как человеки. Не знаю, быть может я и не прав, только «такие» проявления деревенской общественности не только меня не радуют и никогда не радовали, но, напротив, постоянно повергают в уныние, ибо кажется мне, что все в настоящее время доступные деревенскому миру «общественские» дела – до такой степени сведены на мелочи, и притом мелочи, поистине канцелярские, что при всем совершенстве разработки этих якобы «общественских» дел они именно лишены как жизненных источников для своего питания, так, само собою разумеется, и жизненных результатов. Не пишут ли в наших канцеляриях целые вороха всевозможных бумаг, и притом о сущем вздоре; чтобы вытребовать, положим, паспорт из деревни, сколько надобно исходить разных мест, подать бумаг и т. д. Спрашиваю я: можно ли, по справедливости, назвать людьми, живущими в самом деле «общественными» интересами, тех чиновников, которые исписывают тысячи листов бумаги, вытребовывая паспорт или вчиняя иск о выстроенном не по плану здании? А ведь если не все эти мученики бумажного и чернильного дела, то некоторые из них занимаются своим делом, страстно, самоотверженно. Поглядите-ка вот на этого «чиновника», исписавшего по сущим пустякам тысячи листов бумаги и ведро чернил: он мученик, он зелен весь и болеет; у него геморой, согнутая спина! Он до того предан этим бумажным делам, что личные семейные дела его отодвинулись на двадцатый план: дети его растут кой-как, в доме беспорядок, скука, ссоры с женой; придя домой отдохнуть, он уж думает, как бы уйти в канцелярию; там нет ни шума ребят, ни их глупых вопросов, а есть «дела», то есть бумаги, любимые занятия, писание любимых пустых фраз и т. д. Когда такой человек умрет, не будет пустой фразой, если сотоварищи назовут его тружеником, который весь отдал себя «службе»… Ведь, право, в этом роде есть личности героические, но когда посмотришь на эту нищенскую, оставшуюся без куска хлеба семью, на этих кой-как ученых, запуганных детей, которым покойник «не имел времени» уделять самого поверхностного внимания, которым за служебными занятиями отказывал в ласке, в заботе о развитии и будущности, то невольно задумаешься над вопросом: во имя какой такой высшей задачи человек так страстно служил бумаге, переписке о выеденном яйце и так мало был внимателен относительно просто человеческих обязанностей, хотя бы только по отношению к детям. Невольно рождается вопрос, способен ли бы был этот верный слуга переписки отдать себя на съедение бумажным делам, если бы внимал простым человеческим обязанностям, налагаемым жизнию лично на него не как на чиновника, а как на человека? Представляется даже, что при участии жизненных и житейских обязательств, а главное, при внимании к ним, представляется, что и взгляды этого «служаки» значительно бы изменились как на самую его «службу», так и на полезность отдавать ей всего себя. Теперь вот этот служака, узнав, что директор гимназии выгнал вон его сына, не разобрав, в чем дело, сам «прибавил» ему за то, что его выгнал директор, сам прибил сына и также выгнал из дому, а тогда бы, то есть при сознании, что служение бумаге и чернилам вещь вовсе не такая серьезная, понял бы, что гораздо серьезнее участь человека, который, в лице, быть может, неспособного или нерадивого сына, может пропасть, спутавшись на первых порах жизни, ожесточиться с юных лет и весь век потом плакаться на свою горькую участь. Очевидно, что несчастный труженик-чиновник, потерявший на службе всю свою жизнь, только по забитости, по загнанности и по запуганности, сузивших в нем чисто человеческие требования <…> канцелярских порядков и начальства, мог полагать, что пустяки, которые он делал всю жизнь и которые жизнь эту съели, настолько важны и серьезны, что в жертву им можно принести и себя, и свою личную жизнь, и жизнь ему близких и присных людей.
Вот эту-то самую "канцелярщину", заменившую собой "живое" общественное дело, дело, основанное на предъявлениях потребностей нравственно живущего человека, и вижу я в большинстве так называемых "общественных" мирских дел современной нам деревни. Возьмите, в самом деле, для образца "общественные дела" деревни, живущей и жившей, так сказать, среднею деревенскою жизнью, то есть деревню, пережившую крепостное право, даже не право, а просто крепостное хозяйство и все, что затем последовало, и вы на первых же порах, при самом поверхностном взгляде на общий обиход жизни, не можете не увидеть прежде всего, что личная жизнь крестьянского дома почти ни капли не выигрывает от того, что "общественские" дела деревни делаются самым безукоризненным образом. Вы видите, что этим общественским делам посвящается слишком много такого напряженного внимания, которого они совершенно не заслуживают по своему внутреннему существу. С какими, например, церемониями происходит дележка земли, лугов, как тонко разработана общественная служба при постройке какого-нибудь моста, сколько церемоний и сколько мысли тратится на "правильное", безобидное питье вина и т. п. А в частной жизни этих общественных людей даже и в приблизительной степени не уделено заботы на разработку простых человеческих отношений. Деспотизм во имя хозяйственных интересов, зависимость человека от лошади, с хозяйственной (а не человеческой) точки зрения устраиваемые браки и т. д., словом, бездна подавляющих человека, личность человеческую, угнетений, которые решительно не составляют общественной заботы. Глядя на все теперешние общественские дела с точки зрения удовлетворения "человеческих" требований, с точки зрения человека, сознающею, что он создан по образу и подобию божию, решительно отказываешься понимать прелесть этих переделов, драм из-за межевых столбов и т. д. Но с точки зрения канцелярской, не принимающей во внимание никаких иных сторон человеческой натуры, кроме сторон, удовлетворяющих правильному действию канцелярского механизма, действительно этими "общественскими делами" можно восхищаться.
В настоящее время в литературе весьма замечательным явлением являются исследования так называемого русского сектантства. [1]1
Мы касались этого явления в статье «Народная книга», № 8-й. «Отеч. записки» 1880 г.
[Закрыть]Наизнаменательнейшая сторона вновь возникающих сектантских общин, несомненно, та, что общины эти, по внутреннему своему смыслу, решительно не похожи на те калеки-общины, которых в русской земле пока еще громадное большинство и которые кое-как влачат свою изуродованную жизнь, будучи воспитаны, с одной стороны, канцелярскими общественными требованиями, а с другой – убивавшим личность человеческую крепостным правом. Эти вновь возникающие общины, несомненно, и сектами-то почитаются потому, что они наотрез отказываются как от крепостных преданий, так и от канцелярских общественных идеалов. Они «не подходят» под общий тон жизни, где всевозможные требования, унижающие и презирающие личность, первенствуют, и поэтому, вероятно, считаются такими явлениями жизни, которые нарушают общественный порядок. Существенное отличие общины канцелярской от общины сектантской состоит в том, что в основание последней входит именно уважение и внимание к личности человеческой, к жизни человеческого духа, к нравственным, человеку, человеческой душе свойственным обязательствам. И замечательно, что раз такая община единомышленников сложилась не во имя только того, что «наши участки рядом», не во имя того, что «мы сдаем кабак» и т. д., а во имя единомышленности и во имя уважения каждого в каждом человека, так немедленно из «общественных» забот этой группы людей исчезают, и исчезают бесследно, те именно якобы общественские дела, которые составляют доблесть общины канцелярской. В то время как в канцелярской общине всё делят, всё меряют и никак не вымеряют, в то время как в канцелярской общине потеют и идолослужат перед загородью, перед общественным быком или межевым столбом – в сектантской общине эти-то дела забыты, и подвиги, с ними сопряженные, оказываются не имеющими никакого значения: люди сразу теряют аппетит топтаться при дележах земель или лугов, совершенно теряют способность оценивать точность, с которою канцелярский общинник ценит свою заботу о том, чтобы «носком непременно в пятку попасть» и т. д. Напротив, соединившись во имя сознания «человеческих» нужд и скорбей, человеческих нравственных обязательств, люди разгораживают изгороди, уничтожают все эти колышки и значки и соединяют все участки в один общий. Вместо того чтобы, с изумительною точностию переделивши землю, изнурять себя и свою семью на одинокой, непосильной работе, «по человечеству» сложившаяся община принимается за коллективный труд, стремится облегчить добычу хлеба, пропитания, потому что уже сознает, как несправедливо изнурять прежде времени малых ребят, беременных женщин и т. д. Это уже все «по человечеству», во имя человеческой природы и человеческой нравственности. Труд одиночный и тяжкий, который камнем давит личность человеческую в общине, воспитанной канцелярщиной, который к тому же ни капли не облегчается, несмотря на то, что на сходках о каких-нибудь мирских делах народ галдит по целым суткам или по неделям топчется на межатнях, в новых общинах – отходит на второй, если не на самый дальний план. Здесь уж знают, что труд нужен «для чего-нибудь», здесь уж знают, что отдавать себя только труду, всепоглощаться в нем – несправедливо, так как есть обязательства, которые, по совести человеческой, должны быть удовлетворяемы именно плодами этого труда: помощь ближнему в несчастии, помощь больным, детям, старикам и т. д. И в канцелярской общине есть и дети, и немощные, и старики, и люди, находящиеся в несчастии и жаждущие участия и помощи, но канцелярская община приучена молчать об этих надобностях, она приучена молча терпеть несчастия ближнего, болезнь и смерть ребенка, приучена во всем жертвовать человеком, его нравственною скорбью, нравственными потребностями во имя чего-то такого, что почти ни капли не укрепляет в человеке человеческого достоинства. Спрашиваю: что может быть совершеннее того церемониала, той точности и других не менее ценных качеств, которые канцелярски-изуродованная община обнаруживает, например, хотя бы при пресловутых переделах земли? Разве может быть что-либо более совершенное, разве можно выдумать что-нибудь более артистически выработанное? Неужели, не довольствуясь тысячами способов измерений, тысячами практикующих приемов, станут, наконец, не только топтаться ногами, не только попадать носком в пятку, а примутся ползать и вымеривать все четвертями н вершками? Вы видите, что такое предположение нелепица и что это «общинное» дело идти дальше не может в своем развитии, что оно и без усовершенствования уже махровый цвет, канцелярское изящество, и вот почему у канцелярской общины с ее добродетелями, подвигами и проч. – нет будущности. Она не единит человека с человеком, она не снимает мук с человеческой души, а раз, при всех своих канцелярских совершенствах, она не достигает этого нравственного единения и взаимно-человеческого внимания, она – пустая канцелярщина, многотомная тщательно разработанная переписка по вопросам, не стоящим выеденного яйца. Как бы эта канцелярщина ни совершенствовалась, не она облегчит душу народную, не она напоит и накормит голодного, пригреет одинокого, не она возродит духовную жизнь народа.
3
"Нет! Джутовый мешок решительно невозможно обойти молчанием! Покуда я вел речь о влияниях, попиравших в русском человеке – человека и перерабатывавших его в «канцелярского служителя» (конечно, в самом разностороннем смысле), – джутовый мешок то и дело приходил мне на память и мешал последовательности изложения. Очевидно, что необходимо излить пред читателем эту мешковую скорбь, чтобы отделаться раз навсегда и от скорби и от мешка. Что такое джутовый мешок? По внешнему виду это есть самый обыкновенный (и, говорят, даже не весьма прочный) мешок для перевозки зерна, сделанный из индийского растения – джута, того самого, из которого делаются веревки в детских гимнастиках. Но по внутреннему своему содержанию он бич божий! – "Что за времена настали горькие! – жалуется крестьянская женщина. [2]2
Корреспонд. из г. Суджи, Курск. губ. «Порядок», № 70.
[Закрыть]– Прежде, бывало, наткешь ровного холста да повезешь в Суджу, там его из рук рвут; купца – видимо-невидимо! Продашь выгодно, купишь чего требуется и едешь домой; теперь же совсем иное: сидишь за пряслом целую ноченьку, и берет тебя горькое раздумье: когда-то еще удастся продать! Поносишь-поносишь по городу, да и привезешь назад… Вот какие ноне горькие времена настали!" Вы представьте себе эту несчастную бабу деревенскую, многие ночи слепнувшую за пряслом, ходит она, бедная, по городу – никто-то у нее не спрашивает ее товара. «И что это деется? – думает несчастная баба. – Господи помилуй, господи помилуй… И что это за времена такие, господи батюшка!.. И с чего это? Что такое? Какая напасть?» – ходит баба из улицы в улицу, от одних купецких ворот к другим, и понять не может, что за притча такая, что, несмотря на «ноченьки» трудовые, должна она идти домой с пустыми руками… Не нужно!.. И не знает она, бедная, что разоритель ее – какой-то иностранный мешок. Пришел этот мешок неведомо откуда, объявился в 21 копейку за штуку и знать не хочет несчастную бабу… Земля наша хлебная, зерно – единственное богатство, а мешок непременный спутник зерна… Судите сами, какую многотысячную массу женщин и детей обездоливает на Руси этот заграничный тиран!.. Но выдержка, приведенная нами выше из корреспонденции, не вполне еще рисует бедствие (в буквальном смысле), приносимое этим победоносным мешком. В «Сборнике материалов для статистики Тверской губернии» [3]3
Изд. 1874 г. Вып. 2-й.
[Закрыть]мы находим весьма подробное и обстоятельное описание города Бежецка, который почти весь существует торговлею льном, выделкою льна в холст, идущий на мешки, и шитьем мешков. И здесь мы находим сведение, что еще в 1872–1873 году слышались жалобы на упадок льняного и мешочного дела. Следовательно, почти десять лет тому назад уж иноплеменник грозился на нашу бедную землю, "Холст продают, – читаем мы в сборнике, – большею частию женщины, они же и главные его производительницы. Некоторые из этих женщин рассказывали мне (автору сборника) следующее: "Самое злоенынче время. Приходится чуть не на коленяхумаливать купцов, чтобы взяли холст. Бывает время, хороший-то холст по рублю продаем за кусок (20 арш.!), по шесть, по семь гривен, а теперь вот… Эва какие куски по 35 коп. продаем! Да и то еще не берут!.. Случается, привезешь холст-то, а тут тебе и дают тридцать копеек за кусок (20 арш.!)". А вот что такое шитье мешков. "Шитьем мешков в Бежецке занимается почти целая слобода, называемая штабом; мешки шьют домах в полутораста. Работниц в них и старых и малых наберется сот до пяти по меньшей мере. Купцы, перекроив накупленный холст (закройщицами большею частью члены семейства купца), раздают его по этим домам для шитья. Плата за шитье полагается зимою 35 коп., летом 40 за каждую сотнюмешков. Мешок шьется голландской пеньковой ниткой, которая идет из Москвы, нитки выдают швеям хозяева-купцы. Рабочих дней в году у швей от 200 до 250. В воскресные дни и прочие праздники, особенно летом, швеи работают как и в будни. Самая ловкаяшвея в сутки может сшить не больше пятидесяти мешков, если проработает часов пятнадцать или шестнадцать в сутки, а самая плохая не сошьет за то же время и пятнадцати мешков. Первая выработает в день до 20 коп., последняя до 5 (копейка за 3 часа работы!). Пять копеек в день обыкновенный заработок малолеток"… "Мне случалось, – продолжает автор, – побывать домах в десяти, где живут и работают швеи; но попал я туда как раз в такое время, когда у них во всем штабе не было ни одного заказного мешка и все швеи сидели без работы. Около одиннадцати часов утра вошел я в первый попавшийся дом. В комнатах, по крайней мере на полу комнат, довольно чисто, и даже слышен запах плохой помады. Меня встретили две очень молодые девушки, и той и другой на вид не более шестнадцати лет. Я поздоровался, девушки засмеялись и сказали с хохотом: «Раненько вы, сударь, по гостям-то изволите ходить!» – «Что поделаешь, занятие наше такое!» – "А ваше какое заделье?" – «Вы, сказывают, мешки шьете, так покажите мне вашу работу». Девушки перестали улыбатьсяи в один голос сказали, что у них вот уже более недели нет никакой работы. В комнату вошла пожилая с болезненным видом женщина и подтвердила только что сказанное. Расспрашивая их о житье-бытье, я узнал, что, кроме шитья мешков, у них нет никакой другой работы, что в год они впятером [4]4
В том числе одна немощная старуха и одна восьмилетняя девочка.
[Закрыть]заработают не менее 140 руб. и не более 200 руб. Все инструменты их состоят из больших иголок, концы которых они сами притупляют на бруске, чтобы не колоть рук. Люди немощные, старухи употребляют к тому же железные крюки, надевая их на большой палец ноги (шьют босые), чтобы придерживать края мешка во время шитья. «Очень трудно вам работать?» – «Трудно… да уж мы привычны: ведь нас с пяти лет за шитье-то сажают. Привыкнешь». – «Ну, а как же вы впятером-то на 200 руб. живете, ведь это мало?..» – "Н-ну, мы еще находим…" – «У вас огород, что ли, есть?» Швеи засмеялись. «Нет, у нас нет огорода», – отвечала пожилая женщина. Пожилая женщина закашлялась и ушла из комнаты. Одна из девушек тоже ушла. «Что же вы теперь делаете, когда вот работы-то нет?» – «А с гостями занимаемся..» – «С какими гостями? Что у вас, постоялый двор, что ли?» – «Нет… да вот… ко всем, значит, здесь в слободе-гости ходят… да вы будто не знаете… расспрашиваете?..» – «Нет, я не знаю… Так разве эти гости вам деньги носят?» – «Ха-ха-ха! Неужли же без денег? Бывает, и вина всякие приносят… Иной раз и офицеры и всякие господа прочие…» – «И много вас здесь таких, что гостей-то принимают?» – «Да все занимаемся… только старухи вот не могут». Когда я уходил, одна из девушек, засмеявшись, сказала: «Вы привезете нам винца-то когда-нибудь?..» Во всех домах, где я был у швей, я слышал все то же, что здесь описал, и везде мне делали такой же прием, местами еще красивее"… Но идет-гудет джутовый мешок и грозится на бедных мешочниц, грозится оставить их при одних гостях. Да разве это всё? Бедствия, приносимые этим губительным мешком, далеко не исчерпываются этими двумя только группами несчастных деревенских баб-ткачих и несчастных городских девушек-мешочниц. Ведь прежде чем лен превратится в мешок, ему надобно пройти массу рук, которые все остаются пустыми, благодаря иностранному пришельцу. Каемся – шум, поднятый в печати о злодействах джутового мешка; мы в значительной степени приписываем тому обстоятельству, что мешок этот бьет по карману барина ничуть не меньше мужика. Едва ли бы об этом мешке пошел такой шум, если бы пришлось кряхтеть только мужику. Впрочем, быть может, это мнение пессимистическое. Во всяком случае, перечисляя всех гибнущих от джутового мешка, мы должны упомянуть и о барине – ведь десятина (по тем же сведениям) может приносить до семидесяти пяти рублей чистого дохода.За барином мешок буквально валит с ног целую массу, тысячи простого люда, мужика. Буквально весь уезд, весь народ в уезде существует благодаря льняному производству, и притом почти исключительно ему. По тем же сведениям, почти вся масса земли, находящейся во владении и аренде крестьян, засевается льном. С пришествием мешка вся масса крестьянства во всех своих ежедневных нуждах делается вполне беспомощною. Но ведь мало вырастить лен, надо его еще и «сделать» льном; и вот, кроме мужика, который его растит, заграничный пришелец вырывает хлеб из рук у массы рабочих, занимающихся его трепаньем; на одной только льно-трепальной фабрике в Бежецке работает 400 человек рабочих. Куда они денутся и что будут есть? За льнотрепальщиками идут ткачихи, швеи и т. д Так вот вследствие того, что объявился какой-то заграничный, машиной сделанный мешок, объявился в 21 копейку, в буквальном смысле тысячи, десятки тысяч народу мгновенно становятся на гибельную стезю разорения… Попробовали наложить на мешок пошлину, то есть не пустить его силой, мешок и тут извернулся. Иностранные фабриканты, судя по газетным слухам, заводят три громадные фабрики для выделки тех же мешков в самой России, в самых центральных пунктах хлебной торговли, причем выделка его будет, конечно, машинная, за которой не угнаться никакому «рукомеслу», а цена его будет еще дешевле, потому что джут сырьем ввозиться будет уже без пошлины.
Словом, мешок, объявившийся в 21 копейку серебром, вдруг моментально оставляет без хлеба десятки тысяч народу, стариков, старух, матерей, детей, девиц и т. д. Спрашиваем, что может в смысле борьбы с этим бичом божиим сделать вся вышеупомянутая общинно-артельная, до высшей степени совершенства разработанная канцелярщина? Ведь на всей этой огромной территории, населенной тысячами людей, без всякого сомнения существуют все вышеупомянутые общинно-канцелярские порядки и добродетели; везде на сотнях тысяч десятин люди топчутся на межниках, идолослужительствуют перед межевыми ямами и т. д. Ни малейшего также сомнения нет и в том, что повсюду среди этих тысяч людей, мужчин и женщин, существуют всевозможные артельные начала, даже у бежецких швей при внимательном изучении окажутся непременно кой-какие артельные отношения, механизм которых, я уверен, доведен до такого совершенства, что сгоряча можно, на основании его, предрекать обновление всего существующего строя. Но, несмотря на все это, идет-гудет джутовый мешок и все это сметает как вихрем. Не слышит и не внемлет джутовый мешок, что, при пособии, мол, от земства, все эти начала распустятся пышным букетом, гудет-гремит и стирает с лица земли и общественные порядки и разрабатывающих эти порядки людей. Да что джутовый мешок! Не только он, этот истинно злой иноплеменник, попирает эти порядки, – и до прихода его в наших местах порядки эти мало помогали человеку… Не защищали они труженика-человека от самого непрестанного грабительства. Джутовый мешок поражает по крайней мере сразу, а до джутового мешка работника-человека рвали поминутно и на всяком шагу. Везет он лен на продажу, его грабит маклак. "Часто без грошав кармане (читаем мы в той же книге) торгаш бродит по рынку и торгует лен крестьян. Вот случилось сходненько получить партийку льна, скупщик вешает лен, высчитывает, сколько придется выдать мужикам, и тащит тех мужиков к какому-нибудь из троих льноторговцев-комиссионеров (с Петербургом). Купец выдает деньги; мужики с грехом пополам рассчитаны; а торгаш о чем-то беседует с купцом на непонятномдля крестьян языке. В их беседе слышатся слова: карбонец, тара и множество других непонятных, слов. Оказывается, что под словом тара разумеется то вознаграждение, которое купец должен выдать барышнику за хлопоты, и это вознаграждение считается на карбонцы" и т. д. Таким образом, оказывается, что канцелярские порядки не только не в силах сопротивляться европейскому мешку, но они буквально бессильны просто перед всяким желающим ограбить. Ведь, как видите из приведенной выписки, мужик терпит от грабителя, который нападает на него просто-таки без гроша.Джутовый мешок по крайней мере представитель капитала, и капитала серьезного, а до джутового мешка грабили не только без капитала, а просто без гроша, и против такого-тоуж совсем ни с чем не сообразного разбойства в общественных и артельных механизмах, как видите, нет приспособлений. А что этот грабеж шел испокон века, это видно из того, что даже язык грабительский выработался особенный: ведь надо же время, чтобы выработать особый язык для грабежа, и не выработано ничего для противодействия ему!
Таким образом, при продаже льна, при его обработке, при выделке пряжи, холста, мешка мы постоянно видим около работника какого-то "любителя", который, как уже сказано, не имея в кармане гроша, получает, как-то так, только во имя желания поживиться, пользу, чистую прибыль и, разумеется, удовольствие. Где ж корень этой уступчивости необыкновенной со стороны мужика? Почему такая податливость перед самыми неосновательными притязаниями на наживу, и притом людей, желающих сделать это без гроша в кармане? Почему такая снисходительность бежецких девиц к посещению их гостями и такая неясность в определении своей профессии? Почему такое как бы даже убеждение, не требующее сомнений в том, что мешок и гость с мадерой – суть как бы подспорье одно другому? Не пытаясь отвечать на эти вопросы категорически, отметим только следующие явления: то же тверское земство, движимое гуманными побуждениями (хотя и не без общего всякому российскому гуманству сухо-канцелярского оттенка), вздумало оказать пособие осташковским сапожникам, эксплуатируемым точь-в-точь так же, как все перечисленные выше производители льнамешков. Оно стало образовывать "из работников" артели, давая заимообразно деньги на устройство таких артелей. Что же вышло? Вышли артели, только артели не "рабочих", а "хозяев". Сговорятся, например, пять человек образовать артель, им выдадут деньги; получив деньги, пять рабочих немедленно превращаются в пять хозяев, и каждый из них заводит своихрабочих. Этот факт, как нам кажется, дает указание, хотя и крошечное, на корень зла; если я сегодня рабочий, товарищ таких же рабочих, завтра, с легким духом, могу сделаться хозяином и нанять своего товарища в батраки, – это значит, что я отлично понимаю только своюпользу и что со вчерашним моим товарищем меня связывала, ставила наравне только равнявшая нас нищета, бедность, одинаковость несчастия. Очевидно, что если эту бедность я презираю и ненавижу в себе, то в соседе я ее забываю, то есть невнимателен я к соседу, не беру в личное свое внимание его горя и т. д. И действительно. Система бесчеловеческих отношений принесла свои плоды в том, что личность человеческую, не ценя в себе, русский человек мало ценит и в другом, и поэтому, несмотря на свои общинные и артельные порядки, он одинок, он в пустыне, и вот почему можно прийти к нему без гроша и, пользуясь его одиночеством, ограбить. Далеко не так в тех ново-возникающих общинах, где в основании союза кладется мысль о человеке, человеческом достоинстве, нравственных обязательствах друг к другу. В таких общинах немыслимо смешение понятий мешка и гостя с мадерой, ибо гость с мадерой – позор, обида, оскорбление нравственного чувства. Барыш, доставляемый гостем, заменяется усовершенствованием способа труда. Круг сплочен во имя общего блага, во имя внимания к своим дочерям, и сыновьям, и старикам, и старухам, как людям. Единящая, таким образом, единомышленников «по человечеству» внимательная мысль не могла бы, положим хоть в деле джутового мешка, ограничиться бесплодными рыданиями перед купцом, который не берет холст, а непременно бы подумала о защите. Если мешок бьет тем, что он работается по щучьему велению машиной, то мысль о борьбе с ним тем же орудием непременно пришла бы в голову общинникам само собой: нельзяне бороться, надобороться, потому что позорно, бесчеловечно и по совести преступнобыть равнодушным к тому, что вот это, например, человеческое существо, моя или чужая дочь, в случае моего равнодушия должна будет существовать позорным ремеслом приема «гостей». Разве можно жить на свете, допуская такие вещи? Где же бог-то в нас?.. И будьте уверены, что даже ничтожная земская ссуда распределилась бы в этой общине не так, как в канцелярски-мелочной артели или в канцелярски-правильной общине. Да, обезличила русскую общественную мысль заменившая ее «общественная канцелярщина». И проела эта канцелярщина не то чтобы так называемую интеллигенцию, а в значительной степени и массы народные. Обыкновенно русское общество привыкло представлять себя в таком виде, что одна половина его здоровая, а другая – гнилая; народ здоров, а интеллигенция – гниль. Голова сгнила и болтается на мочалке, а в то же время ноги бегают в лучшем виде. Что за нелепый образ! И куда бы вы ни перенесли, здоровье ли в голову, а гниль в ноги, или здоровье в ноги, а гниль в голову, – одинаковая нелепица и невозможность представить себе этот нелепый образ. Если уж дело пошло на аллегории, то мне кажется, что русские недуги рисуются несколько в ином виде: в русском обществе тронута параличом целая половина тела, от головы до пяток; и именно – опять-таки если говорить сравнениями – та половина, где лежит сердце человеческое. Другая сторона, сторона опухшей, расстроенной печени, напротив, действует и регулирует весь строй жизни. Недаром у нас остроги каменные в четыре этажа, под железными крышами, и в каждом уездном городе, а народные школы – лачужки, кое-как крытые соломой, да и не всегда топленые… Число посетителей острогов растет с каждым годом и, сообразно с неперестающим увеличением заключенных, растет и забота о том, чтобы их разместить, растут расходы, растут усовершенствования… А из университетов гонят, из гимназий гонят, а в деревенские школы не попадают сотни тысяч, миллионы. В остроге кормят даром, а вот когда недавно, наконец(!), удалось открыть в одном из университетских городов студенческую кухмистерскую, там, боже милосердный, какой поднялся трезвон, точно праздновалось вступление России во второе тысячелетие: о кухмистерской телеграфировали во все газеты; открывали ее с молебствием, водосвятием; причем служил сам епископ в сослужении с четырьмя архимандритами. Были войска, градоначальники… и все в парадных мундирах… Достигнута, наконец, возможность получить бифштекс ценою в пятнадцать копеек! Да и тот, как впоследствии оказалось (тоже в телеграммах), вышел никуда не годным: жёсток, как подошва, и едва ли не из маханины!








