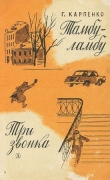Текст книги "Реквием"
Автор книги: Гирдир Элиассон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Наконец мотор у косилки начинает крутиться равномерно, но шум не уменьшается. Но в ее ритме есть что-то музыкальное, и мне это по душе, хотя обычно мне не по нраву техногенный век и его порождения, У меня в голове что-то выстраивается, отдельные созвучия, и, перед тем как начать косить, я тянусь за записной книжкой – новенькой, чистой, мгновенно делаю в ней заметку, затем закрываю ее и накидываю на обложку резинку, так что раздается щелчок. Первыми в эту книжку попали «машинные» звуки.
Когда я принимаюсь косить, от меня ничему нет спасенья, я разошелся не на шутку, высокие травы падают передо мной целыми полка́ми. Как оказывается, ножи в косилке вполне острые. Я чувствую себя Макбетом, который так и косил своих врагов при Дунсинане, пока сам не пал. Но долго слушать грохот этого агрегата невыносимо, и я вскоре надеваю наушники, в противном случае рискую больше никогда не услышать никаких созвучий, потому что это попросту испортит все тонкие настройки моего слуха.
* * *
Через два дня несу в магазин лист А4 и прошу прикрепить его к оконному стеклу по другую сторону датского прилавка. А за ним по-прежнему та же женщина, что и в прошлый раз, и в ответ на мою просьбу она смотрит на меня недоверчивым взглядом, но произносит: «Да, пожалуйста».
Мне нужен скотч, но она говорит, что начатого рулона у нее нет. Так что я приношу небольшой моток с дальнего стеллажа и кладу на прилавок.
– С вас двести двадцать четыре кроны, – подсчитывает она.
Я отделяю кончик липкой ленты и откусываю четыре полоски, достаточно длинных, чтобы держать углы моего объявления
ЕСЛИ КТО НИБУДЬ
НАШЕЛ ЗАПИСНУЮ
КНИЖКУ В ЛЕСНИЧЕСТВЕ,
ПРОШУ ПОЗВОНИТЬ
ЙОУНАСУ, ТЕЛ.
8811188
На улице светло, и текст на листе просвечивает – разумеется, задом наперед, кроме номера телефона. Продавщица его явно увидела, потому что роняет машинально: «Странный подбор чисел».
– А вы нумерологией увлекаетесь? – интересуюсь я.
– Немножко, – слышу я в ответ.
Я не берусь дальше обсуждать эту тему и собираюсь уходить. И тут она вдруг произносит:
– Они в пятницу.
– Кто в пятницу? – не понимаю я.
– Похороны, о которых вы спрашивали.
– Ах, да. Спасибо.
– Не за что, – отвечает она.
Поднимаясь на горку домой, размышляю, будет ли от моего объявления какая-нибудь польза, не надо ли было приписать «Нашедшему – вознаграждение». А какое вознаграждение будет подходящим за книжку, которая одновременно не имеет ценности и бесценна? Может, стоило посулить нашедшему мою машину? Она, правда, старая и всего лишь «Мицубиси». Но свою записную книжку я бы без колебаний оценил выше. Пройдя несколько сотен шагов, оборачиваюсь и вижу, что продавщица вышла из магазина и читает мое объявление.
Недалеко от моей улицы я встречаю почтальона; он на велосипеде, в униформе и держится молодцом, хотя события стремительно катятся к тому, что почтовое отделение здесь закроют. На багажнике у него сумка. Он звонит в звонок и радостно машет мне, проезжая мимо. Почтальон всегда звонит дважды, а вот машет только один раз.
* * *
Идет дождь, а я еду на машине вглубь фьорда. Слушаю, как капли лупят по крыше машины, и пытаюсь запомнить их звучание. Рядом со мной на переднем сиденье новая записная книжка. Она по-прежнему доставляет мне мало радости – только постоянно напоминает о той, потерявшейся. Как будто с ее утратой все созвучия для меня померкли. По вечерам я порой пытаюсь припомнить мотивы из нее и вбить в нотную программу в компьютере, но у меня пока не получается. Из памяти все выплывает в каком-то искаженном виде. Никто так и не позвонил и не сообщил, что нашел записную книжку у скамейки в лесу, и я уже не надеюсь, что это вообще произойдет. Что пропало, то пропало, и все тут – таков мой убогий жизненный опыт.
Я проезжаю мимо дома художника, который стал выращивать морковь. Сейчас дождь барабанит по пластиковой крыше длинной морковной теплицы, а сама морковь остается сухой. Если у него была бы причина снова взяться за палитру, то как раз в такую погоду. У меня дворники без устали снуют по стеклу. Но зарплаты этим дворникам не полагается, так что труд у них, в сущности, рабский.
В поселковом банке (таком маленьком, что он навевает мысли о Леголенде) висит картина того фермера, но она, к сожалению, написана еще до того, как он переключился на выращивание корнеплодов. Эту картину я недавно видел, она не откровенно плоха – и так огромна, что занимает почти всю стену в банке, где работает лишь один сотрудник – директор и кассир одновременно. Два в одном или, скорее, один за двух.
В общем, сейчас в этом фьорде живут два человека, которые занимались искусством, но один забросил кисть, другой потерял большую часть мелодий, звучащих у него внутри. Видимо, это хорошо иллюстрирует то состояние малых населенных пунктов по всей стране, которое называется «культурная реальность».
*
На мне дождевик, я выхожу из машины у песчаного пляжа, где гулял летом и нашел яшму. А сейчас ветер такой сырой, что я стараюсь не задерживаться здесь, недолго прогуливаюсь по обочине и смотрю на взлохмаченное море.
И тут вдруг ко мне прилетают созвучия, принесенные ветром и волнами. Я спешу в машину, сажусь за руль, хватаю книжку, кладу на руль и принимаюсь записывать. А с дождевика тем временем на сиденье капает влага. Это первая из серьезных, стоящих записей, что я заношу в книжку, хотя она совсем не похожа на все остальное, сделанное мною раньше, – и все равно это как бы определенная, значимая часть меня самого. Чернила из ручки размазываются от воды, часть нот мне приходится переписывать заново, но это не важно, я по-прежнему слышу, что они мне говорят, и ощущаю невыразимую радость. Откуда все эти ноты? Не знаю. Даже Моцарт не знал, когда его попросили ответить на такой вопрос в письме, – у него вскоре опустились руки, и он сменил тему, а ведь он гений, не то что я. Он композитор, а я нет. Интересно, Моцарт когда-нибудь ноты терял? Но такому человеку, как он, наверное, было легче заново извлечь все из памяти, если с ним приключалось подобное; ведь его захлестывали идеи, как волны в этом фьорде – без устали, без конца. А потом в дождливую погоду под вечер пришел незнакомый гость, и все закончилось. Кроме последнего произведения, «Реквиема»: он остался незавершенным.
*
В тот же день позднее звонит мой начальник из рекламного агентства. Он, по обыкновению, вежлив и обходителен, но я чувствую, что ему кажется, будто моя работа над текстами не очень продуктивна, и он хочет услышать от меня, намерен ли я и дальше работать у него и в ближайшее время явиться в офис, как все. Он намекает, со свойственной ему осторожностью, что «в нашем обществе», как он выражается, на такую должность всегда найдется масса желающих.
Я не называю точных сроков своего приезда, но прошу его, чтобы он явил такую милость прислать мне еще заказов, а я постараюсь их выполнить – в этих обстоятельствах.
– Может, тебе попросту начать рыбу рекламировать? – спрашивает он, пытаясь разрядить атмосферу.
– Рыба в рекламе не нуждается. Она сама себе плавучая реклама, – полушутя отвечаю я.
– В наши дни без рекламы никуда, – вдруг говорит он, словно в оправдание собственного существования – ведь он отдал всю жизнь тому, что убеждал людей покупать разные вещи, которые им не нужны. Да-да, абсолютно не нужны, – пусть я и сам участвую в этой нечестной игре.
А может, всё на свете и есть такая игра.
* * *
Похороны владельца магазина состоятся завтра. Сегодня, когда я зашел за продуктами, на оконном стекле была вывешена «официальная информация» об этом. Под словами был изображен узнаваемый символ, который, однако, показался мне здесь неуместным.

Когда-то я видел такой же в одном романе – не помню названия. Вроде бы автор был американец.
Мое объявление сняли. Да это и не важно. Я уверен, что моя книжка ко мне все равно уже не вернется. Может быть, ее нашел кто-нибудь, кто сам увлекается сочинением музыки, и стал использовать то, что в ней записано, и, может быть, мелодии из нее выйдут в свет под совсем другим именем. И здесь ничего не поделаешь. Но эта публикация не принесет тому человеку славы в мире музыки. Не такие произведения я сочиняю – собственно, их даже произведениями-то назвать трудно. Во-первых, это всего лишь наброски, и слово «произведения» для них слишком напыщенное, устанавливает чересчур жесткие рамки для того, что я пытаюсь делать с созвучиями, которые поверяю бумаге.
Мне самому странно, насколько меня интересуют похороны человека, с которым я, по большому счету, незнаком, кто лишь пару раз продал мне, стоя за прилавком, самые что ни на есть обычные товары. Думаю, это, вероятно, потому, что он вдруг взял и умер до того, как я успел толком с ним познакомиться, или, может, дело в том, что умер он именно в Зальцбурге – городе, в котором родился Моцарт.
*
И снова дождь, а я сижу за столом на кухне, пытаясь выжать из себя рекламный текст, который все обещаю сдать, да никак не сдам. На этот раз мне надо рекламировать одну марку мотоциклов, а если конкретно – «Кавасаки». Но в мотоциклах я не разбираюсь, даже ни разу не садился на это транспортное средство и понятия не имею, о чем писать. «Просто дай волю красноречию», – ответил мой начальник, когда я выразил сомнения по поводу своей способности справиться с таким заказом. Даже представить себе не могу, каково это – мчаться на подобном механизме навстречу этому прославленному (или пресловутому) свежему ветру с ощущением свободы в груди. Это ощущение мне известно смутно, так что вызывать его у себя по заказу не могу.
Анна постоянно говорила, что мне сложно дать себе волю во всем, что бы я ни делал, так что красноречие здесь не исключение.
Я уже несколько дней не разговаривал с Анной. Поймал себя на мысли, что она звонит мне реже, чем я ей, и решил проверить, не изменится ли ситуация, если перестану звонить первым. Ничего не изменилось. Телефон глухо молчит. И когда я все-таки звоню ей сам, она не всегда отвечает. Раньше обычно отвечала или перезванивала, но сейчас все не так.
На время откладываю в сторону текст о мотоцикле, тем более что заказ не срочный: мне его сдавать только на будущей неделе. В следующий раз надо будет потребовать, чтобы мне дали писать о чем-нибудь, что мне знакомо. По-моему, человек должен знать то, о чем он пишет, так сказать, должен испытать это на собственной шкуре.
Завариваю еще кофе, затем отодвигаю компьютер в сторону и вынимаю записную книжку – ту самую, еще почти полностью чистую.
«А как насчет того, чтобы написать „кофейную кантату“, как Бах?» – на миг задумываюсь я, но отгоняю эту мысль. В музыке я приверженец малых форм, хотя пробовал силы и в другом. Мой ориентир – Сати. Когда я думаю о нем, как будто вспыхивает лампочка и, словно по мановению волшебной палочки, у меня возникает идея короткой мелодии для скрипки и банки из-под кофе. В аннотации я специально подчеркну, что банка должна быть совсем пустая, а ложка – именно серебряная, и ей надо отбивать такт по крышке банки. «Лучше всего – из-под „Максвелл Хаус“», – пишу я над нотами на странице.
И в самый разгар мелодии, которую я слышу внутренним слухом, – звонок в дверь. Как вторжение в мое медитативное состояние. И снова звонок. Тут я понимаю, что это почтальон. Он всегда звонит дважды. Я иду открывать дверь.
– Вам посылка, – говорит он и поясняет: – Она в щель не пролезала.
Я благодарю, беру посылку, завернутую в коричневую бумагу, как и подобает посылкам. Почтальон разворачивается и выходит из калитки, где садится на свой велосипед. Он машет мне на прощание – всего один раз. И скрывается за углом.
Вношу посылку в кухню; она тщательно заклеена, приходится разрезать скотч ножом. Когда я снимаю обертку, под ней оказывается то, что я и предполагал, – книга. «Жизнь Ференца Листа». Отправитель не указан, а я такую книгу точно не заказывал. Я даже особенно не увлекаюсь Листом. Мне он всегда казался эдаким матросом, склонным в своей музыке к дешевым фокусам.
Я некоторое время сижу на кухне и листаю книгу. Она весьма толстая – 603 страницы. В нее не вложено никакой записки, которая поясняла бы, откуда она приплыла мне в руки.
C
* * *
Вчера вечером у меня состоялся телефонный разговор, который полностью перевернул мою жизнь. Как будто мне было мало утраты большей части моего существования, заключавшейся в записной книжке, – несколько трелей телефона окончательно выбили у меня почву из-под ног.
Звонила Анна. Я тотчас услышал по ее голосу, что дело неладное. К счастью, она сразу выложила суть дела.
– Йоунас! – сказала она.
– Да? – ответил я.
– Я стала встречаться с другим человеком.
Кажется, я долго молчал, потому что она вдруг спросила:
– Йоунас, ты тут?
– Да, – наконец выдавил я. Но все-таки не был уверен, что я тут или вообще где-либо. Моя голова походила на пустое складское помещение без окон, в котором выключили все лампы.
– К этому все и шло, Йоунас, – ласково произнесла она, словно разговаривая с ребенком.
– Понимаю, – ответил я. Больше мне ничего не хотелось говорить. Больше я ничего не мог сказать. И все же я знал, что она права: к этому все и шло. Все это время мы были супругами. И все же большую часть этого срока истратили на промежуточные состояния – когда находились каждый в своей части страны или даже в разных странах.
– Кто он? – спросил я затем.
– Ты с ним не знаком, – ответила она.
Не знаю, может, она так сказала, полагая, что мне станет легче, если это будет не кто-то из моих знакомых, – но не уверен. Может, для меня было бы проще, если бы знать, кто он. В старину, когда колдовство применялось, чтобы облегчить плавание в житейском море, для колдуна решающее значение имело имя того, на кого направлено колдовство, а если он не будет его знать, то не справится, и все рухнет. Вы не подумайте, я не собираюсь применять против нового возлюбленного моей жены какие-нибудь техники вуду, но все равно, было бы лучше знать, что он за человек.
Помню, как впервые повстречал Анну. Это произошло в июле, мы были в баре в городе Акюрейри, где оба подрабатывали летом. Я сразу обратил на нее внимание, когда она показалась в дверях, и вскоре после того, как подошла к стойке бара, приблизился к ней и завязал разговор, а это я делать не привык и, если честно, не умел. В грохоте музыки было непросто расслышать, что она говорила, но сейчас, когда я вспоминаю тот день, понимаю, что эта дискотечная музычка стала нашим с ней свадебным маршем. Донна Саммер стала современным Мендельсоном. И тут все решилось – на том самом месте. По крайней мере, так мне кажется спустя годы.
– Он с твоей работы? – спросил я Анну после другой неловкой паузы.
– Да, если тебе так хочется знать.
– Значит, вы с ним уже давно были знакомы?
Видимо, у меня в голосе прозвучали сердитые ноты, потому что она замялась с ответом.
– Неважно, Йоунас, – наконец проговорила она.
– Ну, это ты так считаешь, – ответил я.
Я подумал о ребенке, который у нас был, но которого все же не было, и о том, что все, наверное, сложилось бы иначе, если бы события не получили такого развития. За несколько лет мы быстро отдалились друг от друга, а когда потом попытались сблизиться, для обоих это оказалось сложно, чтобы не сказать – невозможно. Но мы продолжали отсчитывать день за днем, потихоньку, как все. И мне никогда всерьез не приходила в голову мысль, что все может закончиться вот так.
В этот вечер мы больше не разговаривали. Я положил телефон на кухонный стол. Последние лучи солнца косо падали на столешницу и освещали спинки алых стульев. При таком освещении они были похожи на языки пламени. Но это пламя умирало и в конце концов совсем потухло. Я открыл записную книжку, как обычно лежавшую передо мной на столе, и, словно во сне, записал несколько созвучий. Нотные станы я, по обыкновению, заранее начертил по линейке на всех страницах.
«Похоронный марш», – написал я сверху, а потом добавил: «для начинающих». Вступительные ноты были мрачными, и к ним примешивались чужеродные, но такие узнаваемые звуки звонящего телефона, который и принес мне эту весть от Анны. «Посвящается Ференцу Листу», – приписал я под заголовком. В последние дни я читал его биографию, которая пришла ко мне столь загадочным образом, и она, на удивление, захватила меня. Этот композитор, который всегда находился где-то на периферии моего внимания, а вовсе не в центре, вдруг стал для меня много значить. Постепенно я осознал, что у Листа была не одна, а много граней, причем некоторые малоизвестные были даже лучше, чем прославленные. Например, его «Размышления» для фортепиано, относящиеся к его позднему творчеству, – полная противоположность тем фейерверкам, к которым он был склонен в молодые годы. И его взаимоотношения с женщинами тоже представляли интерес – возможно, не в последнюю очередь в свете того, что я сейчас переживал сам. Сердечные дела композиторов – это всегда что-то своеобычное. Особенно если композиторы – оба действующих лица, как, например, супруги Шуман. Тогда все происходит на повышенных тонах – и добром не кончается.
В этот августовский вечер кухню постепенно охватывали сумерки, но я не замечал их. С силой нажимал на карандаш, будто снова стал школьником – младшеклассником, сосредоточился на писании.
Лишь когда я закрыл записную книжку и встал, этот телефонный разговор наконец, как говорится, «осел» во мне. Правда, осел он на такую глубину, что мне пришлось в поисках опоры ухватиться за спинку ближайшего стула, и на миг мне показалось, что сквозь окно в кухню хлынули морские волны – что я в кают-компании тонущего корабля и пути к спасению отрезаны, а спасательного круга нет. Меня начало грызть подозрение, что капитан уже давно покинул борт. Корабль этот был круизный, и на корме до сих пор стояли несколько скрипачей и играли, но знали, что скоро их струн коснется море, смычки намокнут и будут пилить под водой, пилить, пилить… Самое удивительное – я был уверен, что играли они Листа; мне казалось, я слышу эту музыку внутри себя и узнаю ее.
А потом все захлестнули пенные валы.
* * *
Я не стал спрашивать Анну, не она ли прислала мне биографию венгерского композитора. Но я знаю, что́ бы она ответила, если б я спросил: «Ко мне тут по почте Лист пришел. Это от тебя?» Сначала бы рассмеялась коротким светлым смехом, как обычно, когда что-то казалось ей забавным, а потом сказала: «Я тебе никаких листьев не посылала».
Книгу я дочитал уже до середины, и она чем дальше, тем интереснее: и сам материал, и то, как он подается. Порой мне кажется, что автор слишком сбивается на научный стиль, но как будто всегда вовремя спохватывается и мигом сам выправляет курс. А впрочем, мне сложно полностью сосредоточиться на чтении. Я много думаю об Анне и о нашем браке, которому пришел конец, хотя формально он еще в силе. А как известно, форма без содержания – ничто.
По утрам я по-прежнему пытаюсь сидеть на кухне и записывать в книжку мелодии, которые витают в воздухе и ждут не дождутся, что я их поймаю. Они имеют обыкновение на миг зависать как колибри, и так их легче всего ловить.
Сочинение «Похоронного марша» дается мне с трудом: местами он напоминает искаженный свадебный марш. Если Мендельсон узнает, как я обращаюсь с его творением, он в гробу перевернется! Впрочем, ему не привыкать, с течением времени великое множество пианистов калечило его музыку на стольких же свадьбах. Сегодня у меня получается записать лишь несколько нот, а в остальном состояние у меня какое-то замершее: и в жизни, и в музыке.
Дожди идут непрерывно уже несколько дней, в поселке пасмурно, и если смотреть отсюда, со склона горы, то ни души не видно. Порой, когда я по утрам выглядываю в окно кухни, мне кажется, что жители отсюда ушли, – я остался один, и под всеми этими крышами больше никто не живет.
Мы с Анной не разговаривали с тех пор, как она позвонила, чтобы сообщить мне о том, что у нее другой. Я однажды пытался звонить ей, но она не ответила, пришлось удовольствоваться тем, что промямлил сообщение на автоответчик. Мне показалось, что у всех моих слов звучание в итоге вышло полое и фальшивое, так что я даже обрадовался, что она не взяла трубку. На самом деле я тоже не был готов к каким-либо разговорам. К тому же она не раз напоминала мне, что я имею привычку молчать обо всем самом важном. Очевидно, так оно и есть. Без сомнения, если бы у меня появился выбор, непременно предпочел бы ноты словам. Иной вопрос – важны ли эти ноты для кого-нибудь еще, кроме меня, действительно ли они что-то говорят. Разумеется, нет, пока их никто другой не слышит. А у настоящих композиторов говорят, но я, вероятно, никогда не смогу считать себя таковым. Просто черкаю ноты на листке, точно так же, как кто-нибудь на досуге собирает пазлы. И неважно, что картинка состоит из двух тысяч деталей и сказочно красива, ей никогда не стать ничем, кроме параллели к реальности или ее копии, но никак не самой реальностью.
* * *
Я все-таки пошел на похороны, которые проходят сегодня, в пятницу, в 13:30. Погода восторгов не вызывала, а повод – тем более. Горы окружал плотный кокон тумана. И с небес время от времени падали капли. Я спустился с горы к церкви, стоящей на самом берегу, и поверх одежды на мне был дождевик.
По-моему, в церкви собрались почти все жители поселка, а также большинство окрестных хуторян. В первом ряду справа сидел художник, переключившийся на выращивание моркови. Разумеется, с владельцем магазина его связывали торговые отношения: тот когда-то с гордостью сообщил мне, что для него важно всегда иметь в продаже свежие овощи «прямо с фермы». Это словосочетание меня всегда раздражало, подозреваю, что выдумали его в рекламном агентстве такого же калибра, как то, в котором кормлюсь я. Эти слова помпезны, но при этом в них есть что-то как раз непрямое. Как будто между городом и сельской местностью добавили еще одно звено, увеличили дистанцию (а она уже и так огромна) еще на шаг. Хотя не знаю… Это просто мое ощущение.
В общем, там собрались почти все. Кто держит магазин в маленьком населенном пункте, может быть уверен, что на его похоронах соберется большинство жителей. Ведь продукты покупают все. Гроб, по обыкновению, стоял посреди церкви, но меня ошеломил его цвет: ярко-желтый. Я раньше не видел желтых гробов. А этот был желт как подсолнухи у Ван Гога. Не знаю, что это должно было символизировать и было ли это распоряжение самого покойного (разумеется, еще при жизни, а не во время спиритического сеанса – хотя почему бы и нет). Но еще больше меня поразило, что никто, казалось, не обращал ни малейшего внимания на цвет гроба. В этих краях все гробы красят в яркие цвета? Ответ мне неизвестен, ведь это были единственные похороны, на которых я побывал здесь. Может, желтый символизирует солнце в Зальцбурге в тот последний день его отпуска, который стал последним и в его жизни? На следующий день он собирался лететь домой, но судьба распорядилась так, что полетел позже, причем сам не ведая о том. Во всяком случае, покойников не мучит страх полета, думал я, усаживаясь на скамью с левой стороны, у прохода. Так я мог дольше смотреть на желтый гроб.
Это была во многих отношениях необычная церемония – и не только из-за цвета гроба. Пастор, очевидно закадычный друг владельца магазина, включил на церковной кафедре какой-то режим стендапа, с моей точки зрения совершенно неуместный, но слушателям он в целом пришелся по нраву. Они посмеивались и хихикали над тем, кто сейчас лежал в гробу, а до того десятилетиями развлекал местных своими оригинальными репликами из-за прилавка. Ответы эти не всегда отличались любезностью. Но сейчас, когда он лежал здесь, их дух изменился, и они казались почти дружескими – какими бы ядовитыми ни были изначально. Смерть из всего вытаскивает жало – а сама при этом жалит глубоко. Я вспомнил, как и сам однажды в магазине поинтересовался ценой на замороженный хлеб, а владелец магазина мигом ответил: «Если хотите, могу сделать наценку за заморозку».
Но самое необычное началось, когда дошло до посыпания землей и пастор вдруг заговорил по-немецки. Его немецкий был, конечно, не университетского образца, но, в принципе, понятен тем, кто владел этим я зыком, – то можно было сказать обо мне, но, видимо, не о большинстве присутствующих. Не проявился ли здесь тайный юмор двух приятелей – усопшего и пастора, как шутка по поводу прусских манер и усов покойного, который к тому же покинул этот мир в немецкоязычном краю? Понятия не имею. Я растерянно осмотрелся, но, как и в случае с желтым цветом гроба, никто и бровью не повел, услышав это надгробное слово на немецком.
*
Поминки проводились в местном клубе. В то время как знавшие покойного лучше, чем я, ушли провожать его на кладбище, я зашагал прямо туда, где меня ждало угощение. Я был голоден: в последние дни не часто утруждал себя готовкой.
В клубе уже собралось ощутимое количество народу. Люди столпились вокруг шведского стола, словно овцы у кормушки с сеном. Там я увидел художника: он стоял вплотную к столу, увлеченный беседой с кем-то. Разумеется, об овощах – хотя на столе его ждало мясо.
Я все еще не пришел в себя после музыки в церкви. Органист был плох, но даже он играл прилично по сравнению с хором. Вот уж действительно – божьей милостью вопленники! Грубые фальшивые голоса просто резали уши. Впрочем, пока пастор говорил, ко мне пришла мысль написать произведение для органа и хора, которое состояло бы из отрывочных звуков, между которыми предполагался бы своеобразный речитатив на языке, непонятном никому или почти никому. Может, арамейском? Я записал это посреди надгробной проповеди, чтобы не забыть. Никогда раньше не писал для хора, да еще и церковного органа. Мне вновь вспомнился тот старый клавесин дома, когда я был ребенком (и рассуждал как ребенок). Наверное, можно использовать в моем произведении такой инструмент взамен церковного органа.
Вдруг художник подошел ко мне и стал рядом, пока я нагребал со стола угощения на тарелку.
– Это ты пишешь музыку? – с места в карьер спросил он.
Откуда он узнал? Я был поражен: честно говоря, мне казалось, никто не подозревает, чем я занимаюсь.
– Все можно как-нибудь назвать, – ответил я в манере Дельфийского оракула.
– Я вот тоже искусством занимался, – сказал он. Я увидел в его лице какую-то горячность, от которой у меня осталось неприятное впечатление определенного рода – не знаю, почему именно.
– Знаю, – ответил я.
– Обо мне кто-нибудь жалел? – В его голосе звучала нескрываемая надежда.
– Да, немного, – ответил я.
– И? – спросил он. Он уже начал меня утомлять – всего через несколько секунд после того, как я познакомился с ним.
– Не самые плохие картины, – ответил я.
Может, меня одолел приступ какой-то духовной скупости, но я не смог больше ничего сказать. Этого ему явно не хватило. Внутри него как будто что-то потухло. Он, не произнеся ни слова, отвернулся от меня и начал беседовать о теплицах со стоящей рядом женщиной. И я даже обрадовался, убедившись, что в жизни он оказался на самой благоприятной для него почве – своей морковной грядке.
Художник был единственным, с кем я перекинулся словом на этих поминках. Стол ломился от выпечки и блюд, напоминавших о старом прусском кайзерстве: там был, например, торт «Захер», квашеная капуста, венский шницель, сосиски – и немецкого пива сколько душе угодно. Я выпил две бутылки пива – один, в уголке, стоя со своей тарелкой, и пока пил, смотрел на собравшихся, как они носятся по залу, открывают рты и без конца разговаривают. Шум и гомон слились в какую-то дисгармоничную симфонию, и у меня снова родилась идея – понадобилось достать записную книжку. Художник проходил мимо, увидел, как пишу, и, мне показалось, поэтому окинул меня недобрым взглядом. Я поднял вслед ему бутылку пива на прощание, но он притворился, будто меня не заметил.
*
Когда я вышел на улицу, дождь зарядил уже не на шутку. Не в первый раз за это лето. Сейчас уже стоял август, в воздухе ощущалась близость осени, и у растительности появились приметы начала увядания – впрочем, заметные лишь при пристальном рассмотрении.
Публика стал выходить из клуба и рассаживаться по машинам. Здесь большинство проделывало пешком лишь пару шагов от дома до машины. Автомобиль важен так же, как в старину – лошадь. Единственная разница между ними – на смену четырем ногам пришли четыре колеса. Но в любом случае это четыре на четыре, полный привод. Подавляющее большинство автомобилей в этой местности были дизельными джипами. Лошади щипали траву в свежем виде, а машины поглощают останки ископаемых растений, добываемые на глубине. Лично я стою за лошадей, хотя у меня самого коня никогда не было.
Тут я вспомнил, что мне надо написать текст рекламы еще одной марки машин. Я поспешил домой и был до смерти рад, что выжил после похорон незнакомого, в сущности, человека. Я регулярно похлопывал себя по карману дождевика, проверяя, не потерял ли записную книжку, как предыдущую. Это было странное лето. Я утратил бесценную книжку, окончательно расстался с женой, проводил дни напролет в одиночестве, а судя по текущей ситуации, сейчас это одиночество должно зазвучать еще громче. Я услышал отдаленные тяжелые удары в литавры – или они раздавались у меня в голове?
* * *
Порой я принимаюсь гадать, с кем это Анна начала встречаться, но ответа не нахожу. Несколько раз я пытался позвонить на наш домашний телефон (который теперь принадлежит только ей), но она по нему не отвечает, а в мобильнике у нее всегда автоответчик. Похоже, она не желает со мной разговаривать, считает, что пока это обсуждать не нужно. Однажды вечером я взялся было писать ей имейл, но все удалил, написав несколько абзацев. Мне показалось, писать обо всем этом не имеет смысла.
Что есть, то есть.
Я до сих пор не решил, как долго еще пробуду здесь. Недавно звонил Андрьес, желая удостовериться, что я сделал все, как он просил, и после моего уверения, что все добросовестно исполнено, он остался доволен, намекнув, что, если я захочу, могу остаться здесь подольше – даже на долгое время. Но тогда это самое, насчет Анны, еще не всплыло, а сейчас он, скорее всего, знает и как отнесется к моему пребыванию здесь – вопрос. Может, захочет, чтобы я платил ему за прожитье, раз уж я ему больше не родственник, или вовсе меня выгонит – как знать. Но сейчас не хочу об этом думать.
Пока я здесь – я здесь.
Каждый день ко мне приходят какие-нибудь звуки, я записываю их – или за кухонным столом, или на коленке, если они застигают меня на улице. Некоторые из них, пока долетают до меня, уже выбиваются из сил и умирают рядом со мной, подобно стае майских мотыльков, а у иных жизненной силы больше, и они дольше выдерживают до тех пор, пока у меня доходят руки перенести их на бумагу. А будет ли их жизнь продолжаться там – это другой вопрос. Выяснится позже, когда я стану разглядывать их сквозь микроскоп исследователя – так сказать, глазами энтомолога.