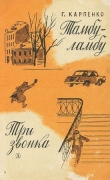Текст книги "Реквием"
Автор книги: Гирдир Элиассон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Я уже начал поиски.
*
Если б у меня был ребенок, я гулял бы с ним именно по этому взморью, но его нет. У нас – у меня с Анной – ребенок был или… Не хочу сейчас об этом. Не хочу говорить об этом вообще. Но все же мне хочется…
* * *
Единственный камешек, который я подобрал на песке, – маленькая красная яшма. И она лежит на кухонном столе, а цвет у нее почти как у стоящих рядом стульев.
Идет дождь. Я завариваю кофе. Никогда не пью его столько, как при дожде: мне словно нужен мощный противовес всей этой чистой воде. Я уже давно решил, что будет написано на моей могиле. Хочу себе на надгробный камень (гранит) вот такую надпись: «ВКУСНО / ДО ПОСЛЕДНЕЙ / КАПЛИ». Это, конечно, рекламный слоган. С упаковки кофе. Даже в посмертии все зависит от того, как мы жили. На моих похоронах впервые прозвучит музыка моего собственного сочинения. А пока я жив, попридержу ее для себя. За все эти годы я так и не показывал никому, что пишу, или не позволил послушать. Даже Анне ничего слушать не даю. Хотя и неясно, захочет ли она. Мы об этом не разговариваем. А еще инструмент у меня только один (да и тот остался в столице) – клавесин из дома моего детства. Он не очень удобный, тем более что играю я так себе, поэтому не стал бы никого приглашать на прослушивание на этом старом агрегате – но Гурджиев точно бы согласился, ведь он однажды играл сутки напролет на расхлябанном инструменте, который ему кто-то отдал.
Попивая кофе на кухне, слушаю шум воды в водосточном желобе за окном. Этот желоб поет, он поет! Дождь радует его больше, чем кого бы то ни было на свете. Во время дождя он как рыба в воде. Я тянусь за своей молескиновой книжкой и набрасываю на странице этот глухой, но искренний напев, доносящийся из-за двойного стекла. Рябина за окном кухни понурила лиственную голову: она не разделяет радости водосточного желоба.
Андрьес звонит мне впервые с тех пор, как я сюда приехал. Он говорит в основном о саде: чтобы я им занялся – скосил траву и сделал еще всякие мелочи, но главное – подновил забор спереди. Я соглашаюсь; но когда спрашиваю насчет газонокосилки, он отвечает, что она старая, бензиновая, стоит в пристройке под брезентом. Наверное, у нее и ножи затупились, ведь их никогда не меняли. В саду все заросло цепкой густой травой, и мне это не нравится.
– А это не слишком трудно? – спрашиваю я.
– Трудно? А разве жизнь вообще не трудная? – отвечает он, как будто немного рассерженно.
– И то верно, – уступаю я; ведь дом-то принадлежит ему, а мне меньше всего хочется показаться неблагодарным.
– А еще в пристройке молоток и доски, – говорит он. – Я уже напилил те доски для забора, которые надо заменить, тебе осталось только оторвать старые и прибить на их место новые. Краска там же.
– Не вопрос, – отвечаю я и чувствую, как меня охватывает страх работы. Точно такой же, что не дает мне дописать мои музыкальные произведения.
Сегодня я этим заниматься не буду. В дождь газонокосилку никто не включает, да и для починки и покраски забора тоже нужна хорошая погода. Это понятно. Сегодня вообще ничего делать не стану, просто побуду сам собой и послушаю звуки, которые принесет мне дождь. В ближайшие дни мне не надо писать никаких рекламных текстов, я сделал все заказы и сдал их. Это отняло у меня целый вечер до самой ночи. Но после того, как я ударно потрудился, не могу ни видеть, ни слышать никакой рекламы. Если ее передают по радио, сразу выключаю, то же касается и телевизора (правда, его я смотрю крайне редко, только если в программе есть передачи о музыкантах, что нечасто бывает; старые добрые времена, когда раз в неделю шли передачи о Гленне Гульде и других гениях, уже прошли и явно не вернутся), а в компьютере я методично закрываю все вкладки с рекламой, стоит им высунуть откуда-нибудь свою безобразную голову.
*
Чайки закричали: они прилетели стаей ко мне на задний двор клевать червей. С ними одинокий кулик-сорока, которого не смущает присутствие чаек. Они относятся к своей работе крайне серьезно и порой, если какая-нибудь чайка оказывается удачливее других, поднимают гам, голосят что есть мочи, и слушать это неприятно. Прямо как у нас, людей. Мне очень хочется положить эти крики на музыку, и вскоре я решаю: так и быть! К черту авторские права птиц! Соглашусь с Мессианом: нет у птиц никаких исключительных прав на свое пение или вопли. После этой мгновенной смены взглядов у окна кухни моя жизнь как композитора станет чуть проще – во всяком случае, я на это рассчитываю. Теперь в нее добавилось целое новое измерение, которое я раньше исключал.
Кулик-сорока отвлекается от вытягивания червяков из земли, поднимает голову и с плохо скрываемым презрением глядит на черно-белых чаек. Он и сам черно-белый, но считает себя выше их. Его терпение явно на исходе. «Все я о вас знаю, расхитители яиц!» – говорит его пристальный взгляд. Они притворяются, что не замечают его. Вдруг он решает, что с него хватит, и улетает. А чайки продолжают искать добычу в земле, и сейчас они рады-радехоньки: все достанется только им!
Я возвращаюсь в кухню, наливаю еще кофе и сажусь на один из алых стульев, смотрю на яшму и нацеливаю ручку на страницу записной книжки. Кофе не очень вкусный. «Максвелл Хаус» не продается в здешнем магазинчике – том самом, где заправляет тот мужик, с прусскими усами. Я попросил его заказать пару упаковок, а он выслушал, не выказывая интереса, лишь пригладил свои усы, словно старый кот, который только что налакался молока, и больше ему ничего в жизни не надо.
Может статься, то, что я спешу записать, – ни рыба ни мясо, но мне это не важно, ведь ноты так и льются на бумагу. И дождь так и льется. И падает на траву, которая поглощает все, будто чистая страница – tabula rasa.
Пока капли ползут по стеклу, я думаю о том ребенке, которого мы завели было, но который так и не родился. На полях записной книжки записываю: «Скорбная песнь», и это единственное, что приходит мне на ум.
* * *
Мне пора вновь сдавать очередной рекламный текст. Я выхожу в сад, чтобы написать его там, не хочу сидеть внутри в такую погоду: воздух прогрелся до +20 °C. Соседка вышла позагорать в своем шезлонге, как и всегда, стоит небу лишь как следует проясниться. Об Андрьесе она больше не спрашивала, да и вообще со мной не разговаривала, лишь кивала издалека через забор, увидев меня в саду.
Писать мне надо о «БМВ» – машине, о которой я и мечтать не смею и о которой мало что знаю. По-моему, до этой поры я даже никогда и не думал о «БМВ». Как же велика сила рекламы, если она заставила меня всерьез задуматься о марке машины, о существовании которой я до сих пор имел весьма смутное представление! А сейчас мне надо писать о ней. Приходится приложить немалые усилия, чтобы перестроить сознание с нот на буквы, ведь за истекшие недели я привык выражать мысли и чувства только с помощью этих «удивительных значков на волнах времени»[8]8
Цитата из стихотворения исландского поэта Бенедикта Грёндаля (1826–1907).
[Закрыть] По вечерам развлекался тем, что забивал эти фрагменты мелодий в компьютер, в музыкальную программу, и расставлял как надо, проигрывая выбранные куски. По-моему, наброски звучат неплохо. Могло, конечно, быть и лучше, но ведь могло и намного хуже.
Текст про немецкую машину (она точно немецкая?) я вбиваю сразу в компьютер. Правда, солнце светит прямо на экран, так что я почти не вижу, что делаю. Мне хочется побыстрее покончить с этим, чтобы дальше наслаждаться солнцем и записывать в молескиновую книжку новые обрывки мелодии. Рекламное агентство прислало мне фотографию обтекаемого черного автомобиля, который мчится на полной скорости, а я должен сочинить к ней текст. У меня совершенно не получается придумать к картинке подходящую подпись. Это все равно что косить цепкую траву при дожде газонокосилкой с тупыми ножами.
Вдруг соседка подходит к моему забору. Она встала с шезлонга, как была в бикини, и кладет загорелые руки на забор.
– Передай Андрьесу, что я не возражаю, – говорит она.
– Насчет чего? – не понимаю я.
– Что он не приезжает, – отвечает она.
Я ненадолго задумываюсь. Это надо обмозговать.
– Хорошо, передам, – наконец произношу я.
– Вот и ладно, – бросает она, словно это я всему виной, возвращается к своему шезлонгу и ложится. Вскоре она громко включает музыку в колонках, стоящих у дверей гостиной.
Звучит «Sultans of Swing» – песня, которая непостижимым образом убирает у меня внутри препятствие, преграждавшее путь потоку слов о черном автомобиле, и вот уже строки хлынули – обтекаемые, как и сам этот автомобиль.
* * *
Когда я вновь наведываюсь в магазин к продавцу с прусскими усами, выясняется, что он уехал в отпуск и его заменяет женщина лет сорока. На ней полосатое платье, делающее ее слегка похожей на зебру, ее движения мягки, как и линии. Я покупаю все, что нужно, и, по обыкновению, много чего в придачу. По-моему, никогда еще ассортимент этого магазина не был таким хаотичным: в какой угол ни посмотри – повсюду найдется что-нибудь неожиданное. Какими бы ни казались усы владельца, а прусской дисциплины и порядка здесь нет и в помине. Называется магазинчик «Щебенмаг», и это подходящее название: за зданием сплошь голые щебенники и холмы. Но ведь «магами» именовали и трех волхвов из Евангелия. А еще вроде бы когда-то магнитофон так прозывали.
На обратном пути домой с двумя пакетами покупок я на миг останавливаюсь, проходя мимо порта. Там жизнь кипит, суда возвращаются с рыболовного промысла, а другие, покрупнее, отчаливают: везут туристов смотреть китов. Здесь море прямо-таки создано для того, чтобы любоваться китами. Я долго интересовался языком китов, у меня много дисков с записью «бесед» разных их видов. В своем общении они объединяют речь и музыку совершенно естественным способом. Я годами включаю эти их мелодии-разговоры по вечерам и пытаюсь отгадать, о чем же они беседуют, но это мне, конечно, не удается: я всегда засыпаю до того, как найду хоть какую-нибудь разгадку. Могу гарантировать: под болтовню китов засыпать приятно. Очевидно, Кьярваль провидел будущее – от эпохи «расцвета» китобойного промысла до наших дней, когда сказал: «С китами люди все никак не наиграются».
Я где-то читал, что у китов, судя по всему, ай-кью выше, чем у людей. По-моему, это вполне вероятно: обогнать по той части нас немудрено, ведь мы такие невежды! А поговорить с китом было бы полезно, например о музыке. Я несомненно вынес бы из такого разговора больше, чем он. Особенно мне хотелось бы побеседовать с гренландским китом – мне почему-то кажется, что с ним у меня лучше всего установится контакт, но доказать это не могу, просто ощущаю.
Полные пакеты оттягивают руки, на них красуется четкая надпись «Щебенмаг». Когда я поднимаюсь на горку и вижу дом, мне уже невмоготу их тащить. Утес высится за домом, словно его особый дух-хранитель. Меня наполняет смутное ощущение покоя и незыблемости, которого я уже давно не испытывал – годами, чтобы не сказать десятилетиями. И все же я понимаю, что это ненадолго.
У калитки на минуту опускаю пакеты и окидываю взглядом фьорд. Голубая горная цепь на севере вздымается до небес, и горы зубчаты, словно бородка огромного ключа от замка вечности. У моря цвет примерно такой же, как у гор. Я вижу один корабль для китового сафари, он летит на всех парах далеко на восток, оставляя пенный след. А прямо над этим следом еще один такой же – от реактивного самолета, мчащегося в неизвестные мне части света.
Войдя в дом, звоню Анне, а потом вынимаю продукты из пакетов и раскладываю в холодильнике. Мой звонок разбудил жену, она немногословна, а я пытаюсь поделиться с ней кое-чем из того, что мне недавно пришло в голову, потом снова спрашиваю, не собирается ли она приехать. Она отвечает, что подумает, но сейчас у нее дел невпроворот. Я знаю, что к ней проявляет повышенное внимание ее начальник – и явно не только как к сотруднику, но предпочитаю промолчать.
*
После телефонного разговора мне удается заполнить холодильник покупками только наполовину. Кажется, в него может влезть бесконечно много. Он распахнут настежь; это все равно что кормить ненасытного белого кита, разинувшего гигантскую пасть. Холодильник выпущен в Швеции, марка – «Исмаэль».
Хотя…
И поскольку у меня самого имя такое, какое есть, у меня возникает какое-то неприятное ощущение, когда я осознаю, насколько велико сходство этого агрегата с китовой пастью – не считая, конечно, разницы в температурах внутри. Я ведь говорил? Меня зовут Йоунас[9]9
Исландское имя Йоунас соответствует библейскому имени Иона.
[Закрыть].
* * *
Я на пару дней отлучался в столицу – летал на самолете, а сейчас вернулся. В том, чтобы ненадолго заглянуть домой, ничего страшного не было, и все же на первых порах мы с Анной были как будто немного чужие друг другу – странное чувство. Мы уже двадцать лет женаты, но, когда я вошел в наш дом, у меня возникло ощущение, что мы едва знакомы. Подозреваю, супругам известно это чувство, даже если они прожили вместе так долго – или, может, как раз именно поэтому.
Пока я оставался в городе, звонил Андрьес. Он сообщил, что ему, скорее всего, потребуется дача в конце августа или начале сентября. Я согласился, а потом, поправившись, сказал, что, конечно, все в его воле.
– Обо мне кто-нибудь спрашивал? – поинтересовался он.
– Не помню, – ответил я. Мне и самому непонятно, почему я ответил именно так, разве что мной руководило подсознательное стремление не давать ему поводов занимать дом. Между прочим, его собственный.
– Ну хорошо, – произнес он и вскоре завершил звонок. Он был не очень разговорчив, совсем как его племянница – моя жена.
Я съездил в рекламное агентство и немного пообщался с начальником. Тот заявил, что хотел бы вновь видеть меня на работе «в ежедневном режиме», как он выразился. Я оставил эту реплику без внимания, зато пообещал прилежно выполнять все, что мне задают дистанционно. Он посчитал, что этого будет достаточно – во всяком случае, пока что.
Мне стало легче, когда самолет стрелой несся на восток. Конечно, я был один, возможно, даже одинок, зато наедине с собой, и, если учесть, какой стала моя жизнь сейчас, этого мне вполне хватало. И даже моя обычная фобия полетов меня не тревожила. Весь тот час, который занимал полет, я черкал в записной книжке так, словно от этого зависела моя жизнь, и даже не смотрел в окно на пейзажи под нами. А между тем небо было безоблачное, и «ледников белоснежных вершины»[10]10
Цитата из стихотворения Йоунаса Хатльгримссона «Исландия». Эти слова отсутствуют в известном переводе стихотворения на русский язык.
[Закрыть] в отличной форме, – как неустанно твердил нам пилот.
Когда я переступил порог дачи Андрьеса, меня охватило удивительное ощущение: будто я вернулся домой, хотя на самом деле приехал из дома. Я вошел в кухню и радостно посмотрел на алые стулья – они как будто все это время ждали меня, и исцарапанная столешница тоже. Ей словно не терпелось снова ощутить прикосновение записной книжки. Ни в одной кухне мне не было так уютно с тех пор, как я в детстве ездил в деревню и сидел на титане возле дровяной печки и смотрел, как бабушка в своем платье в цветочек над чем-нибудь хлопочет. Именно тогда я начал слышать мелодии, стал превращать окружающие звуки во что-то иное. Но в то время я еще не умел записывать ноты, и ничего из мелодий, которые сочинил в ту пору (одна из них родилась от свиста в топке), не удержалось в памяти, за исключением одной. Это была мини-мелодия, как у Сати (о котором я тогда, конечно, и слыхом не слыхивал), а возникла она, когда я смотрел, как бабушка, встав посреди кухни, сбивает масло. По каким-то причинам я запомнил эту мелодию. У бабушки с дедушкой все хозяйство было на старинный лад, и она сама делала для своей семьи и масло, и скир. Мне порой давали покрутить ручку сепаратора или даже взять маслобойку и выпить с крышки пахту. Эту маслобойку смастерил дедушка. Она была неказиста, но крепка и, как говорила бабушка, не протекала, как многие маслобойки в старину. Эту мини-мелодию я занес в компьютер и переложил для фортепиано и ксилофона. Не хочу хвастаться, но вышло и впрямь неплохо: без конца повторяющийся мотив в разных вариациях. Название у нее простое: «Кухонные звуки». Каждый раз, когда я проигрываю ее на компьютере (что бывает весьма редко), я так и вижу, как эта пожилая женщина кружит по кухне в своем узорчатом платье – точно бабочка-адмирал с перебитым крылом. Других мест для самореализации, кроме кухни, у моей бабушки не было, но она частично компенсировала это тем, что разбила цветник прямо под кухонным окном. Ей бы понравились эти алые стулья: она обожала яркие цвета и выбирала себе платья в соответствующем стиле.
Я открываю шкаф в гостиной и вынимаю оттуда бутылку виски, которую там держит Андрьес: он разрешил мне пить алкогольные напитки сколько угодно – мол, потом сам пополнит запасы. К счастью для него, выпивоха из меня никудышный, но вдруг мне захотелось виски. Я наливаю в один из хрустальных бокалов, стоящих возле бутылок. Это виски благородного сорта. «Лагавулин» шестнадцатилетней выдержки. Правда, весь его изысканный букет пролетает мимо меня, я не разбираюсь ни в виски, ни в другом спиртном. Но все же чувствую: напиток качественный. И легкий привкус дымка мне нравится.
Когда горлышко бутылки со звоном ударяется о бокал, пока я наливаю, у меня в голове начинается какой-то процесс. Я выуживаю мою извечную записную книжку из кармана и кладу ее, раскрытую, на стол, рядом с ручкой, и на миг задумываюсь, попивая этот янтарный напиток. Первый бокал идет легко, и я наливаю второй и ощущаю в себе небольшую перемену. Ноты стали изливаться на бумагу быстрее. Правда, это может означать, что завтра они еще быстрее будут зачеркнуты – буквально полностью вымараны.
За окном полная тишина, лишь кулик-сорока на заднем дворе ненадолго подает голос. А затем умолкает, как подстреленный.
* * *
В понедельник утром, когда я снова захожу в магазинчик, обладательница зебрового платья по-прежнему там – только уже переоделась в черные брюки и синюю муслиновую блузку.
– Хозяин еще не думает возвращаться из отпуска? – спрашиваю я, просто чтобы не молчать, пока выкладываю свои покупки на покрытый рубцами прилавок, который, как мне говорили, стоит тут еще со времен датского владычества[11]11
Исландия находилась в зависимости от Королевства Дании до 1944 г.
[Закрыть].
Она бросает на меня быстрый взгляд, и в лице у нее появляется что-то странное:
– Разве вы не слышали?
– О чем?
– Он умер.
– Умер? – повторяю я.
– Да; в отпуске, в Зальцбурге.
Я стою как громом пораженный. Значит, я больше не увижу эти усы?
– А он был австриец? – спрашиваю я.
– Нет, но он так обожал Австрию – никто не понимал, почему именно. Может, он и сам не знал.
– И он там что, просто взял и умер?
– Да, от сердечного приступа. Была такая жара, и, видимо, он ее не вынес. Пошел в короткий поход в горы и посреди склона взял и сразу сник.
– Когда похороны? – осведомляюсь я.
По ее лицу скользит многозначительная тучка.
– Пока не решили, – отвечает она. – Это может затянуться: он все-таки за границей был. И все в таком духе… – Она слегка наклоняется над прилавком, и я неожиданно для себя заглядываю в глубокий вырез на ее блузке. Ее бюст обширен и ничем не стеснен. «United Silicon?» – непроизвольно приходит мне на ум, но я быстро отвожу глаза: все-таки такое не дозволяется.
Окидываю взглядом магазин, эту уникальную лавку колониальных товаров, которую теперь наверняка модернизируют, коль скоро владелец скончался. На миг задумываюсь, идти ли мне на его похороны, когда они наконец состоятся, чтобы выразить тем самым почтение к его методам торговли, но потом решаю, что это лишнее. Ведь он же на мои не придет. К тому же неясно, буду ли я еще здесь, когда гроб с телом доставят из-за границы. Сейчас я живу одним днем.
А может, и мне пойти в поход, как он?
Пока я несу домой покупки, начинает накрапывать дождь, легкая морось ложится на старые красные магазинные постройки с черными крышами возле причала.
Я думаю о владельце магазинчика, и это приводит меня к мыслям о маленьких американских городках, при въезде в которые всегда стоят таблички вроде «Число жителей: 509» и т. д. Я часто задавался вопросом, кто же следит за этими цифрами и обновляет данные, если кто-нибудь из жителей умрет или уедет. Может, начальник полиции со звездой шерифа, тщательно приколотой к нагрудному карману рубахи защитного цвета? А здесь нет ни начальника полиции, ни тем более такой таблички, так что, даже если количество жителей и уменьшилось на одного, менять здесь нечего. А если продолжить разговор об американских табличках, то я никогда не мог понять, почему они всегда написаны от руки. Цифры было бы гораздо удобнее написать заранее на отдельных кубиках и просто заменять их, когда число жителей изменится, – как номера псалмов на доске в церкви[12]12
В исландских (и других скандинавских) лютеранских церквях псалмы в псалмовниках пронумерованы, и номера псалмов, которые предстоит петь хором во время того или иного богослужения, выставляются на специальной доске.
[Закрыть]. Но нет, им непременно надо все выводить от руки краской, а потом ждать, пока она высохнет, и следить, чтобы новые цифры не смыл дождь. А потом, может, не успеет краска высохнуть, как глядишь – еще кто-нибудь покинул городок, или туда вдруг въехало целое семейство, несмотря на безработицу и прочие неприятности.
*
Вечером я ставлю Моцарта – «Концерт для фортепиано № 21». Очевидно, это мой личный реквием тому усачу; ведь Моцарт, как известно, долго жил в Зальцбурге. А его настоящий «Реквием» я летом никогда не слушаю. Ставлю его только в середине зимы, перед самым Рождеством. Ничего не могу с этим поделать, но в конце адвента он вдруг оказывается у меня в проигрывателе, и я включаю громкость на полную. В общем, сейчас звучит «Концерт для фортепиано № 21». Исполняет Клаудио Аррау. Не думаю, что Моцарт дал бы заманить себя в горный поход, – но в медленных частях произведения есть детали, которые дают понять, что он понимал смерть лучше многих других. Правда, сам я смерть не понимаю даже приблизительно, хотя чувствую, когда понимают другие.