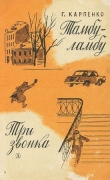Текст книги "Реквием"
Автор книги: Гирдир Элиассон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
B
* * *
В послеполуденный час солнце светит в окно кухни, я сижу за столом и делаю записи в свою книжку. Надо сказать, она не та, с которой я приехал сюда в начале лета, я уже купил другую – в магазине продавца, который умер, точнее, еще до того, как тот умер. Он уже уехал в Зальцбург, но еще не отправился в свой роковой поход. И конечно, не знал, что я купил в его магазине записную книжку, потому что тогда за прилавком стояла женщина. И все же эта книжка у меня почему-то ассоциируется именно с ним. (Правда, это не «Молескин», этой марки в здешнем магазине нет.) Медленно, ощупью на страницу прокрадываются ноты, в которых можно увидеть некие отсылки к «Реквиему» Моцарта, хотя в гораздо меньшем масштабе – до бесконечности малом, однако в них настоящая скорбь о сгинувшем человеке. Удивительно: когда кто-то умирает, тебе самому вдруг становится не по себе, хотя, пока тот человек был жив, до него тебе, в общем, не было никакого дела. Но, может, это и не настоящая скорбь – лишь страх игрушечного солдатика оказаться следующим из шеренги, кого собьет мраморный шарик, катящийся по полу комнаты. Помню, как я метко целился в солдатиков, которые казались мне выбивающимися из ряда, когда сам играл в детстве, запуская в них блестящий шар. Но, разумеется, при этом порой убиваешь и многих других. Я поднимаю глаза от страницы с небрежными нотами на стену кухни, словно для того, чтобы убедиться, не падает ли на нее тень мраморного шара. Но там только солнце – самый большой на свете мраморный шар, а тень сегодня на стену не падает.
*
Когда я поднимаюсь из-за стола, время ужина давно миновало, а я за этим столом не ужинал и не обедал – только писал, лишь разок заварил кофе, о еде же и не думал. Вот что искусство делает с человеком – или делает человеку: занимаясь им, он совсем забывает про аппетит, впрочем, это, наверное, и неплохо, когда ты в принципе не забывчив, а похудеть хочешь. Умение забывать делает жизнь более сносной. Кто этого не может – оказывается уничтожен, если не в буквальном смысле, то, по крайней мере, внутренне. Помнить все – бремя столь тяжкое, что дух не справляется с ним, отказывает, как сердце в горном походе. Хотя я считаю, что записываю свои мелодии совсем не для того, чтобы просто забыться. Назвать это «творчеством» было бы неверно. Разве человек вообще творит что-то сам, с нуля? Разве не все в этой жизни он заимствует у кого-то другого? Точно не знаю, но подозреваю, что это именно так. Сняв для себя запрет на использование птичьего пения в музыкальном творчестве, я еще больше укрепился в убеждении: все, что мы создаем, все, что у нас есть, на самом деле исходит не от нас самих, а из других источников. Что такое лампочки, как не копии солнца, которое сейчас светит в окно кухни? Они приходят ему на смену, когда оно по ночам отправляется на покой, хотя, если честно, они довольно слабая замена. То же, вероятно, можно сказать и о человеческой музыке в сравнении с симфонией мироздания в целом. (Конечно, последнюю никто никогда не прослушивал полностью – ведь такого не пережить, в том смысле, что для этого целой жизни не хватит.) И все же композиторы, за исключением меня, очевидно, ближе всего к понятию творцов в самом глубоком значении этого слова. Из всех людей.
*
Как только я поднимаюсь из-за стола, за которым писал, звонит Анна. Во время разговора с ней я открываю холодильник. В нем негусто. Наверное, по телефону она узнала звук, раздавшийся, когда я распахнул дверцу «Исмаэля», – по крайней мере, она ни с того ни с сего спрашивает: «А ты питаешься как следует?»
– Да-да, – я не горю желанием дальше развивать эту тему.
– Папу в больницу положили, – вдруг произносит она, словно это имеет отношение к моему питанию.
– Что на этот раз?
– Желчный пузырь, – отвечает она.
Ничего удивительного. Этот человек такой желчный! Он так и не принял меня, свысока смотрит и на работу в рекламной отрасли, и на творческую жилку. И никогда не упускает возможность поставить меня на место, а оно, в его представлении, находится так далеко внизу, что мои ответы до него просто не долетают, – правда, отвечаю я ему редко. Потому что почти прекратил с ним общаться.
– Надеюсь, его ему вырежут, – говорю я.
– О чем это ты? – не понимает она.
– О том, о чем сказал: что ему эту желчь удалят.
Она не отвечает, но я слышу в телефоне вздох. Потом мы принимаемся обсуждать ее работу – мы вообще обычно говорим о ней. А о моей работе – почти никогда. Порой мне кажется, будто Анна унаследовала от отца определенное отношение к моим занятиям. И с годами это мешает мне все больше. У нас, как говорится, положение разное – сейчас вдобавок и географическое.
Она интересуется, не загляну ли я снова в столицу ненадолго, но я говорю, что хочу просидеть здесь безвылазно до осени.
– А если приедет дядя Андрьес? – спрашивает она.
У меня есть обоснованное подозрение, отвечаю я, что не приедет. Конечно, никакого «обоснованного подозрения» (так полицейские выражаются) у меня нет, просто желание.
– Я так устаю, – говорит она. – Все время только и работаю.
Знаю: у нее аврал.
– Разве не все устают? – отвечаю я.
– Наверное, – отвечает она.
Разговор сходит на нет, пока лучи солнца медленно меркнут на траве за окном гостиной, и эти наши немногочисленные слова – как крошечные звезды на самом краю Солнечной системы. Солнце лишь на миг успевает осветить их, а после они скрываются во мгле и пустоте. Стоило нам закончить разговор – и я тотчас забываю почти все сказанное.
* * *
Вечер, погода тиха, небо ясно, лишь чуть-чуть начали собираться облака, ведь лето уже заканчивается. Я гуляю перед сном для поддержания здоровья, дошел уже до самого причала и смотрю на лодки из стеклопластика, стоящие у стальных столбов (деревянного причала уже давно нет, да и деревянных лодок тоже). Море тихо плещет возле их носов. Этот звук очень успокаивает и вызывает у меня разнообразные ассоциации. Я ненадолго присаживаюсь на колени, кладу раскрытую записную книжку на швартовый кнехт и набрасываю несколько нот, а потом продолжаю свою прогулку. По вечерам поселок вымирает – я имею в виду, улицы пустеют, лишь пара-тройка туристов-иностранцев из кемпинга или из так называемого отеля шатаются в поисках развлечений. Конечно, бар в гостинице открыт, но туда, судя по всему, мало кто ходит. Я прохожу мимо низенькой гостиницы, даже не заглядывая в ее двери. Когда возвращаюсь в верхнюю часть поселка, перекрестка за два до дома вдруг замечаю, что в одном из дворов теснится народ – перед огромным домом, видимо капитанским особняком. Оттуда доносится шум и гам и звон бокалов – в буквальном смысле слова. Меня осеняет: как же это напоминает птичий базар, с крошечными отличиями, – такой же гомон. Перед домом множество сверкающих начищенных машин: «БМВ», «Ауди» и другие роскошные марки – я их когда-то рекламировал, но этим мое знакомство с ними исчерпывается. На одном столбе у ворот висит некий плакат, а на нем печатными буквами написано:
ЖЕНУШКА ЛАПУ
ТЕЧКА
С 60-ЛЕТИЕМ!
«Странновато как-то», – проносится у меня в голове; здесь забыли знаки переноса, и это бросается в глаза. Но гораздо больше мое внимание привлекает то, что на столбы малярным скотчем прикреплены кладбищенские свечи. И они вовсю пылают в вечерней тиши. Не знаю, зачем надо было их закреплять: ведь ветра нет. Вопросы вызывает уже то, что на день рождения супруги кто-то взял и смастерил вот такой плакат. Но эти свечки при радостном событии выглядят еще неуместнее. Наверное, здесь кроется что-то фрейдистское: затаенное пожелание смерти жене, потому что в глубине души муж хочет жениться на молоденькой, ведь сам он еще полон сексуальной энергии. Ну, вы же помните Зигмунда.
Я медленно прохожу мимо, до меня доносятся громкие разговоры – если их можно назвать разговорами: сплошные крики и выклики. Затем начинается музыка: она раздается из дома и включена так громко, что у меня закладывает уши. Братья «Би Джиз», «How deep is your love»? Я ускоряю шаг: терпеть не могу этих приторноголосых австралийцев. Но убежать от их голосов так просто не удается: они долетают до меня на следующей улице – да и на второй улице тоже. «Насколько глубока твоя любовь?» Боюсь, не очень, если только речь не о любви к себе. Таково мое поколение: хотя эта музыка и невыносима, ему она соответствует идеально.
*
Пока у меня в ушах еще звучит песня «Би Джиз», а я изо всех сил пытаюсь от нее отделаться, я рассматриваю забор, который обещал Андрьесу починить. Надо постараться сдержать обещание. Он пустил меня сюда пожить бесплатно, потому что очень любит Анну. И знаю, что он сделал это только потому, что она замолвила слово, ведь меня самого он не особо любит.
Затем я вхожу в дом и прочищаю уши, поставив в проигрыватель Скотта Джоплина – «Кленовый лист», и снова и снова включаю одну и ту же мелодию, пока в голове не остается ни следа от тех сиропных голосов. Смотрю на телефон и вижу, что звонила Анна, но сейчас уже далеко за полночь, и она, скорее всего, спит. Мне совсем не хочется ее будить, ведь она устала от работы, так что я не перезваниваю. Мы завтра созвонимся. Перед сном я прочитываю несколько страниц из дневника Прокофьева. Это интересное чтение, которое будит у меня мысли о том, что мне делать дальше. Эти дневниковые записи относятся в основном к «Пете и волку» – в детстве это было мое любимое музыкальное произведение.
* * *
Настало время чинить забор. Андрьес вырос в этом поселке, потому он хочет, чтобы у него здесь было прибежище и там все содержалось в порядке, хотя он сам сейчас редко сюда приезжает. Это можно сравнить с тем, как человек, подверженный приступам страха, постоянно носит с собой валиум, даже если почти не прибегает к нему, – но уже одно осознание, что у него в кармане таблетка, более-менее успокаивает его. Подозреваю, что для Андрьеса этот дом – своеобразный ключ к детству, который так или иначе должен быть у всех. Совсем захлопывать дверь в детство нельзя.
Я захожу в строительный магазинчик, расположенный чуть ниже в порту. Очевидно, он самый маленький из строительных магазинов во всей стране. Там работают двое – в голубых халатах, седые, с официальными выражениями лиц, явно старой закалки. Внешность у них примечательная: оба малорослые, вероятно, братья, наверное, даже и близнецы, а может, седина и халаты просто усиливают сходство, а на самом деле оно не столь велико.
Я сообщаю им, что мне нужны доски, гвозди и краска. Материалы из пристройки, которые предлагал мне Андрьес, время не пощадило. Доски подгнили, краска засохла комками, гвозди заржавели. Ведь это все годами хранилось в неотапливаемом помещении. А я куплю все новое, но Андрьесу не скажу. Ведь я ему обязан.
– Ты живешь в доме Дрьеси? – задает мне вопрос один из продавцов, пока второй стоит рядом и слушает.
– Да, – отвечаю я.
– Мы с ним вместе играли, когда были маленькими, – говорит он.
«Да вы и сейчас маленькие», – чуть не вырвалось у меня, но мне удалось задушить эту фразу в зародыше.
– Вы братья? – спрашиваю я, попеременно переводя взгляд на каждого из них.
Один начинает смеяться, другой даже не улыбается.
– Нет, мы даже и не родня, насколько мне известно. Всего лишь товарищи по играм. Неместные нас постоянно об этом спрашивают.
Он проводит меня в заднюю, складскую, часть помещения, второй следует за нами в сумрак. Судя по всему, ему просто больше нечего делать, ведь других покупателей в магазине нет.
На складе лежат штабеля досок, тротуарной плитки и всяких других предметов, до самого потолка. Просто удивительно, сколько всего влезает в эту пристройку, хотя она и невелика. Между штабелями проходы столь узенькие, что в них едва можно протиснуться. Окон здесь нет, горит тусклая лампочка – никудышное освещение для работы.
Мы останавливаемся у штабеля штакетника; ноздри наполняет запах древесины. Я делаю глубокий вдох. Это всегда напоминает мне об отце, он был плотником, а я ни капельки не унаследовал из его мастерства – умею мастерить только мелодии.
– Вам их напилить? – спрашивает тот, кто со мной разговаривал. Второй по-прежнему молчит, его лицо неподвижно застыло. Если б халат не был синим, весь продавец казался бы вырезанным из черно-белого немого кино.
– Да, пожалуйста, – отвечаю я, всей душой радуясь.
Я так и не постиг искусства работать пилой, отец пытался научить меня, но в результате только потерял терпение. Он никак не мог понять, отчего его сын не прирожденный пильщик. Но мне иногда хотелось сочинить мелодию для пилы, на которой играют смычком. Уж тогда бы она у меня запела!
Продавец вынимает рулетку, с профессиональной небрежностью измеряет доски, затем выхватывает из штабеля несколько штакетин и несет их в угол склада, где стоит небольшая циркулярная пила – ждет не дождется, когда ей дадут впиться в дерево. Она зеленого цвета и чем-то напоминает крокодила, побывавшего под прессом для сена.
Один из продавцов заводит мотор, а другой закладывает доски под пилу. Уши наполняются пронзительным визгом, мне что-то приходит в голову, и я тянусь за записной книжкой, но решаю погодить и ничего не писать, пока не выйду. Мне неприятно делать записи, когда другие смотрят. Но у древесины, которую перерезает железо, звук интересный. Раньше я и не замечал, какие возможности этот звук открывает для современных композиторов… Вот я уже и себя композитором назвал – ой, извините, честное слово, я не хотел! Беру свои слова назад. Хватит с меня и «сочинителя мелодий». Они выключают пилу – она снова погружается в дрему без сновидений, подобно крокодилу в болоте, поджидающему очередную жертву.
– Большое же у вас строительство намечается, – говорит словоохотливый продавец, и лицо у него при этом озорное, хотя не насмешливое.
– Андрьес хочет, чтобы к его приезду забор был починен, – небрежно бросаю я.
– Это он правильно хочет, – подхватывает продавец. – Забор надо содержать в порядке, точно так же, как и дом.
Другой смотрит на него с каким-то обожанием, словно внимает великой мудрости.
Купив еще гвозди и краску, я выхожу обратно на солнце, доски несу под мышкой, в другой руке – ведерко с краской. Коробку с гвоздями пристраиваю на крышку ведерка под ручку. Нагруженный таким образом, не спеша иду вверх по склону и, как обычно, никого по пути не встречаю. Сегодня горы небывало сини – как будто их только что покрасили. Я смотрю на ведерко: по-моему, краска в нем именно такого же оттенка. Я собираюсь перекрасить забор в другой цвет.
«Перекрашивать горы – это очень быстро», – думаю я. Вчера вечером, когда я ложился спать, они были не такого колера.
Молоток беру в пристройке. Он очевидно старый – у него головку и рукоятку меняли так часто, что его изначальный возраст не определить. Есть там и ржавая пила. Я прихватываю ее с собой, потому что собираюсь, несмотря на отсутствие умения, обпилить доскам кончики, чтобы они были заостренными, в одном стиле со старыми штакетинами. Мне всегда не давал покоя вопрос: почему сейчас в мирных жилых районах заборы вокруг домов непременно должны быть заостренными? Это потаенное наследие минувших эпох в истории человечества, когда в любой момент могли нагрянуть враги? И наш мозг до сих пор запрограммирован таким образом, в каких-нибудь скрытых складках коры, против соседей и чужих? Значит, острия этих досок на самом деле направлены на меня, потому что я не местный?
Как бы то ни было, отдираю подгнившие штакетины, на новых обпиливаю кончики и прибиваю. Хорошо, что отец не видит, как я управляюсь с инструментами. Если б видел, он бы в своем гробу завертелся волчком. Я бью молотком по пальцам и вообще все делаю как в фильмах с Бастером Китоном. Будь я пианистом – после пары таких ударов стал бы профнепригодным. На целый день превратиться в плотника – это вам не шутка! А целую жизнь плотником я бы и не вынес. Но доски все-таки становятся на место. И сейчас все опять выглядит как маленькая аккуратненькая крепость, в которой закодировано сообщение о том, что проход к дому запрещен. И даже я сам не решаюсь туда направиться – настолько эти новые доски зубасты. Убрав молоток и пилу, я берусь за ведерко с краской. И тут обнаруживаю, что кисть купить забыл. А в пристройке я ее не нахожу: по-моему, в этом доме уже давно ничего не красили. Но тут меня осеняет, и я приношу из кухни посудную щетку, опускаю в ведерко, где ее уже поджидает синева, а потом наношу ею краску на штакетник. Не знаю, многие ли пробовали красить посудной щеткой, но это не так неудобно, как звучит. Правда, щетина у нее совсем жесткая, и от этого краска ложится полосами, гораздо больше, чем от обычной кисти, но, в общем, получается неплохо. Сегодня забор вокруг дома под цвет гор, только завтра горы наверняка будут другого оттенка. Они его вечно меняют, словно женщина, которая пробует то один, то другой оттеночный шампунь, потому что ей никогда не нравится цвет собственных волос.
Если мне когда-нибудь придется рекламировать посудные щетки, непременно упомяну, что ими можно еще и красить.
Управившись с починкой, гордо смотрю на проделанную работу, хотя у меня от нее все пальцы распухли, а два ногтя почернели. К счастью, попал не по той руке, которой пишу: ею я держал молоток. Сажусь с чашкой кофе на солнышке на заднем дворе, открываю записную книжку и начинаю набрасывать. «Этюд для виолончели, пилы и молотка», – пишу я вверху страницы.
* * *
Когда в пятницу утром я иду в лесничество (я знаю, что там растет можжевельник), встречаю по дороге черный пикап, на котором ездит начальник местной администрации. Сам он одет в черный костюм, вместе с ним в машине, на передних сиденьях, еще двое, тоже в темном. Я смутно различаю их за тонированными стеклами. Едут на «додже»; этот автомобиль даже я узнаю. Такой был у моего дяди, отцовского брата. С начальником местной администрации я встречался лишь один раз: он разговорился со мной на причале, когда я удил рыбу старой удочкой Андрьеса.
На платформе стоит что-то длинное, укрытое темно-зеленым брезентом. Дорога, ведущая в лесничество, потом тянется еще на несколько километров до аэродрома. И тут я понимаю, что это за груз: тело владельца магазина, скончавшегося в Зальцбурге, доставили самолетом. Мне представляется, как он лежит в этом гробу: усы вычищены, сам он принаряжен. Конечно, он планировал вернуться из своего отпуска иначе, но кто сказал, что жизнь справедлива, и никому не ведомо, где его ждет ночлег. У меня снова возникает смутное ощущение, что мне будет не хватать его в магазине. Когда машина проезжает мимо того места, где я стою на обочине, все трое разом поднимают руки; с пассажирской стороны окошко открыто, и мне видно лучше. Три руки. Двух остальных пассажиров я, хоть убей, не знаю. Начальник администрации сидит за рулем в солнечных очках, хотя солнца нет, а стекла в машине затемнены.
Я провожаю пикап взглядом, смотрю, как колышется брезент и как то, что скрыто под ним, слегка вздрагивает на ухабистой проселочной дороге. Здесь явно прохладнее, чем в Зальцбурге, так что, если разобраться, это место для него даже лучше, достаточно вспомнить, что писал Моцарт в своих письмах. Я помню его письма отцу об этом городе, который он ненавидел больше всех других мест, и решил, что никогда туда не поеду. А сейчас, после встречи с человеком, чья поездка в Зальцбург добром не кончилась, меня туда тем более не тянет.
Но как бы то ни было, мне надо решить, идти ли на похороны, – ведь в магазине непременно вывесят объявление о них, вот тогда и посмотрю…
*
Лесничество расположено наверху подгорья, над поселком, тянется по небольшим холмам, а посередине там маленькое кристально-голубое озерцо – словно глаз. На информационном стенде у забора написано, что первые деревья здесь были высажены в 1951 году. Сначала участок занимал тридцать пять гектаров, а потом постепенно расширялся, и сейчас площадь посадок занимает целых восемьдесят гектаров. Это не бог весть какая обширная территория, но хоть какая-то. На стенде есть карта тропинок, которую я по привычке тщательно рассматриваю. В этом небольшом лесу проложено на удивление много тропинок; карта напоминает чертеж галактик. Как только я ступаю за калитку, под сень деревьев, мне становится легче. Все города забыты, зелень деревьев снимает все, что накопилось на душе. Неудивительно, что прогулки в рощах официально признаны полезными для здоровья. Как деревьям удается так влиять на человека – другой разговор, это тема сложная. Я чувствую, как это на меня влияет, но совершенно не понимаю принципа действия. Чтобы пить, не обязательно быть искусным пивоваром.
Тропинки здесь в основном посыпаны опилками, но есть и просто земляные. Немного погодя я дохожу до озерца, которое лежит как в доке, на холме, поросшем лесом, и глядит в небеса. По его берегам растут деревца, напоминая ресницы. У дальней оконечности озерца, у самой воды, – скамейка. Я подхожу к ней и сажусь. Достаю записную книжку, на миг прислушиваюсь к шелесту листвы в утреннем ветерке, а потом принимаюсь делать заметки.
Через некоторое время я чувствую, что устал. Ночью спал плохо, все время просыпался, и одеяло намокло от пота. Мне было нехорошо, не знаю почему. И вот я укладываюсь на скамейке, растянувшись во весь рост, укрываюсь дождевиком, словно брезентом, и лежу; некоторое время смотрю в небеса, так же, как озерцо, а потом закрываю глаза.
А озеро не спит. Оно мой третий глаз.
Я засыпаю и сплю – часа два или три. Проснувшись, я сам толком не могу этого сказать: по солнцу время определить нельзя, телефон я оставил дома, а часов не ношу. Не хочу слишком много знать о времени. Оно идет себе и идет, причем слишком быстро. Не желаю бегать за ним как собачка. «Время – старый лысый обманщик», – сказал английский поэт Бен Джонсон и был прав. В конце концов он всех нас обманет, глазом не моргнув.
* * *
Случилась катастрофа. Я потерял записную книжку со всеми моими набросками. Я обнаружил пропажу вечером, по возвращении из лесничества, когда в прихожей потянулся в карман дождевика, чтобы перечитать кое-какие записи. Но там было пусто. Я для верности поискал во всех других карманах, а потом перерыл весь дом, но ее нигде не было. Мне стало ясно, что я обронил ее в лесу, очевидно, когда решил прилечь на скамейке. Скорее всего, она выпала из кармана, пока я спал. Состояние моей души, когда я понял это, не поддается описанию. Ночью я спал ужасно, еще хуже, чем накануне (хотя и тогда мне спалось плохо), я все время просыпался, а когда удалось забыться сном, мне приснились книги, которые горели, а я пытался спасти их из огня, но только обжег пальцы, а вытащить не успел, лишь беспомощно стоял, глядя, как они, со всем их содержанием, превращаются в пепел.
На следующее утро я первым делом отправился в лесничество – в этот раз поехал туда на машине. По дороге мне никто не встретился, и у калитки другие автомобили не стояли. Я поспешил сквозь молчаливый лес (вспоминая это, понимаю, что птицы тогда не пели), а когда добежал до озерца, ловил воздух ртом от страха. Моя записная книжка ведь где-нибудь там, у скамейки? Но ее нигде не было. Я искал и искал, и когда возвращался, то напоминал собаку-ищейку, не сводящую бдительных глаз с усыпанных опилками тропинок, – но книжки и здесь, конечно, тоже не нашлось. Неподписанная, с одними нотами, кому она могла пригодиться – ума не приложу. Мне и самому порой сложно разобрать свои наброски, а уж другим, по-моему, и подавно, даже если они умеют читать ноты. Кроме того, сомневаюсь, что здесь вообще ходит много людей, и никто не знает, что я сочиняю мелодии (это у меня личное), так что нет ни малейшего шанса, что кто-нибудь принесет мне эту книжку, потому что вычислил, кому она может принадлежать.
Как уже было сказано, я ничего не переносил из той книжки в компьютер, а она к тому моменту, когда потерялась, была исписана почти полностью. Конечно, я отдаю себе отчет: это большая утрата только для меня и ни для кого больше. Мир не рухнет от того, что некий Йоунас, пописывающий для себя то, что он считает музыкой, потерял свою книженцию, сплошь исчерканную значками, которые люди договорились называть нотами. Но для меня это шок. Тяжелый удар! Я почти не помню ничего из того, что записывал туда, специально не запоминал, лишь ловил настроение, прилетавшее ко мне откуда-нибудь, фиксировал на бумаге и тотчас забывал – надеялся, что книжка все надежно сохранит.
Прокружив два часа по лесным тропинкам, я наконец признал себя побежденным, сел в машину и поехал к себе в дачный домик. Там я лег на диван, закрыл глаза и не двигался, пока не перевалило далеко за полдень. Тогда я все же поднялся, пошел в «Щебенмаг» – магазин, принадлежавший усачу, купил новую записную книжку, с бледно-голубыми цветущими травами на обложке. Не знаю, какой она фирмы, но узор напоминал выцветшие фиалки.
*
В магазине за прилавком снова стояла женщина, но не та, что раньше. С обесцвеченными волосами, одетая в синий спортивный костюм. Молодая. Я купил еще какую-то мелочь, но был рассеян и понур. Подойдя к старому выщербленному прилавку, спросил:
– А вы знаете, когда похороны?
– A? – удивилась женщина. – Похороны?
– Ну, владельца магазина, – пояснил я, хотя мне все тут казалось более чем ясно.
– A-а, этого… – сказала она, словно речь шла о чем-то малозначащем. – Нет, насчет этого не знаю. Меня тетя попросила тут за нее постоять пару дней, пока она ездит в Хусавик по делам.
– А вы знаете, что будет с магазином? – спросил я.
– Понятия не имею, – ответила она.
Я сунул записную книжку в карман, а остальные покупки положил в приобретенный для этой цели пакет, поблагодарил и вышел. Я посмотрел на окно магазина, на котором обычно бывали наклеены небольшие листочки с объявлениями, в надежде увидеть информацию о похоронах владельца, но не нашел. Может, он сам писал все те объявления, и вот когда его не стало, оказалось, что больше их размещать некому, а дать объявление о собственных похоронах он явно не мог.
Я застегнул куртку; было зябко, погода пасмурная, из-за туч виднелась лишь нижняя часть гор. В таком виде горы выглядели немного неприлично: как будто тролли в серых шерстяных свитерах, а ниже пояса голые. Я похлопал себя по карману куртки, проверяя, там ли книжка. Хотя она была чистой, мне не хотелось ее потерять.
*
Под вечер позвонил Андрьес, я давно его не слышал – с тех пор, как он попросил меня починить этот забор. Теперь я мог сказать ему, что все сделано, и мне показалось по его, голосу, что он доволен. Но не стал говорить, что перекрасил забор. Я спросил его, слышал ли он о случившемся с владельцем магазина, и он ответил утвердительно, только был с ним почти не знаком. «Он был неместный», – заявил Андрьес, словно сам никогда не выезжал из поселка и все время наблюдал, кто туда прибывает. В подобных небольших поселениях человек, который родился не здесь, может пребывать в статусе «неместного» целых пятьдесят лет или дольше. А если имел счастье появиться на свет в этих краях, его всегда считают своим, даже если он давно уехал и возвращаться не собирается. Для того, кто переехал в такое место, а не вырос здесь, легко остаться одиноким. Я думаю о тех, кто приехал издалека: из Европы или еще более дальних краев, чтобы работать на разделке рыбы. Поначалу для них настоящий шок – оказаться в краю, настолько не похожем на другие: приехать сюда – все равно что прилететь на Марс, да и язык тут тоже какой-то инопланетянский, а вдобавок еще и общество такое замкнутое и сложно устроенное, что в его сердцевину никакие пароли не откроют дверей. Для меня-то это не проблема: я тут просто гость, могу уехать, как только захочу, хоть завтра. И язык мне понятен – в той степени, в какой вообще бывает понятен язык: ведь слова – это далеко не все, важно еще и то, как говорят о важных вещах, и таким образом всех посторонних держат на почтительном расстоянии – которое может быть бесконечно далеким.
– Анна к тебе не собирается? – спрашивает меня ее дядя по телефону.
– Вряд ли ей удастся вырваться. У нее на работе завал, – отвечаю я.
– Гм… Да, не без этого, – говорит он.
Я вслушиваюсь в его голос: тон кажется мне каким-то загадочным, но я не успеваю понять, что именно придает ему такую отстраненность, если не сказать подозрительность. Потом я перестал об этом думать, и в памяти всплыла записная книжка с моими мыслями, которые теперь пропали. Ну и что, что они пропавшие или даже изначально были пропащие, – мне все равно горька ее утрата, как будто я утратил часть себя самого.
– Ты мне траву не покосишь? – спрашивает Андрьес немного нерешительно.
– Да, конечно, – отвечаю я.
Мне вдруг становится понятно, что этим надо было заняться уже давно, там все так заросло, и когда я чинил забор, цепкая трава доходила мне до колен. Правда, тогда мне не пришло это на ум: все мои мысли были сосредоточены на досках. Но откуда он знает, что я еще не косил? Может, получает сведения от соседки – женщины, которая загорает в шезлонге? По-моему, это маловероятно, даже исключено. Или он ясновидящий, глядящий сквозь горы и долы? Или просто настолько хорошо меня знает? Либо ему Анна сказала, что мне обо всем надо напоминать, а сам я ничего не делаю, только ноты в книжечке черкаю, а все прочее воспринимаю как неприятные повинности.
– Газонокосилка в пристройке, – говорит он. Он мне это уже и раньше сообщал. Мол, в пристройке есть все нужное.
В пристройке молоток, в пристройке гвозди (и свежекупленные, и ржавые), в пристройке пила (тоже ржавая), в пристройке садовый шланг, а может, и бог тоже в пристройке, где-нибудь в шланге, почем я знаю. В общем, все на свете в пристройке, которая прилепилась к дому, словно нищий ребенок, после долгой разлуки наконец отыскавший свою мать.
Газонокосилку я там видел, но особого внимания ей не уделил. Когда я в прошлый раз брал там инструменты, заметил ее: она стояла там, завернутая в брезент. После той встречи с машиной начальника местной администрации брезент ассоциируется у меня со смертью, так что сомневаюсь, что эта газонокосилка еще «жива», но попробовать можно.
– Наверное, я больше на восток ездить не буду, – сообщает мне Андрьес.
Я пытаюсь уговорить его – решать только ему. Телефонный разговор окончен, и после него я еще некоторое время стою у окна гостиной и смотрю на задний двор. Он напоминает кукурузное поле: такие у травы огромные листья.
*
После ужина (рубленый бифштекс с почем зря разваренной картошкой) я обуваюсь в сапоги, которые, как и все остальное, находятся в пристройке, и вытаскиваю газонокосилку. Там же и канистра с бензином, из которой я заливаю бензобак, затем вывожу косилку на траву перед домом и пытаюсь завести ее. В первые пять раз не удается, и я тяжело дышу от натуги: трудно вытягивать шнурок на такую большую длину. «Почему нельзя на них сделать замок зажигания, как у автомобилей?» – с раздражением думаю я. Это сложнее, чем завести старый «виллис». Но потом что-то происходит: косилка начинает трястись, изрыгает сизые тучи, напоминающие туман в горах. Этот выхлопной дым какой-то грубый, и когда я пытаюсь отдышаться после усилий, то сперва чуть не задыхаюсь от его зловония.