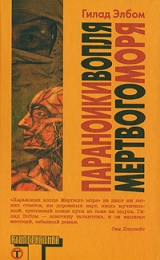
Текст книги "Параноики вопля Мертвого моря"
Автор книги: Гилад Элбом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
А вот Абе Гольдмил как раз один из тех, о ком ты знаешь много, скорее всего потому, что ему вечно хочется что-то тебе показать. Как правило, это его стихи. Глупые стишки. Он их пишет в свой маленький коричневый блокнот. Если честно, он не такой уж плохой поэт, но почему-то, скорее всего потому, что он душевнобольной, он посвящает весь свой талант сочинительству гиперболических любовных лимериков во имя Джули Стрэйн, голливудской актрисы из второсортных фильмов, а по совместительству фотомодели для ню и порнозвезды, к которой он воспылал страстью. Я открываю помятый блокнот. Абе Гольдмил внимательно смотрит на то, как я читаю, и явно ожидает похвалы.
Мои полные влечения письма, символы вожделения,
Показать скрытое во мне пламя готовы с радостью,
Но лишь мое изнемогающее, страдающее от любви сердце может
Выразить переполняющую, непреодолимую боль;
Заставить мои пальцы не прикасаться
К горячим словам, стекающим из моих жил на бумагу
И заключить потаенную страсть в буквы, написанные
Красными чернилами, которые, возможно, так и не будут прочитаны.
Но даже если моя любимая не расшифрует
Мои исполненные страсти письмена, они все равно будут
Хранить её, ибо каждая точка
Красного цвета – пылающее украшение,
Каждый написанный знак – рубиновый обожатель:
Необыкновенные драгоценности для украшения моей Джули Стрэйн.
На сей раз она точно откликнется. Он в этом уверен.
Яхта взлетает на воздух.
– Если уж он тебе не отвечает, – скалится Иммануэль Себастьян, – с чего ты взял, что она ответит?
– Он смотрит кино, – отвечает Абе Гольдмил.
Занятно смотреть кино, не особенно погружаясь в смысл. Тут ни с того ни с сего Джек Николсон и Майкл Кейн становятся врагами, но мне все равно, – я занят своими делами. Пусть поубивают друг друга. Плевать. Я просто поглядываю на них каждые несколько минут просто для того, чтобы убедиться, там они еще или нет. А если и нет (благо в какой-то момент Майкл Кейн становится трупом, плавающим в собственном бассейне), так это их проблема. Я и не собирался смотреть этот фильм от начала до конца. Я и не говорил, что буду переживать и волноваться. Мне даже не интересно.
Кармель часто говорит, что она на самом деле не интересует меня. Она разгуливает голышом по моей квартире и устраивает такие маленькие проверки на страстность, особенно когда я чем-то занят. Я сижу на кухне и делаю домашнее задание – перевожу что-нибудь с латыни или с арабского, вокруг меня заграждение из словарей, а сам я полностью погрузился в какой-нибудь совершенно зубодробительный пассаж, когда раз! – и она появляется в чем мать родила и наблюдает за моей реакцией. А я постоянно теряюсь – вроде бы только что она была нормально одета, сидела на диване в соседней комнате и читала книгу, – ну что ей от меня надо? И она всегда как-то забавно устраивает такие проверки: молча встает с диванчика, уходит в спальню или в ванную или куда-нибудь ещё, раздевается и идет обратно в гостиную. Там она немного посидит (голая) и немного почитает. Потом встает и идет на кухню, открывает холодильник, достает персик или авокадо, берет тарелку и нож, возвращается к своей книге, съедает свой персик или авокадо, идет на кухню и моет тарелку и нож (все еще голая), возвращается в комнату и еще немножко почитает. А вы ведь представляете, как трудно оторваться от текста, особенно когда ты только что обнаружил, что синтаксическая закавыка, над которой ты ломаешь голову, принимая её за оборот с винительным падежом, оказывается – и как раньше было не заметить! – простым оборотом с именительным.
Она никогда ничего не говорит. Просто сидит, обнажённая, с книгой в руках и ждет, когда я среагирую. «Погоди минутку, – говорю я, – я тут на пороге открытия». И вот, когда я уже почти все сделал, я сижу и дожидаюсь, когда она снова зайдет в кухню, и становлюсь на колени и долго ласкаю её языком, а потом встаю и беру её за руки и крепко сжимаю её бицепсы, и крепко целую её взасос, так, чтобы она почувствовала свой вкус, и затем я заставляю её повернуться ко мне спиной и нагнуться, опираясь руками на мойку, и наклоняю её голову в раковину держа её сзади за шею, а потом вхожу в неё сзади и двигаюсь чуть более резко, чем следует, и потом кончаю на её зад и на поясницу и она идет принимать душ, а я сажусь и заканчиваю свой перевод.
Кармель говорит, что иногда я занимаюсь с ней сексом так, как будто её там и нет. И еще она говорит, что мне надо бы научиться чувствовать, что она-то при сем тоже присутствует. Для этого у нас должна быть общая фантазия, и тогда мы будем лучше чувствовать друг друга.
Но об этой фантазии я расскажу как-нибудь потом. Кино кончилось, и мне явно не хватает этой сексуальной девчушки. Я все надеялся, что действие картины так или иначе завертится вокруг неё. И что она разденется. Если уж она актриса второго плана, так пусть будет обнаженной актрисой второго плана. И я все думаю, как здорово было бы, если бы кто-нибудь учинил над нею что-нибудь сексуально-принудительное. Нет, не то что бы меня заводила нагота или принуждения, но если в фильме кому-то суждено умереть в голом виде, да еще и не по естественным причинам, так пусть это будет кто угодно, только не Майкл Кейн. А еще лучше было бы – мечтать-то не вредно – чтобы она учинила над кем-нибудь что-нибудь сексуально-принудительное, желательно над этим самодовольным юнцом и его надоедливой мамашей (или мачехой).
Но опять-таки, я же не следил за действием. Так что, вполне возможно, что-то такое и случилось. Мажет, она и разделась, а я это пропустил. Может, она и приставила заряженный пистолет к красивой головке этого перекачанного паренька. Или приказала ему раздеться, приковала его наручниками к водопроводным трубам под раковиной на кухне и засовывала какие-нибудь предметы (я вот думаю о пистолете, но не обязательно) в различные полости его тела (рот или нос, но опять-таки не обязательно). Может статься, что все это и происходило, пока я был занят, раздавая ужин и читая стихи.
Они все говорят, что я невнимателен, но доктор Химмельблау считает, что мне следует научиться игнорировать их, даже если они злят меня.
– Тебе нравится злить людей?
– Ничего не могу с этим поделать, – отвечает Иммануэль Себастьян.
– Может, кто-нибудь поможет тебе с этим?
– Мне не нужна помощь.
– Почему?
– Потому что я не преступник. Мое поведение нестандартно, но оно в рамках закона.
– Оно может находиться в рамках закона, но оно социально опасно.
– И что, это делает меня сумасшедшим?
– Именно так. Если ты выходишь за пределы общественных норм, твое социальное поведение считается ненормальным.
– Да, но это же не преступление. Я выхожу за рамки нормы, а не законности.
– И ты никогда не нарушал закон?
– Нет.
– Никогда?
– Я бы не стал употреблять слово никогда.
– То есть нарушал.
– Думаю, да.
– Что же ты сделал?
– Я убил человека. Но у меня была на то хорошая причина.
– Кем был этот человек?
– Кем? Я думал, что ты – писатель.
– Кто был этот человек?
Я знаю, что сделал ошибку, но Иммануэль Себастьян все-таки идиот, и я не ожидал, что он ценит правильную речь.
– Мой адвокат.
– А в чем была хорошая причина?
– Я не верю в адвокатов.
– Ну так выставил бы его.
– Ну так я выстрелил в него, – улыбается Иммануэль Себастьян.
Я же говорил – идиот.
– Почему ты это сделал?
– Потому что он солгал мне.
– Что он сказал?
– «Не убивай меня. Существует закон, запрещающий убийства».
– А разве его нет?
– Есть, но он гибкий.
– Закон?
– Да. Он изменяется.
– Как он изменяется?
– В соответствии с обстоятельствами.
– С какими обстоятельствами?
– Историческими, общественными, политическими, географическими.
– Например?
– Например, – Иммануэль Себастьян набирает побольше воздуха, – было время, и все еще есть такие места, где закон запрещает заниматься сексом с мужчинами.
Они утверждают, что я – садист, что мне нравится играть роль прокурора для сумасшедших, что я злонамеренно допрашиваю их просто для того, чтобы убедиться в том, что могу их «расколоть». А вот доктор Химмельблау говорит, что я должен делать свою работу несмотря на протесты пациентов. Одна из самых важных целей реабилитации в нашем блоке – научить пациентов поддерживать беседу
– А ты когда-нибудь занимался сексом с мужчиной?
– Нет, – отвечает Иммануэль Себастьян.
– Никогда?
– Я бы не стал употреблять слово никогда.
– Ну и?
– Ну и… Я подцепил девчонок, которые потом оказались – ну понимаешь, – парнями.
– И что ты сделал, когда узнал об этом?
– Ничего.
– Почему?
– Потому что наши отношения уже были на том уровне, когда это не имеет значения.
– И что это значит?
– Было уже слишком поздно.
– Слишком поздно для чего?
– Я уже влюбился в неё.
– Но это уже была не она. Это был он.
– И что?
– Так значит ты занимался сексом с мужчиной.
– Да, но я не знал, что это мужчина.
– А когда все случилось, тебе было все равно?
– Да, потому что так и бывает. Знакомишься с симпатичной девушкой, проводишь с ней время, спишь с ней, а потом ни с того ни с сего она тебе признается, что она или вегетарианка, или коммунистка, или еврейка, или мужчина. Но тебе уже не важно. Потому что ты уже в неё влюблен. Ну как я сказал.
– Но разве тебя не беспокоит, что она не женщина?
– Послушай, – говорит Иммануэль Себастьян. – Она милая, она умная, она красивая. Ну, у неё мужские гениталии. Нет в мире совершенства.
Девять вечера. Мне остался час. Я встаю с диванчика и иду на пост сиделки. В течение примерно двадцати минут я пишу отчет. Я заканчиваю и возвращаюсь в игровую комнату. Все уже разошлись – по всей видимости, пошли спать, и только Амос Ашкенази сидит перед телевизором и смотрит старый фильм Роджера Кормэна. Я сажусь рядом. Винсент Прайс живет со своей юной дочерью в доме, похожем на средневековый особняк. Он встает среди ночи, чтобы сразиться со злым волшебником, который вызвал его на дуэль. Глядя на его сборы, обеспокоенная дочь спрашивает: а не к злому ли волшебнику он идет на битву? «Да, дорогая, – отвечает Винсент Прайс. – Как раз в его замок я и направляюсь».
Я молчу.
В любом случае, если доктор Химмельблау и спросит, мы скажем ей, что как раз Ибрахим Ибрахим и съел яблоко.
Ладно, хватит про Ибрахим Ибрахима. Моя смена закончилась. И как только я собираюсь уходить, звонит Кармель. Она тоже в больнице. В больнице у своего мужа.
– Его снова переводят в интенсивную терапию. Я должна побыть здесь.
– Я поехал домой.
– Только спать пока не ложись. Если будет ясно, что он не доживет до утра, я заеду по дороге домой.
Глава 2
Моя смена начнется через двадцать минут. Я оставляю вторую сторону пластинки «Symphonies of Sickness» доигрывать на моей старой верной вертушке «Luxman». Мне нравится сама мысль о том, что толстый стальной диск будет прилежно вращаться в моей квартире после того, как я уйду (звукосниматель в конце поднимется автоматически). Я сажусь в свою поцарапанную «Джасти» и еду в больницу. Я опаздываю и еду быстрее обычного, но через пять минут я застреваю – впереди меня большой жёлтый трактор (он, наверное, едет в ближайший кибуц), и я вынужден ехать жутко медленно. Я злюсь, у меня терпение на исходе, я кляну все, что могло бы быть виновным в том, что это ржавое чудовище появилось на дороге в самый неподходящий момент. Я пытаюсь обогнать его, раз или два сигналю, но дорога здесь слишком узкая. Мне ничего не остается, кроме как смириться в конце концов с тем, что я еду почти на скорости пешехода. Я решаю употребить время на то, чтобы внимательно смотреть на мелкие детали пейзажа, на которые просто не обращаешь внимания, когда едешь с нормальной скоростью.
Сегодня – самый обычный зимний день, мутный и унылый. Голые скалы, в которых вырублена дорога, и небо – одного цвета. Сосны на вершинах холмов мрачно-зеленые. Здесь и там через дорогу перебегают всякие звери: шакалы и газели с северных Иудейских гор, дорогу переползают большие змеи, изредка попадаются лисы и дикобразы. Они выбираются из своих убежищ в такие холодные дни, как сегодня. И еще я вижу большую хищную птицу, которая парит над дорогой, по-хозяйски обозревая её. Наверное, это сокол.
Иногда мне кажется, что я могу увидеть и нашего клиента, если он решит сбежать, только вот не думаю, что кто-то из них на такое решится. Они цепенеют от ужаса при одной мысли о том, что им придется все делать самим за пределами больницы. А если кто-то и удерет, то уж точно не в лес. Как правило, они убегают в центр города и стреляют там сигареты, а потом на автобусе возвращаются в больницу.
Пытаюсь увидеть следы вчерашней аварии, хоть какие-то, – осколки, следы от шин, кровь на обочине, но все уже убрано полицией и смыто дождем.
Подъезжаем к кибуцу. Тут есть маленький открытый зоопарк под названием «Импринтед Кричерс». Я там был однажды, когда работал в журнале «Кэпитол» (один из двух иерусалимских еженедельных журналов). Я писал про хэви-метал, а кроме того, я был редактором детской странички. Когда несколько лет назад открыли этот зоопарк, я поехал сюда посмотреть, стоит об этом писать или нет. Мне понравилось. Открытый зоопарк означает, что тут можно гладить всех его обитателей, даже лисят и оленят. Единственным зверем, которого нельзя было трогать, была Юдифь, старая самка бабуина, уволенная из Вайцмановского Научно-исследовательского института. Там она сидела перед компьютером и нажимала на кнопку в ответ на визуальные стимулы на экране. Обезьяну научили нажимать на кнопку, если на мониторе появится пара букв из определенного набора, и не нажимать, если это будет пара из другого набора. Все буквы – согласные английского алфавита. Буквы, на которые Юдифь должна была реагировать, были словообразующими при наличии между ними гласной: CR, DG, РТ. Буквы, на которые отклик был не нужен, даже при наличии гласной между ними слово образовать не могли: XD, MQ, ZH и так далее.
Когда Юдифь ушла на пенсию, её отправили в «Импринтед Кричерс». Она доживает свой век в маленькой клетке и играет с детьми через прутья решетки. Это место напоминает лишенное религиозного подтекста жалкое подобие официального Иерусалимского Библейского Зоопарка, где проживают все твари, упомянутые в Библии. Только здесь ещё и бюджет урезан. Библейский же Зоопарк большой и красивый, и его щедро финансируют. Но в Ветхом Завете ничего не говорится про обезьян с компьютерной грамотностью – и вот Юдифь отправили в кибуц. В её клетке стоит компьютер с двумя мониторами. На воле, прямо напротив Юдифь, садится ребенок и делает именно то, чему учили обезьяну: нажать на кнопку, если гласная буква превратит набор букв в слово, и не нажимать, если нет. Побеждает тот, кто нажмет на кнопку первым. Первой всегда была Юдифь.
– Поезжай-ка в кибуц, – сказал я тогда одному репортеру – и поиграй с Юдифь. Мне от тебя надо четыреста слов.
И он вернулся со своими четырьмя сотнями слов, а я сказал ему, что у меня есть прямо-таки первоклассный заголовок для статьи: «Компьютерная игра человека и обезьяны: человек проигрывает».
– Ой, нет, пожалуйста, только не это, – сказал он.
– Это почему?
– Это оскорбительно.
– Зато правда.
– Я понимаю, но умоляю, ну пожалуйста! У меня мать будет читать эту газету. Что она подумает?
– А не все ли равно?
– Ну я прошу! Не очень-то хорошо будет, если она откроет пятничный выпуск и осознает, что какая-то обезьяна знает английский лучше, чем её сын.
Ну вот, мы проехали кибуц и приближаемся к больнице. С дороги её почти не видно. Она расположена среди деревьев, как секретная военная база, вдали от любопытных взглядов, как будто это какое-то важное место. Тут надо свернуть с главной дороги на очень узкую второстепенную дорогу, почти не предназначенную для транспорта. Она ведет вверх и по спирали по склону особенно высокого холма, и вот – перед вами древние ворота, этакий анахронизм, который надо открывать руками, перед вами сторож, перенесший лоботомию, и маленькая, кривоватая, бело-голубая вывеска из четырех строчек. Вот что там написано:
State of Israel
Ministery of Health
TRANQIL HAVEN
Mental Health Center [6]6
Дословно: «Государство Израиль / Министрство здравоохранения / ТРАНКИЛ ГЕВН / Центр психического оздоровления». Допущены ошибки: слово «министерство» по-английски пишется ministry, а слово tranquil – с буквой U. Кроме того, в вывеске обыгрываются паронимы heaven – haven (рай – убежище, гавань).
[Закрыть]
Ну, со словом «Ministery», («Министрство»), мне, допустим, все понятно. Ты – министр, и контора твоя называется, соответственно, министрство. Смысл есть. То же самое со словом «Tranqil». За буквой Q всегда следом идет U, которая становится избыточной. Арабский язык похож на иврит тем, что в нем имеется различие между прилагательными мужского и женского рода. Прилагательные женского рода образуются путем прибавления суффикса к прилагательному мужского рода. Но у арабского слова, которое переводится как «беременный», такого суффикса нет. Если нет необходимости как-то отличать его от прилагательного мужского рода – так зачем там суффикс женского рода? С технической, или, скорее, морфологической точки зрения, это прилагательное мужского рода. Но мы точно знаем, что слово «беременный» может быть отнесено только к женщинам, и этого факта вполне достаточно для того, чтобы род этого слова стал женским, – с семантической точки зрения. То же самое здесь: если нет необходимости отличать букву Q, после которой есть буква U, от буквы Q, после которой нет буквы U, – просто потому, что не существует буквы Q, после которой не шла бы буква U, – то зачем вообще нужна эта самая U? Кроме того, в иврите дифтонги не в чести, так что в слове TRANQIL логика вполне прослеживается. Но вот слова «Haven» я не понимаю. Вроде бы смысл есть: заведения для душевнобольных всегда были чем-то священным: это убежище, это приют. Но при всех грамматических ошибках, которые делает Министерство Здравоохранения Израиля, может быть, они и в самом деле хотели написать «Heaven»?
Отец мой говаривал: «Никогда не верь правительству которое не может свои официальные таблички написать без ошибок».
Но про отца я вам попозже расскажу, потому что я уже и так опоздал на свою смену. Я въезжаю и в знак благодарности машу рукой сторожу, который открывает мне ворота, но на его лице, как и всегда, отсутствует какое-либо выражение. Я ставлю машину перед нашим блоком и иду на пост сиделки. Там – Оделия. На коленях у неё сумочка, а в глазах – немой укор. Она ничего не говорит, смотрит на часы, вздыхает и, прежде чем отправиться домой к своим голодным иждивенцам, с пулеметной скоростью выдает мне список событий, которые произошли за время её дежурства:
Иммануэль Себастьян: поел, принял лекарства, смотрел телевизор, ведет себя тихо.
Абе Гольдмил: поел, принял лекарства, писал на кухне, ведет себя тихо.
Урия Эйнхорн: поел, принял лекарства, большую часть времени спал.
Амос Ашкенази: поел, принял лекарства, бубнит себе под нос, ведет себя тихо.
Ассада Бенедикт: поела, приняла лекарства, говорит, что она мертвая, ведет себя тихо.
Деста Эзра: ведет себя тихо.
Ибрахим Ибрахим: поел, принял лекарства, из комнаты почти не выходит, ведет себя тихо.
Я сажусь и беру газету но не успеваю даже заглянуть в нее, как звонит телефон. Один длинный звонок, наверное, Кармель.
Умер её муж, что ли?
Кармель вышла замуж, когда ей было девятнадцать для того, чтобы избежать обязательной службы в армии. Она изначально планировала развестись с супругом, как только тот выполнит свой супружеский долг, освобождая её от армии, но когда уже пришла пора официально развестись (ей был двадцать один год, ему – двадцать семь), у него обнаружили рак головного мозга, и Кармель решила повременить с разводом. Это было три года назад. Её друзья и семья, – а особенно его семья – просто боготворят её за то, что она заботится о нем, как ангел-альтруист. Но Кармель говорит, что причина в другом. Молодая вдова рассматривается со значительно более привлекательной позиции, чем молодая разведенная женщина. Да и зачем мучиться с этой бумажной волокитой, когда можно позволить природе самой все завершить?
– Извини, я вчера ночью не смогла заехать. Он всё ещё жив.
– Ну в следующий раз.
– Но мне правда хотелось тебя увидеть. Тебя, только что с работы, покрытого этими шизофреническими бактериями с ног до головы.
– Они и сейчас на мне.
– Хорошо! Тогда я заеду вечером, и на мне везде будут эти раковые бактерии.
– А с чего ты взяла, что меня это заводит?
– Тебе нравятся болезни. Ты от них возбуждаешься.
– Да ну?
– Ну да. Поэтому ты и работаешь в больнице.
– Это всего лишь работа.
– Но ты-то это делаешь не из-за денег.
– А из-за чего?
– Ты там работаешь, потому что близость к болезни возбуждает тебя на самом нижнем уровне плоти. Тебя постоянно окружают больные, и это позволяет тебе удовлетворять желания и потребности твоего тела.
– Но это душевнобольные.
– Да тем более. Трахнуть кого-то в мозг вообще сильнее в сексуальном плане, чем просто трахнуть.
– То есть ты хочешь сказать, что я пользуюсь окружением больных для удовлетворения своих личных желаний?
– Именно этим ты и занимаешься. Ты эксплуатируешь невинных и беспомощных жертв ради собственного удовольствия. Ты – порнограф.
– Слушай, мне работать надо.
– Так мы займемся этим вечером?
– Чем – этим?
– Поиграем в доктора и тяжело больного?
– Я тебе позвоню, когда доберусь до дома.
– И не мойся!
– Ладно, не буду.
Я иду в «телевизионную» комнату. Все смотрят мыльную оперу. Я иду обратно на пост сиделки и просматриваю газету. Сначала я читаю отчет о деятельности Иерусалимского Фронта за велосипедные дорожки, затем – обращение Министра по Туризму, адресованное всем израильтянам, путешествующим за рубежом.
В свете тяжелого туристического кризиса, который мы сейчас переживаем, я был бы очень рад тому, чтобы в этом году вы поехали отдыхать в Негев, на Море Галилейское, в Иерусалим или на Красное Море. Небеса наделили нас прекрасной землей и известным во всем мире гостеприимством – зачем же мы отправляемся в дальнюю дорогу в чужие страны? Почему мы беспокойно блуждаем по планете, без цели исследуем другие страны и ищем успокоения в землях заморских? Возможно, эта национальная тяга к перемене мест поселилась в нас еще тогда, когда Сыны Израилевы веками скитались в поисках Земли Обетованной? Или, может быть, мы стали такими безнадежными странниками из-за того, что две тысячи лет были в изгнании? Или из-за того, что нам просто хочется отдохнуть от службы в армии и в запасе и избавиться от стресса, связанного с обеспечением безопасности.
В Израиле в армии служить обязаны все. А если по какой-то причине ты этого не делаешь, то про тебя говорят, что ты тратишь себя впустую. Человек, которого нельзя призвать на службу (с серьезными физическими недостатками, например), считается солдатским мусором. Я уволился из армии примерно год назад, после четырех лет службы и четырех лет в запасе. Как правило, в запасе ты остаешься до пятидесяти пяти лет, но мне удалось уволиться. Я думаю, я имею право немного потратить себя впустую.
Моя мама, естественно, не выносит саму мысль о том, что что-то тратится впустую. Однажды на кухне я уронил на пол кубик льда. Я поднял его и выбросил в раковину и тут мама как рявкнет: «Не выбрасывай лёд!»
– Мам, да это всего лишь кубик льда.
– Это хороший кубик. Уронил – так помой его и положи обратно себе в стакан.
– Мам, это замороженная вода.
– Это пища. Нельзя выбрасывать пищу.
Забавно. Маме удалили почку, и она пилит меня за мое решение работать медбратом, и ругает меня за то, что я трачу себя ни на что, но на самом деле это она сама идет в никуда. Да и мой отец, которому в прошлом году сделали замену митрального клапана, тоже не пышет здоровьем. Ну да ладно. Про них я все расскажу позже. Сейчас мне надо проверить, все ли в порядке в нашем блоке перед началом моей смены.
Амос Ашкенази сидит на пластиковом стуле перед телевизором и смотрит кино, периодически утирая нос рукавом своей фиолетовой футболки. Урия Эйнхорн сидит на диванчике. Его зеленая бейсболка одета козырьком назад, а очки особенно грязны. Иммануэль Себастьян и Ибрахим Ибрахим играют на ковре в «Монополию». Воздух спертый и затхлый, этакая тошнотворная смесь пота, пыли и табачного дыма. Я открываю окна, хотя и знаю, что не пройдет и двух минут, как они станут их закрывать. Им вечно холодно, даже летом. Даже если за окном сто градусов [7]7
По Фаренгейту. Примерно +37,7 градусов по Цельсию.
[Закрыть], они все равно будут ходить в куртках и свитерах. Кроме Амоса Ашкенази. Этот всегда ходит в фиолетовой футболке.
– Не надо открывать окна, – говорит Ассада Бенедикт. – Пожалуйста! Я мёрзну.
– Надень еще один свитер.
Они все говорят, что я груб. Доктор Химмельблау говорит, что мне надо научиться игнорировать их. Опять телефон. Чего ей надо на сей раз?
– Сомнений быть не может. Миссия не провалена. Наоборот, мы смогли сильно и ясно заявить всем тем, кто сомневается в нашей способности править космосом: теперь, когда мы завоевали всю землю, до которой только смогли добраться, нам пора в открытый космос.
– Кармель, опять?!
– Теперь, когда мы превратили страдания евреев в успешную рыночную стратегию, её пора вывозить на другие планеты.
– Я тебя умоляю!
– И пока весь мир тратит время на пересадку вырванных с корнем олив или стоит в очереди за разрешением съездить в соседнюю деревню к врачу, мы сумели создать человека, который сможет увидеть мир с точки зрения Бога.
– Я тебя не слушаю.
– И это не просто человек. Это еврей. Самый настоящий еврей, который потребует кошерной еды и в космическом челноке. Кстати, – в американских космических кораблях есть стюардессы? Которые с важным видом дефилируют в мини-юбках по проходам между кресел и раздают космонавтам эти маленькие пластиковые подносики?
– Кармель, он уже мертвый. Отстань ты от бедняги, а?
– Это еврей, который пытается соблюдать Шаббат, даже если он не религиозен. Кстати, как ты думаешь, ты смог бы зажечь свечи для Шаббата или удержать на плечах талис [8]8
Талис (иудейск.) – молитвенный платок.
[Закрыть]в условиях невесомости?
– Кармель, в твоих словах смысла – нуль.
– Это такой еврей, который понимает: когда в Библии нам обещают Землю Молока и Меда [9]9
Земля Молока и Меда – другое название Земли Обетованной.
[Закрыть], речь идет о Млечном Пути.
– Кармель, я тебе уже говорил: это – не то, что людям будет приятно слышать.
– Пусть редактируют.
– Слушай, а ты не можешь о чем-нибудь другом поговорить?
– Например?
– Да о чем угодно. Ты где?
– Дома.
– И чем ты занимаешься?
– Смотрю на книгу, которую ты мне дал.
– Какую именно?
– «Развратные домохозяйки, часть II».
– Чудесно. Опиши мне какую-нибудь фотографию?
– А я-то думала, ты не хочешь, чтобы я отвлекала тебя от работы?
– Не хочу. Но лучше отвлекай меня «Развратными домохозяйками», чем какой-то параноидальной политической пропагандой.
– «Развратными домохозяйками, часть II».
– Да, да. Часть II. Давай.
– О’кей. Я смотрю на фотографию. На ней девушка, в которую сзади входит женщина с пристегнутым искусственным пенисом. Женщине, которая осуществляет пенетрацию, где-то около тридцати. Она блондинка, у нее великолепно расчесаны волосы, она широко улыбается. У неё отличные зубы. Она – успешная домохозяйка. Это значит, что она, скорее всего, ест мясо каждый день и ходит в спортзал каждое утро, чтобы поддерживать свое богатое тело в хорошей форме, и сохранять свои груди круглыми и упругими. Девушка, в которую проникают, выглядит лет на пятнадцать. Очень хорошенькая. Длинные волосы, милое личико. Она на полу на коленях, опирается на руки. На ней белые гольфы, её трусики спущены, а рубашка задрана вверх. У нее маленький нос и пухлые губки. От боли она наморщила лоб, и у нее из глаз текут слезы. Тут как бы не видно, но похоже, что ей входят в анус. У неё маленькие острые груди. Одну из них сжимает холеной рукой женщина, которая входит в девушку сзади. На заднем плане – еще одна женщина, высокая, хорошо сложенная, обнаженная. Она старше девушки, в которую входят, но младше женщины, которая это делает. На ней точно такой же пристегнутый кожаными ремнями резиновый пенис. Она упирается руками в бока и с одобрением оглядывает сцену, ожидая своей очереди.
– Вот видишь? Уже лучше. Немного агрессивно, но в целом не так ужасно, как весь этот бред про космический челнок.
– Да как бы ни было. Это ведь твоя книжка.
– Слушай, перезвони мне позже, а? По-моему, они там у меня дерутся.
Я кладу трубку и выхожу с поста сиделки. Иммануэль Себастьян и Абе Гольдмил обмениваются тычками кулаков.
– Что за чертовщина тут происходит!
– Это он начал, – говорит Иммануэль Себастьян.
– Я? – отвечает Абе Гольдмил. – Ты меня первым ударил!
– Да, а кто всю туалетную бумагу извёл?
– Я её не извёл, а использовал.
– Да? Чтобы вытереть задницу или стишок написать?
– У меня есть и телесные, и духовные потребности. И у меня есть право использовать туалетную бумагу в блоке.
– Но не всю же!
– Я пишу много черновиков.
– Так, прекратили грызню, – перебиваю я их. – Абе Гольдмил, сходи в кладовую и возьми там новую упаковку туалетной бумаги.
– Я? Я не могу пойти.
– Почему?
– А что если они меня там достанут?
– Кто?
– Террористы.
– Не смеши меня. В больнице нет террористов.
– Никуда я не пойду.
– Но я же не прошу тебя рисковать жизнью и все такое. Тут всего два корпуса. Минута туда и минута обратно. Обещаю, ничего с тобой не случится.
– Там дождь идет.
– Иммануэль Себастьян, тогда ты сходи.
– Пациентам ничего не дают.
– Скажи, я тебя послал.
– Мне не поверят.
– И что теперь? В сортир не ходить?
Эти двое дружно пожимают плечами.
– Как вы собираетесь жить в нормальном мире? С таким-то отношением?
Снова пожимают плечами.
– Ой, ну вас. Я сам схожу.
Я надеваю плащ и выхожу под дождь. Вообще-то мне нельзя оставлять блок без присмотра, но вероятность того, что за эти две минуты кто-нибудь умрет или разнесёт телевизор, все-таки малы. Я иду в кладовую. Там сидит Адива, женщина, которая всем этим заведует. Она сидит за большим деревянным столом и пересчитывает канцелярские кнопки.
– Мне в реабилитационный блок надо туалетной бумаги.
– Скажи сиделке, чтобы прислали кого-нибудь из сотрудников.
Я показываю ей свою карточку.
– А. Извините. Вы тут новенький?
– Да уж почти год.
– Значит, новенький.
– Ну, наверное.
Мне выдают упаковку туалетной бумаги, за которую я расписываюсь в двух бланках. Я иду обратно в блок, раскладываю туалетную бумагу по туалетам и сажусь на грязный диванчик, держа газету на коленях, притворяюсь, что одновременно читаю и смотрю телевизор. На самом деле я наблюдаю за тем, чтобы никто не трогал окна. По телевизору идет какой-то черно-белый фильм. Четыре художника, рисующие комиксы, пытаются делать первые шаги в бизнесе. Два парня из Нью-Джерси, которые рисуют какие-то тупые комиксы и страдают от коммерческого успеха, потому что чувствуют, что они способны создавать более хорошие, наполненные смыслом книжки. Хорошенькая блондиночка, в которую влюблен один из этих парней (потом выясняется, что она – лесбиянка). И афро-американец из Нью-Йорка, который страстно пропагандирует против белых и белой идеи перед восторженными толпами чернокожих ребятишек. А вне сцены, в реальной жизни, он тих, женоподобен и в открытую гомосексуален, а его лучшие друзья – эти двое из Нью-Джерси.








