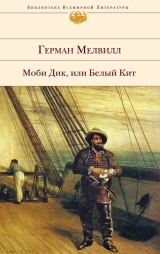
Текст книги "Моби Дик, или Белый Кит (др. изд.)"
Автор книги: Герман Мелвилл
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 52 страниц)
Глава LVIII
Планктон
Взяв от островов Крозе курс на северо-восток, мы вскоре очутились среди обширных лугов «брита» – размельченной желтой планктонной массы, которая идет в пищу настоящим китам. Повсюду на многие-многие мили колыхалась она вокруг нас, будто мы плыли по безбрежному полю спелой золотистой пшеницы.
На второй день нам стали попадаться настоящие киты, не представлявшие, однако, соблазна для охотника за кашалотами «Пекода»; разинув пасти, они лениво плавали в клубах планктона, и он застревал на волокнистой бахроме их губ, напоминавшей какие-то удивительные жалюзи, в то время как вода беспрепятственно вытекала наружу.
Словно косцы на заре, которые плечом к плечу с тихим шуршанием прокладывают себе путь в высокой росистой траве, плыли эти чудовища, издавая странный травянистый, режущий звук и оставляя позади себя в желтых водах бесконечные голубые прокосы.[22]22
Эта часть океана, известная среди мореплавателей под названием «Бразильские банки», получила такое имя не потому, что там, как, например, на Ньюфаундлендской банке, имеются мели, а из-за своеобразного сходства с травянистым лугом, объясняющегося постоянным присутствием в этих широтах огромных плавучих масс планктона, вследствие чего также здесь нередко ведется промысел на настоящего кита. – Примеч. автора.
[Закрыть]
Однако, пожалуй, один только этот звук, который они производили, отцеживая «брит», и напоминал о косарях. На взгляд же их огромные черные туши, особенно когда они на мгновение застывали в неподвижности, больше всего походили на безжизненные каменные глыбы. И как на широких охотничьих просторах Индии приезжий человек может пройти иной раз по равнине мимо спящего слона, даже не подозревая о том, что это слон, и принимая его за голую черную возвышенность, так случается и с тем, кто впервые видит на море этих левиафанов. И даже когда наконец вы все-таки убеждаетесь, что это киты, все равно бывает очень трудно поверить, чтобы столь безмерно разросшаяся масса была одушевлена такой же жизнью, какая живет в собаке или в лошади.
И в самом деле, к обитателям морской пучины трудно относиться так же, как и к земным тварям. Ибо хотя в старину многие натуралисты утверждали, что каждая земная тварь имеет свое соответствие в море; и хотя, быть может, в общем и целом именно так оно и есть, – все же, если перейти к частностям, где, например, найти в океане рыбу, которая по характеру была бы подобна нашей доброй и умной собаке? Разве только вот во всеми проклинаемой акуле можно усмотреть с ней какое-то видовое сходство.
Однако, несмотря на то, что люди сухопутных профессий обычно питают к жителям морей самые недружественные, неприязненные чувства; несмотря на то, что морские глубины для нас извечная terra incognita, и Колумбу понадобилось проплыть над бессчетными неизвестными мирами для того только, чтобы открыть один поверхностный неизвестный мир на Западе; несмотря на то, что заведомо самые ужасные несчастья по большей части постигали с незапамятных времен многие тысячи людей, пускавшихся в плавание по морям; и, наконец, как бы ни хвастался младенец-человек своими познаниями и искусствами и как бы ни множились эти познания и искусства с течением льстивого времени, – все равно на веки вечные, до самого Судного дня будет море измываться над людьми, губить человеческие жизни и в пыль разносить гордые, крепкие фрегаты, хотя, беспрестанно испытывая одни и те же ощущения, человек утратил в конце концов первоначальное чувство ужаса, естественно вызываемого морем.
Первый известный нам корабль плавал по океану, который с чисто португальской мстительностью залил весь мир, не оставив в живых ни единой вдовы. Тот же самый океан колышется вокруг нас и сегодня, тот же самый океан и в этом году разбивает наши корабли. Да, да, о неразумные смертные, Ноев потоп еще не окончен, он и по сей день покрывает две трети нашего славного мира.
Чем же это так разнятся между собой море и суша, если земное чудо – на воде уж совсем и не чудо? Сверхъестественный ужас объял евреев, когда живая земля разверзлась под ногами Корея и его сообщников и поглотила их навеки, а ведь в наше время ни одного дня не обходится без того, чтобы живое море не разверзлось точно таким же образом и не поглотило корабли вместе с экипажами.
Но море враждебно не только человеку, который ему чужд, оно жестоко и к своим детищам; превосходя коварство того хозяина-перса, что зарезал своих гостей, оно безжалостно даже к тем созданиям, коих оно само породило. Подобно свирепой тигрице, мечущейся в джунглях, которая способна придушить ненароком собственных детенышей, море выбрасывает на скалы даже самых могучих китов и оставляет их там валяться подле жалких обломков разбитого корабля. Море не знает милосердия, не знает иной власти, кроме своей собственной. Храпя и фыркая, словно взбесившийся боевой скакун без седока, разливается по нашей планете самовластный океан.
Вы только подумайте, до чего коварно море: самые жуткие существа проплывают под водой почти незаметные, предательски прячась под божественной синевой. А как блистательно красивы бывают порой свирепейшие из его обитателей, например, акула, во всем совершенстве своего облика. Подумайте также о кровожадности, царящей в море, ведь все его обитатели охотятся друг за другом и от сотворения мира ведут между собой кровавую войну.
Подумайте обо всем этом, а затем взгляните на нашу зеленую, добрую, смирную землю – сравните их, море и землю, не замечаете ли вы тут странного сходства с тем, что внутри вас? Ибо как ужасный океан со всех сторон окружает цветущую землю, так и в душе у человека есть свой Таити, свой островок радости и покоя, а вокруг него бушуют бессчетные ужасы неведомой жизни. Упаси тебя Бог, человек! Не вздумай покинуть этот остров и пуститься в плавание. Возврата не будет!
Глава LIX
Спрут
Медленно пробираясь через планктонные поля, «Пекод» по-прежнему держал курс на северо-восток, по направлению к острову Ява; легкий ветер гнал судно вперед, и три высокие заостренные мачты покачивались над зеркальными водами, точно три гибкие пальмы на равнине. И по-прежнему серебристыми лунными ночами на горизонте изредка появлялся одинокий манящий фонтан.
Но однажды прозрачным синим утром, когда какая-то нездешняя тишь повисла над морем, чуждая, однако, мертвого застоя; когда солнечные блики длинной полосой легли на воду, словно кто-то приложил к волнам золотой палец, призывая хранить тайну; когда искристые волны бесшумно катились вдаль, перешептываясь на бегу, – в этой глубокой тишине, царившей всюду, куда хватал глаз, чернокожему Дэггу, стоявшему дозором на верхушке грот-мачты, вдруг предстало странное видение.
Далеко впереди со дна морского медленно всплывала какая-то белая масса и, поднимаясь все ближе и ближе к поверхности, освобождаясь из-под синевы волн, белела теперь прямо по курсу, словно скатившаяся с гор снежная лавина. Мгновение она сверкала перед ним, а потом так же медленно стала погружаться и исчезла. Потом снова поднялась, белея в волнах. На кита не похоже. «А вдруг это все-таки Моби Дик?» – подумал Дэггу. Белый призрак снова ушел в глубину, и когда он на этот раз показался опять, негр испустил пронзительный вопль, точно кинжалом полоснув дремотную тишину:
– Вон! Вон он! Всплывает! Прямо по курсу! Белый Кит, Белый Кит!
В тот же миг ринулись к брасам матросы, точно роящиеся пчелы к веткам дерева. Ахав с непокрытой головой стоял в лучах утреннего солнца у бушприта, отведя за спину руки, чтобы в любой момент подать знак рулевому, и в жадном нетерпении глядел туда, куда указывала в вышине неподвижная вытянутая рука Дэггу.
Кто знает, может быть, это немой одинокий фонтан своими неизменными возникновениями исподволь так воздействовал на Ахава, что тот готов был теперь связать представление о покое и тишине с образом ненавистного ему кита; или, может быть, его обмануло собственное нетерпение; как бы то ни было, но едва только он разглядел в волнах белую массу, он в тот же миг дал спешную команду спускать вельботы.
Четыре вельбота вскоре закачались на волнах и, возглавляемые личной шлюпкой Ахава, торопливо устремились за добычей. А она между тем скрылась под водой. Подняв весла, мы ожидали ее появления, как вдруг в том самом месте, где она скрылась, она медленно всплыла на поверхность. Забыв и думать о Моби Дике, мы разглядывали самое удивительное зрелище, какое только открывало когда-либо таинственное море глазам человека. Перед нами была огромная мясистая масса футов по семьсот в ширину и длину, вся какого-то переливчатого желтовато-белого цвета, и от центра ее во все стороны отходило бесчисленное множество длинных рук, крутящихся и извивающихся, как целый клубок анаконд, и готовых, казалось, схватить без разбору все, что бы ни очутилось поблизости. У нее не видно было ни переда, ни зада, ни начала, ни конца, никаких признаков органов чувств или инстинктов; это покачивалась на волнах нездешним, бесформенным видением сама бессмысленная жизнь.
Когда с тихим засасывающим звуком она снова исчезла под волнами, Старбек, не отрывая взгляда от воды, забурлившей в том месте, где она скрылась, с отчаянием воскликнул:
– Уж лучше бы, кажется, увидеть мне Моби Дика и сразиться с ним, чем видеть тебя, о белый призрак!
– Что это было, сэр? – спросил Фласк.
– Огромный спрут. Немногие из китобойцев, увидевших его, возвратились в родной порт, чтобы рассказать об этом.
Но Ахав не произнес ни слова, он развернул свой вельбот и пошел к кораблю, а остальные в молчании последовали за ним.
Какими бы суевериями ни окутывали китоловы появление этого существа, ясно одно – зрелище это настолько необычное, что уже само по себе не может не иметь зловещей значительности. Оно встречается так редко, что мореплаватели хоть и провозглашают спрута единодушно самым крупным живым существом в океанах, тем не менее почти ничего не знают толком о его истинной природе и внешнем виде, что, впрочем, не мешает им твердо верить, что он составляет единственную пищу кашалота. Дело в том, что все другие виды китов кормятся на поверхности, человек даже может наблюдать их за этим занятием, между тем как спермацетовый кит всю свою пищу добывает в неведомых глубинах, и человеку остается только делать умозаключения относительно состава его пищи. Иногда во время особенно упорной погони он извергает из себя щупальца спрута, и среди них были обнаружены некоторые, достигающие в длину двадцати и тридцати футов. Полагают, что чудовища, которым принадлежат эти щупальца, обычно цепляются ими за океанское дно, и кашалот в отличие от остальных левиафанов наделен зубами для того, чтобы нападать на них и отдирать их со дна.
Есть, мне кажется, основания предполагать, что великий кракен епископа Понтоппидана и есть в конечном счете спрут. Его обыкновение то всплывать, то погружаться, как это описано у епископа, и некоторые другие упоминаемые им особенности совпадают как нельзя точнее. Но вот что касается невероятных размеров, какие приписывает ему епископ, то это необходимо принимать с большой поправкой.
Часть натуралистов, до которых дошли смутные слухи об описанном здесь загадочном существе, включает его в один класс с каракатицами, куда его по ряду внешних признаков и следует отнести, но только как Енака в своем племени.
Глава LX
Линь
В связи со сценой китовой охоты, описание которой последует несколько ниже, а также в целях разъяснения всех прочих подобных сцен я должен повести здесь речь о магическом, а подчас и убийственном гарпунном лине.
Первоначально лини, употребляемые для промысла, изготовлялись из лучших сортов пеньки, слегка обкуренной смолой, но не пропитанной ею, в отличие от обыкновенных тросов; дело в том, что хотя смола и придает пеньковым прядям гибкости, необходимой при свивании, да и сам трос становится от нее послушнее в руках матроса, тем не менее в обычном количестве смола не только сделала бы гарпунный линь слишком жестким для того, чтобы его можно было сворачивать в узкие бухты, но и вообще, как понимают теперь многие моряки, ее применение отнюдь не увеличивает прочности и крепости тросов, а только придает им гладкости и блеску.
В последние годы на американских китобойцах пеньковые лини оказались почти полностью вытесненными манильскими, потому что волокна абаки, дикого банана, из которых они изготовляются, хоть и быстрее снашиваются, чем пеньковые, зато крепче, значительно мягче и эластичнее, и, кроме того, добавлю я (поскольку эстетическая сторона существует во всяком предмете), они гораздо красивее и приличнее на судне, чем пенька. Пенька – это смуглокожая чернавка вроде индианки, а манила с виду – златокудрая черкешенка.
Толщина гарпунного линя – всего две трети дюйма. С первого взгляда и не подумаешь, что он такой крепкий. Опыт, однако, показывает, что каждая из его пятидесяти одной каболки выдерживает груз в сто двадцать фунтов, и, стало быть, весь трос целиком выдержит нагрузку чуть ли не в три тонны. В длину гарпунный линь для промысла на кашалотов обычно имеет около двухсот морских саженей. На корме вельбота ставят кадку, в которую он укладывается тугими кольцами, не такими, как змеевик в перегонном аппарате, а в форме круглого сыра, плотными, тесно уложенными «наслойками» – концентрическими спиралями, почти без всякого просвета, если не считать крохотного «сердечка» – узкого вертикального отверстия, образующегося по самой оси этого веревочного сыра. И так как малейшая петля или узел при разматывании линя грозит унести за борт чью-нибудь руку, ногу, а то и все тело целиком, линь укладывают в кадку с величайшей тщательностью. Иной раз гарпунеры убивают на это дело целое утро, натягивая линь высоко на снастях и пропуская его вниз через блок, чтобы при сворачивании он нигде не перекрутился и не запутался.
На английских вельботах вместо одной кадки ставят две, и один линь укладывается пополам в обе кадки. Это имеет свои преимущества, поскольку кадки-близнецы бывают значительно меньших размеров, проще устанавливаются в лодке и не так ее перегружают, как американская кадка, имеющая около трех футов в диаметре и соответствующую высоту и для суденышка, сколоченного из полудюймовых досок, представляющая довольно-таки увесистый груз, ибо днище вельбота подобно тонкому льду, который может выдержать немалую нагрузку, если ее распределить равномерно, но тут же проломится, если сосредоточить давление в одной точке. Когда американскую кадку покрывают крашеным брезентом, кажется, будто вельбот отвалил от судна, чтобы свезти в подарок китам чудовищно большой свадебный пирог.
Оба конца у линя выводятся наружу, нижний конец с огоном, или петлей, поднимается со дна кадки по стенке и свободно свешивается через край. Это необходимо по двум соображениям. Во-первых, для того чтобы легче было привязать к нему линь с соседнего вельбота, если подбитый кит уйдет так глубоко под воду, что весь линь, первоначально прикрепленный к гарпуну, грозит исчезнуть в волнах. В подобных случаях кита просто передают, словно кружку эля, с одного вельбота на другой, хотя первый вельбот и остается поблизости, чтобы оказать, если понадобится, помощь своему напарнику. Во-вторых, это диктуется соображениями общей безопасности, потому что, будь нижний конец линя прикреплен к лодке, подбитый кит, иногда утягивающий за собой под воду весь линь за какое-то одно короткое мгновение, не остановится на этом, но неизбежно потянет за собой в пучину моря обреченный вельбот, и тогда уже никаким герольдам и глашатаям его не сыскать.
Перед тем как спустить на воду вельбот, верхний конец линя вытягивается из кадки, заводится за лагрет на корме и потом укладывается во всю длину лодки между двумя рядами гребцов, сидящих у бортов наискосок друг от друга, протягивается прямо через вальки весел, так что при гребле матросы задевают его руками, в самый нос вельбота, где имеется колодка со свинцовым кипом – желобом, из которого ему не позволяет выскользнуть деревянный шпенек длиной с гусиное перо. На носу линь свисает за борт небольшим фестоном, а потом снова перекидывается внутрь; здесь часть линя саженей в десять-двадцать (называемая передовым линем) сворачивается и укладывается тут же, в носу, а остальной линь тянется вдоль борта к корме, где прикрепляется к короткому штерту – тросу, который привязывают к самому гарпуну; однако предварительно этот штерт подвергается всяким замысловатым таинственным манипуляциям, перечислять которые слишком уж скучно.
Таким образом, гарпунный линь оплетает вельбот, обвивая и опоясывая его во всех направлениях. Каждого гребца захватывает он своими гибельными изгибами, и на робкий взгляд новичка кажется, будто это сидят индусские факиры, для развлечения публики увитые ядовитыми змеями. И без привычки ни один сын смертной женщины не усидит спокойно среди этой пеньковой путаницы, налегая со всей силой на весло и думая о том, что в любую, никому не ведомую секунду может быть заброшен гарпун и тогда все эти ужасные извивы мгновенно оживут, словно кольцеобразная молния; невозможно помыслить об этом, чтобы дрожь не пронзила вас до мозга костей, превращая его в трепещущий студень. Однако привычка – удивительно, чего только не сделает привычка! Никогда над красным деревом своего стола не услышите вы таких веселых острот, такого громкого смеха, таких превосходных шуток и находчивых ответов, как над белыми полудюймовыми кедровыми досками вельбота, в котором шестеро матросов, составляющих его команду, словно висельники, подвешены на веревке; они, можно сказать, с петлей на шее движутся прямо смерти в зубы вроде шестерых граждан Кале, явившихся к королю Эдуарду.
Теперь, вероятно, вы без особого труда представите себе причину тех довольно частых на промысле несчастных случаев – изредка отмечаемых даже в печати, – когда разматывающийся линь захватывает матроса и уносит его за борт, в воду. Ибо сидеть в вельботе, когда линь убегает за гарпуном, – это все равно что сидеть внутри работающего на полном ходу паровоза, среди свиста и шипения, когда со всех сторон вас задевают различные крутящиеся валы, снующие поршни и колеса. И более того: ведь, окруженный смертельными опасностями, ты не можешь даже сидеть неподвижно, потому что лодка качается, словно люлька, и тебя без всякого предупреждения швыряет из стороны в сторону; так что лишь благодаря своевременно проявленному искусству балансирования и величайшему напряжению воли и энергии ты сумеешь избежать судьбы Мазепы и не оказаться унесенным туда, куда даже всевидящему солнцу не добраться вслед за тобой.
Но это еще не все. Подобно тому как мертвый штиль, который зачастую только предшествует шторму и предвещает его, кажется нам еще ужаснее, чем самый шторм; ибо штиль – это не более как обертка, оболочка шторма; она заключает его в себе, как безобидное с виду ружье заключает в себе гибельный порох, и пулю, и сам выстрел; точно так же и грациозная неподвижность гарпунного линя, безмолвно вьющегося вокруг гребцов, пока его не привели в действие, – эта неподвижность несет в себе больше подлинного ужаса, чем даже сама опасность. Но к чему лишние слова? Ведь все мы живем на свете, обвитые гарпунным линем. Каждый рожден с веревкой на шее; но только попадая в неожиданную, молниеносно затягивающуюся петлю смерти, понимают люди безмолвную, утонченную, непреходящую опасность жизни. И если ты философ, то и в своем вельботе ты испытаешь ничуть не больше страха, чем сидя вечерком перед камином, где подле тебя лежит не гарпун, а всего лишь безобидная кочерга.
Глава LXI
Стабб убивает кита
Если для Старбека появление спрута служило зловещим предзнаменованием, для Квикега оно имело совсем иной смысл.
– Когда твоя видел спрут, – проговорил дикарь, стоя на носу высоко подвешенного вельбота, где он точил свой гарпун, – тогда твоя скоро-скоро видел кашалот.
На следующий день было так тихо и душно, что команда «Пекода», не имея никаких особых дел, была не в силах бороться с дремотой, навеваемой пустынным морем. Ту часть Индийского океана, где мы теперь шли, нельзя было назвать, как говорят китоловы, бойким местом; здесь гораздо реже можно встретить дельфинов, летучих рыбешек и прочих жизнерадостных жителей моря, чем, скажем, возле Ла-Платы или у побережья Перу.
Был мой черед стоять на верхушке фок-мачты, и, прислонившись спиной к провисшим брам-вантам, я, словно очарованный, размеренно покачивался в вышине. Никакая решимость не могла бы тут устоять, и, теряя в дремоте всякое представление об окружающем, душа моя покинула мое тело, хотя оно и продолжало раскачиваться по-прежнему, подобно маятнику, который долго еще качается, после того как сообщившая ему толчок сила уже больше на него не воздействует.
Но прежде чем забытье полностью овладело мной, я успел заметить, что дозорные на гроте и на бизани уже спят. И вот теперь мы все трое безжизненно повисли на снастях, а внизу в такт нашему покачиванию клевал носом рулевой у штурвала. И волны тоже лениво покачивали своими гребнями, и через сонную ширь океана Запад кивал Востоку, а сверху кивало солнце.
Вдруг словно пузырьки пошли у меня перед закрытыми глазами, руки мои, точно тиски, сжали трос – кто-то невидимый и милосердный уберег меня от погибели; я встрепенулся и пришел в себя. И вижу: там, с подветренной стороны, не дальше как в сорока саженях от «Пекода», плывет по волнам гигантский кашалот, словно перевернутый корпус фрегата, сверкая в солнечных лучах, точно зеркало, широкой блестящей спиной эфиопского оттенка. Лениво покачиваясь в океанском лоне и безмятежно пуская время от времени пары своего фонтана, он похож был на дородного бюргера, покуривающего после обеда трубочку. Увы, бедный кит, эта трубка для тебя последняя. Словно по мановению волшебной палочки, сразу же пробудился сонный корабль со всей своей спящей командой, и два десятка голосов с разных концов судна одновременно с тремя дозорными затянули привычный клич, глядя, как огромная рыба медленно и равномерно посылает к небу сверкающие столбы соленых брызг.
– Приготовить вельботы! Привести к ветру! – выкрикнул Ахав и, подчиняясь собственной команде, круто положил штурвальное колесо, не дожидаясь, пока рулевой перехватит рукоятки.
Внезапный крик на судне, должно быть, вспугнул кита; и прежде чем мы успели спустить вельботы, он величаво развернулся и поплыл прочь с таким, однако, невозмутимо спокойным видом, что за ним почти не пенилась вода; так что Ахав, надеясь, что все-таки, может быть, он нас еще не заметил, приказал, чтобы на лодках разговаривали шепотом и гребли не веслами, а короткими гребками. И мы, усевшись на борта вельботов, точно индейцы на Онтарио, быстро и молча заработали гребками, потому что из-за штиля не могли воспользоваться бесшумными парусами. Так мы неслись к добыче, но вдруг чудовище взмахнуло своим огромным хвостом, отвесно подняв его футов на сорок из воды, и ушло в глубину, точно проглоченная разверзшейся пучиной башня.
– Хвост показал! – послышался крик, и сразу же вслед за тем Стабб вытащил спичку и принялся раскуривать свою трубку, ибо наступила передышка. Когда прошел обычный срок погружения, кит вынырнул и оказался теперь прямо перед вельботом курильщика, и, так как другие лодки были значительно дальше, Стабб мог рассчитывать, что честь удачной охоты на этот раз достанется ему. Было очевидно, что кит заметил преследователей. И потому молчание и прочие предосторожности оказались теперь ни к чему. Гребки отложили, и матросы шумно заработали веслами. А Стабб, все еще попыхивая трубкой, стал подбадривать и подгонять свою команду. Да, теперь поведение чудовищной рыбы резко изменилось. Подстегиваемая сознанием грозящей опасности, она шла, выставив над водой голову, которая косо выступала из густого облака клокочущей пены.[23]23
Ниже будет рассказано о том, какое легкое вещество заполняет всю огромную голову кашалота. Хотя и самая массивная с виду, она является наиболее плавучей его частью. Так что он без труда может поднимать ее в воздух, что он и проделывает, когда ему приходится двигаться с особенно большой скоростью. К тому же передняя часть его головы имеет сверху такую ширину и такую обтекаемую скошенную форму снизу, что кашалот, приподнимая голову над водой, как бы превращается из тихоходного тупорылого галиота в остроносый нью-йоркский лоцманский бот. – Примеч. автора.
[Закрыть]
– Гони его, гони его, ребята! Только не надо торопиться, времени у нас уйма – вы только гоните его, дайте ему как следует! – кричал Стабб, и дым вырывался у него изо рта. – Ну-ка покажите ему; подгреби разок посильнее, Тэштиго. Покажи ему, Тэш, мой мальчик, покажи ему, ребятки; но, но, полегче, полегче, не горячиться, огурчики мои, полегче, знай только гони его, как смерть и тысяча чертей, чтобы мертвые повыпрыгивали из могил, вот только и всего. Гони его!
– У-ху-у! Уа-хи-и! – завизжал в ответ индеец из Гейхеда, издавая древний боевой клич своего народа, и в нетерпении так сильно рванул по воде веслом, что всех гребцов шатнуло назад.
На его дикий вопль отозвались другие голоса, такие же дикие и свирепые.
– Ки-хи-и! Ки-хи-и! – кричал Дэггу, подаваясь то вперед, то назад у себя на банке, точно мечущийся в клетке тигр.
– Ка-ла! Ку-лу-у! – завывал Квикег, причмокивая, словно над огромным сочным куском бифштекса.
Так, веслами и воплями, резали лодки морскую гладь. А Стабб, по-прежнему возглавляя погоню, все подбадривал своих людей и попыхивал дымом. Как безумные, надрывались матросы, пока наконец не раздался долгожданный приказ: «Вставай, Тэштиго! Влепи ему!» Полетел гарпун. «Табань!» Гребцы заработали веслами, и в то же мгновение что-то горячее со свистом заскользило по их запястьям. Это был магический линь. На секунду раньше Стабб успел еще два раза закинуть его за лагрет, и теперь из-за невероятной быстроты, с какой извивались кольца линя, над лагретом подымался голубоватый пеньковый дымок, смешиваясь с равномерными клубами табачного дыма. Перед тем как свиться в кольца вокруг лагрета, линь, обжигая, бежал у Стабба между ладонями, с которых как раз соскочили рукавицы – квадратные куски стеганой парусины, предусмотренные на такие случаи. Это было все равно, что держаться за лезвие обоюдоострого меча, который противник всячески старается выкрутить и выдернуть у тебя из рук.
– Смочи, смочи линь! – крикнул Стабб гребцу, сидевшему у кадки, и тот, сдернув с головы зюйдвестку, зачерпнул в нее воды.[24]24
Чтобы хоть частично показать читателю, насколько это необходимо, замечу, что в старину на голландских китобойцах для смачивания линя пользовались шваброй, а на других судах часто выделяли для этой цели специальный деревянный черпак. Однако шапкой это делается проще всего. – Примеч. автора.
[Закрыть] Линь еще несколько раз обмотали вокруг лагрета и закрепили. Теперь вельбот, точно акула, летел среди клокочущей пены, а Стабб и Тэштиго обменялись местами – Тэштиго прошел на корму, а Стабб на нос, – что было довольно шатким делом при такой качке.
Натянутый над лодкой линь так и дрожал, тугой, как струна; и казалось, что у вельбота два киля: один режет воду, а другой воздух, чтобы вельбот мог мчаться в пене, преодолевая разом обе враждующие стихии. Непрестанный веер брызг разлетался от носа, нескончаемый водоворот бурлил за кормой, и стоило кому-нибудь в лодке шелохнуться, пошевелить хотя бы мизинцем, и стонущее, вибрирующее суденышко судорожно ложилось бортом на воду. Так мчались они вперед, и каждый что было сил цеплялся за банку, чтобы не оказаться выброшенным в море, а высокий Тэштиго с рулевым веслом в руках согнулся в три погибели, перемещая этим книзу свой центр тяжести. Казалось, на этом летящем вельботе они пронеслись уже через всю Атлантику и через весь Тихий океан, но тут наконец кит начал понемногу сбавлять скорость.
– Выбирай! Выбирай! – крикнул Стабб переднему матросу. И вся команда, повернувшись лицом в сторону кита, стала на ходу подтягивать к нему вельбот. И вот они идут уже бок о бок. Стабб, твердо упершись коленом в бросальный брус, стал швырять в кита острогой, а гребцы по его команде то табанили, чтобы вырваться из кипящей пены, то подгребали снова, чтобы он мог нанести удар.
По бокам чудовища струились красные потоки, словно ручьи, стекающие с холма. Его пронизанная болью туша билась теперь не в воде, а в крови, которая бурлила и пенилась даже на сотню саженей позади них. Косые лучи солнца играли на поверхности этого алого озера посреди моря, бросая отсветы на лица матросов и превращая их в краснокожих. А между тем из китовьего дыхала снова и снова судорожно выбивались столбы белого пара, и клуб за клубом вырывался дым изо рта у командира вельбота; швырнув острогу, Стабб вытягивал ее, погнутую, за привязанный к ней линь и, выправив немного двумя-тремя торопливыми ударами о край борта, еще и еще метал ее в кита.
– Подгребай, подгребай! – раздался новый приказ, когда ярость изнемогающего кита, казалось, истощилась. – Подгребай ближе! – И вельбот подошел к китовому боку. И тут, перегнувшись далеко за борт, Стабб медленно воткнул в тушу рыбы свою длинную острую пику и стал осторожными толчками загонять ее глубже и глубже, точно нащупывая в теле кита золотые часы, которые чудовище проглотило и которые теперь он боялся разбить, прежде чем сумеет вытащить. Но золотыми часами, которые он выискивал, была сама сокровенная китовая жизнь. Вот он достиг ее, и, выйдя из оцепенения, чудовище стало с такой силой биться в море собственной крови, подняв вокруг непроницаемую завесу бешено клокочущей пены, что лодка под угрозой гибели, в тот же миг подавшись назад, с трудом выбралась из этих диких сумерек на свет Божий.
Потом неистовство кита улеглось, он снова показался перед вельботами, бока его вздымались и опадали, дыхало судорожно расширялось и сжималось, издавая в агонии хриплые короткие вздохи. Вдруг фонтан густой темно-красной, точно черный винный осадок, крови взметнулся в охваченный ужасом воздух, и, падая обратно, кровь заструилась по его неподвижным бокам, стекая в море. Сердце его разорвалось!
– Он мертв, мистер Стабб, – сказал Дэггу.
– Да, обе трубки догорели. – И, вынув изо рта свою трубку, Стабб развеял над волнами остывший пепел и постоял мгновение, в задумчивости разглядывая огромный труп – дело рук своих.








